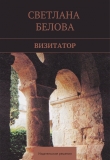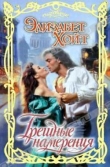Текст книги "С людьми древлего благочестия"
Автор книги: Николай Лесков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
ПЕТЕРБУРГ И ПЕРВЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ВЫУЧЕННОГО С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
Представлялось нужным определить состояние раскольничьей педагогии в наиболее самостоятельной общине. Лично мне желалось ближе подойти к современному раскольническому общинно-хозяйственному управлению, о котором толкуется все на основании давно былого, а одна поморская община, получающая новую организацию, спала и видела устроиться так, как живут благоденствующие федосеевцы, издавна поселенные в остзейском крае и преимущественно в городе Риге.
С нынешней весны, то есть со времени, в которое во многих дезорганизованных раскольничьих общинах стали определеннее выражаться стремления к более или менее правильному устройству, рижская федосеевская община получила новый и огромный интерес для русского раскола.
У русских раскольников, имеющих некоторое понятие о рижской общине беспоповцев, община эта представляется идеалом всестороннего благоустройства и желанной свободы.
Из раскольников ближе всех знакомы с рижскою общиною московские федосеевцы и беспоповцы поморского согласия, рассеянные по северо-западному краю России, Литве и Царству Польскому.
Общее желание раскольников устроиться во всех частях своего общественного быта по рижскому образцу рождает огромный интерес к ближайшему изучению этой общины, возбуждающей всеобщую зависть.
Известно, что начало систематическому воспитанию малолетних раскольников в общественных школах положено московским купцом Ильею Васильевичем Ковылиным в первой четверти текущего столетия. Из «Истории Преображенского кладбища в Москве» мы знаем, что в одном из зданий этого кладбища было устроено Ковылиным училище, где мальчики с бойкими способностями обучались чтению и письму церковному под руководством наставника Осипова. Потом очередные наставники толковали им катехизис. Образование заканчивалось изучением главных пунктов отличия федосеевского учения от учения православной церкви.
Для учеников была открыта кладбищенская библиотека, состоявшая из старопечатных книг и раскольничьих сочинений, которою они пользовались под руководством своих учителей.
Люди, имевшие возможность близко ознакомиться с старыми делами Преображенского кладбища, старались доказать, что «все образование кладбищенской школы было направлено к тому, чтобы внушить детям отвращение к церкви и церковникам-никонианам» (из ист<ории> Преобр<аженского> кладбища, л. 44-й).
Принимая во внимание общие тенденции раскола и исключительную политику покойного Ковылина, нет оснований опровергать сделанный вывод о направлении Преображенской кладбищенской школы в самое цветущее время ее существования.
Познания о науках и искусствах, выносимые воспитанниками из этой школы, вообще были до крайности бедны. О науках, способствующих развитию самостоятельного мышления, в ковылинской школе не было и помина. В ней учили счислению, но и то слегка, настолько, насколько это необходимо по соображению русского лавочника. В искусствах шли тоже очень немного дальше. «Некоторые из членов кладбищенской школы приобретали замечательное искусство писать по-уставному и потом занимались переписываньем богослужебных книг, которые по дорогой цене продавались в конторе кладбища иногородным федосеевским общинам и зажиточным федосеевцам. Другие занимались иконописным искусством и делали копии с древних икон, иногда так удачно, что самые знатоки с трудом могут отличать копию от оригинала. Весьма искусно воспитанники умели подделываться и под древние рукописи, изменяя при том и самый цвет бумаги и соблюдая малейшие остатки древности».
В этом заключалось общественное образование в большой ковылинской школе на Преображенском кладбище, и в этом же оно заключалось во всех общинах федосеевского согласия в губерниях: Ярославской, Тверской, Нижегородской, Рижской, Казанской, Симбирской, на Дону и Кубани. Словом, во всех общинах, находившихся во время Ковылина в зависимости от Преображенского кладбища. Иначе это и не могло быть, потому что все эти общины «получали от кладбища наставников и покупали в его конторе свои книги».
В таком положении раскольничья педагогия дожила до последних дней первой четверти текущего столетия. С этого времени всякое проявление их общественности начало преследоваться с строгостью, от которой раскольники отвыкли во времена Екатерины II и Александра I. Энергические меры, предпринимавшиеся против раскола в царствование Павла Петровича, по кратковременности этого царствования, не стушевали начатков раскольничьего самоустройства в екатерининское время; но после смерти императора Александра все это пригнулось, спряталось, и к нашим дням не осталось уже ни одной открытой раскольничьей школы. Даже и общинно-хозяйственное самоуправление местами вовсе исчезло, а местами замаскировалось так ловко, что изучение его представляет очень много трудности для каждого человека, имеющего хоть какое-нибудь непосредственное сношение с правительством. Одна рижская община, благодаря своему отдаленному положению в остзейском крае и другим более или менее благоприятным обстоятельствам, сохранила до сих пор свое отдельное хозяйственное самоуправление. Она имеет благолепную каменную молельню, с пятью «духовными отцами», хором обученных крюковому пению певчих, больницею, домом для призрения дряхлых и общественною подгороднею мызою Гризенберг. Но открыто существовавшую до 1829 года школу и рижская община утратила. С этого времени и она обходится только с секретными школками, устроенными в частных домах и существующими под великим страхом и великою данью у местной полиции.
Держась своего предмета, я буду по возможности касаться всех частей устройства рижской общины, но прежде всего я нахожу нужным сказать несколько слов о духе самого раскола в общинах рижской и псковской. Это совершенно идет к моему предмету.
Тем самым, что раскольники Риги и Пскова со времен Екатерины находились в полной моральной зависимости от московского Преображенского кладбища, обыкновенно определяют дух их вероучения. Их до сих пор считают федосеянами или феодосиевцами, то есть последователями дьячка Крестецкого яма Феодосия, отделившегося от поморского согласия. Секта федосеевцев в истории русского раскола важна не менее секты поморской, следующей учению даровитых братьев Денисовых, распространявшемуся по России из Выгорецкой киновии. Обе эти секты признают благодать преемственного рукоположения исчезнувшею, считают господствующую церковь изменившею своим древним, законным правилам, отвергают духовенство как санктифированное сословие и, следовательно, отвергают возможность самой евхаристии. Разница между поморцами и феодосиянами главным образом заключается в том, что поморцы допускают брак, освящая его благословением родителей и отца духовного, и молятся за царя; а федосеевцы не допускают брака и не только не молятся за царя, но и молящихся за него «поморян», в насмешку над их трусостью перед Самариным, называют не «поморянами», а «самарянами», намекая таким образом на начало богомоления за власть в Выгорецкой обители «страха ради Самарина», чиновника, производившего там следствие. Брак у федосеевцев отвергается прямо, как последствие отвержения священства; «венчать некому», говорят, «да и время не то: антихрист невидимо царствует, и настали дни, в которые не довлеет ни женитися, ни посягать». А за царя не молятся потому, что «он не благоверный», то есть не старой, не благой веры, «сын ереси», «эллин», и наконец просто так не молятся, потому что не в обычае за него молиться. Это «так» замечается и у чистых верноподданнейших поморцев, которые, например, молятся за царствующего государя, как «за власть предержащую», но за умершего молиться не хотят, даже страха ради самаринского. Это одинаково относится ко всем умершим государям: Петру I, Павлу Петровичу, Николаю Павловичу и особенно уважаемым всеми старообрядцами Екатерине II с Александром I, которых хотя они тоже не позволяют себе назвать «благоверными», но всегда признают «благочестивыми».
Судя лишь по одним этим отличиям учения поморского от учения федосеевского, можно до некоторой степени объяснить себе причины прежнего правительственного неблаговоления к федосеевцам. Но оснований и смысла преследования скромнейших и верноподданнейших поморцев, обижаемых властью и осмеиваемых за свое «самарянство» своими же братьями раскольниками других согласий, понять невозможно. Это объясняется только разве огульным взглядом на раскол и его тенденции да отсутствием в администрации людей, знакомых с духом раскола.
Однако обе главные беспоповщинские секты, поморцы и федосеевцы, в течение двух веков подвергались совершенно одинаким преследованиям гражданской и духовной полиции, и даже можно сказать, что наивным петербургским поморцам часто доставалось гораздо больнее, чем федосиянам, московские вожаки которых отлично знали топографию домов некоторых влиятельнейших лиц прошедшего времени.
Я упоминаю об этом для того, чтобы заметить несообразность огульного закрытия разом всех первоначальных школ в общинах раскольников разных согласий. Сказав раз, что я не имею основания опровергать заключений, сделанных о духе преподавания в школе Ковылина, где будто бы двумстам мальчикам внушалось «отвращение к церкви и церковникам-никонианам», я позволю себе, однако, указать на раскольничью генерацию, народившуюся тогда, когда уже не существовало зловредной ковылинской школы, да не было и вообще никаких раскольничьих школ. Генерация эта взросла в круглом невежестве и воспитала в себе сугубое «отвращение к церкви и церковникам-никонианам». Тут дело совсем не в школе…
Поездке моей в Ригу, как уже сказано, предшествовало заявленное раскольниками поморского согласия желание усвоить себе порядки рижской общины и завести школы по образцу рижских раскольничьих школ.
Зная из истории раскола нравственную связь рижских раскольников с московским Преображенским кладбищем, я никак не мог понять, как возникло у поморцев сочувствие к общине, приверженной федосеевщине, и, выехав из Петербурга, не поехал прямо в Ригу, а остановился сначала в Пскове.
ПСКОВ
Здесь, благодаря содействию одного старого моего товарища, я сошелся с купцом X., человеком весьма здравомыслящим, очень богатым, большим ревнителем раскола и, кажется, несомненным другом властей, à lа Ковылин. Этот Меттерних «древлего благочестия» ни о ком не говорит худо, ни о православном архиерее, ни о властях, ни о «Колоколе» и его редакторе. У него все хорошие люди, и все это выходит так ладно, что, например, и власти, обруганные в «Колоколе», совсем правы, и «Колокол» ни в чем не виноват. Так и до всего. За то он у всех и в чести, и в милости, и в силе, и даже в славе: у раскольников он столп, за который все стараются держаться и который сами все подпирают. Отец его много пострадал за веру и, спокойно вынося все гонения, удержал своим примером других, изнемогавших под тягостью правительственного преследования. Сын идет дорогою своего отца.
Здесь мне интересно было узнать, какой именно раскол держится в пределах псковских и что за учение у рижан. Я, разумеется, ждал встретить федосеевцев. Но при всех моих столкновениях и новых знакомствах с псковскими раскольниками рабочего класса я не мог добиться: какого они держатся толка? Прямо на этот вопрос ни один из людей, с которыми я познакомился до встречи с X., не мог дать мне хотя мало-мальски положительного ответа. Сначала я считал это лукавством, но потом убедился, что безграмотные раскольники, которых немало между псковичами, действительно ничего не знают о своем вероучении и ничего не могут сказать кроме того, что они «по древлему благочестию». Оставленный в одной простой, весьма многочисленной раскольничьей семье с одними женщинами разных возрастов, я из разговоров с ними убедился, что имею дело и не с чистыми поморцами, и не с федосеевцами. Из всего мною слышанного от женщин выходило что-то странное, новое и непонятное, не то федосеевщина, не то поморство. В X. я уже встретил человека, способного и, кажется, желавшего не только отвечать на все вопросы, но даже и спорить, и совещаться. Благодаря ему для меня стали ясны многие, прежде непонятные стороны симпатии поморян учреждениям рижской общины.
Оказалось, что самые псковичи и рижане давно уже капитально разошлись с московскими федосеевцами и значительно сблизились с поморством. Сближение это у псковичей последовало гораздо резче, чем у рижан, хотя и некоторые рижане уже открыто называют себя «православными» или «староверами феодосиевско-поморского согласия». Но в толковании рижан есть еще весьма, впрочем, незначительные остатки феодосиевских воззрений на брак, тогда как у псковичей взгляд на брак выработался гораздо чище, чем у самих поморцев. Последнее обстоятельство зависело от быстрого распространения здесь учения приходящего сюда из Пруссии инока Павла, против которого в третьем году собирался в Москве, в доме купца М., раскольничий собор. На этом соборе эмигрант Павел вел жаркие теологические споры с раскольниками, принимающими священство, и препирался о браках с федосеевцами. По уверению одних, он защищался слабо, по словам же других, блистательно указал чистоту своего учения. Но как бы там ни было, секретный собор, так недавно собиравшийся на Павла, не только не уронил его значения, но даже содействовал быстрейшему его успеху в общинах многих поморян и феодосеевцев. Это и неудивительно, ибо новое Павлово учение, с которым я буду иметь случай подробно познакомить читателей, своею замечательною логичностью и чистотою не может быть опровергаемо софизмами феодосеевщины и всегда найдет у беспоповцев более сочувствия, чем доводы поповцев, держащих «попов краденых». Кроме того Павел спорил, обличал и доказывал, а на него орали, неистовствовали, ругались и обрекали клятвам и отлучению от сонма. Люди убеждения остались на стороне Павла, и учение его идет, производя новый и весьма благодетельный раскол в расколе. Феодосеевцы, убеждаясь учением Павла, во многих местах согласились, что человек, открыто живущий с женщиной и заботящийся о семье, недостоин никакого ограничения в своих правах и что, напротив, такое житье естественно и законно. Словом, начали признавать брачную жизнь нравственною и, следовательно, таким образом возвратились в лоно того же чистого поморства, от которого их оторвала распря дьячка Феодосия. Рижане же, до которых не дошло павловское учение, остаются при прежней смешанности феодосеевских и поморских понятий о браке. Они допускают брак «по слабости человеческой», и акт обручения у них совершается в моленной при участии духовного отца, но женатый человек и замужняя женщина со дня своего брака теряют некоторые виды полноправия. Так, они лишаются права молиться со всеми вместе; не могут стоять на клиросе и вообще как бы пребывают под вечною эпитимиею и нередко под старость заявляют намерение перейти «в девство», то есть муж с женою прекращают всякие супружеские сношения и даже иногда расходятся жить в разные дома. Это единственный остаток в рижанах феодосиевского духа, неразлучным спутником которого идет и своя доля феодосеевского лицемерия. Так, например, девственник избегает собеседования с прежней подругою, но, идя в субботу в баню, заходит к ней «за веником» и остается вдвоем с нею сколько ему угодно, занимаясь чем угодно им обоим. Над этим смеются вообще все поморцы, и особенно поморцы, наученные Павлом, поборником чистейшего, свободного брака и вообще чрезвычайно нравственным проповедником. Никаких следов какого бы то ни было тайного вредного учения я не заметил во Пскове и знал хорошо, какого сорта люди будут моими новыми знакомыми в Риге.
Затем стояло на очереди дело о школах. Нет никакого сомнения, что в Пскове есть секретные школы, но мне их не удалось видеть, по причине неожиданного отъезда X. в Петербург. К тому же необходимость расспросов о самом духе псковского и рижского раскола, может быть, несколько вредила мне в мнении самого X., хотя он, кажется, совершенно мне верил, водил в свою домашнюю моленную, принимал бесцеремонным гостем и подарил два томика сочинений Павла, напечатанных в Пруссии. Эти две книжки были для меня дорогим приобретением, давшим мне возможность близко познакомиться с замечательною личностью Павла и духом его учения.
Открыто существующих школ в Пскове было две: одна, весьма значительная, в доме купца Пыляева, а другая неподалеку от бывшей на берегу реки Псковы моленной, обращенной впоследствии под солдатскую музыкантскую школу, но оба эти училища около 20 лет назад по распоряжению правительства закрыты или, как выражаются псковичи, «разорены властью сильных и безбожных». О преподавании, бывшем в этих школах, прямым путем узнать было ничего невозможно. Одни говорят, что «учили азбучке, цифирю, арифметике, часослову, да петь по цолям (по солям), да и только». Два-три человека, с которыми я сошелся довольно близко, тоже ничего более подробного мне не сообщили. Оставалось одно средство: сходиться с состаревшимися учениками уничтоженных правительством школ и сходиться с женщинами «мастерицами», то есть учительницами. В этом мне вполне посчастливилось. Но ни из самого близкого и самого бесцеремонного знакомства с бывшими учениками уничтоженных школ, ни из книг, по которым учились молодые женщины теперешнего поколения, я не видел, чтобы в псковских школах тоже «все образование было направлено к тому, чтобы внушить детям отвращение к церкви и церковникам-никонианам». «Отвращение к церкви и церковникам-никонианам» существует у псковских раскольников в той самой мере, в какой эти чувства питают все беспоповщинские староверы поморского согласия; но это отвращение в молодых сердцах воспитывается вовсе не в школах, а в самой жизни. Несмотря на то что при обучении детей употребляются учебники, не одобренные правительством, в них нет ничего возбуждающего неприязненные чувства к господствующей церкви. Это буквари секретной печати (издаваемые в Польше, Познани и в какой-то казенной или синодской типографии – не то в Москве, не то в Петербурге), старые часословы и старопечатные псалтыри. Где именно печатаются буквари, так называемые «русские правильные», узнать невозможно. В одном месте слышишь, что их «солдатик делает» где-то далеко; в другом, что их печатают в казенной типографии, а в третьем, что это произведения типографии синодальной. Но везде этих «правильных русских» букварей много и продаются они оптом по 8 к<опеек> за штуку, а в отдельной продаже по 15 коп<еек> за экземпляр. Из приобретенных мною трех различных букварей (прусского, польского и русской секретной печати) нельзя не убедиться в девственной невинности этих изданий, преследуемых и отбираемых полицией всякий раз, когда операция эта по местным соображениям не противоречит живым интересам хранителей благочестия и порядка. Буквари секретной печати почти сходны во всем с букварями, издаваемыми по распоряжению синода для обучения грамоте детей старообрядцев, приписанных к единоверческим церквам. Даже некоторые беспоповцы разных толков учат детей и по букварям единоверческим. Что же касается до псалтыри и часословов, то, разумеется, они отличаются от употребляемых в господствующей церкви только несколько большим несовершенством перевода и тяжестью языка дониконовского времени. Никаких политических выходок, никакого задора, порицания и глумления против учреждений господствующей церкви там нет, да и быть-то не может.
«Отвращение к церкви и церковникам-никонианам» внушается раскольничьим детям прежде всего дома матерями да бабушками и частию отцами родными и отцами духовными (батьками). Потом смутно понимаемая ребенком разница «древлего благочестия» от «новой веры» сознается ими яснее при виде стеснений, воздвигаемых никонианами против «древлего благочестия». Слушая частые семейные разговоры о необходимости известных мер предосторожности против доносов по управе духовного благочиния, ребенок с детскою чуткостью проводит параллель между смиренно ходящим «батькою», внушающим, что не та вера, «которая мучит, а та, которую мучат», и другим лицом, предлагающим на выбор Сибирь или православие. Конечным результатом этого сопоставления есть ненависть и презрение к духовенству господствующей церкви и теплое сочувствие батькам. Затем сильное чувство бессильной ненависти воспитывается многочисленными сочинениями по истории преследований, предпринятых в течение двухсот лет для подавления невинного «фанатического заблуждения». Этих сочинений, и печатанных, и писанных полууставом (в чем искусны не одни ученики ковылинской школы), весьма много, и они-то доканчивают дело русско-христианского разъединения, предпринимаемое всегда во имя единого пастыря. Школы здесь ровно ни при чем. Весь процесс систематического озлобления раскольничьего юношества начинается для него до школы и оканчивается за нею. А чему учат в школах, то, снова повторяю, нимало не способно «внушать отвращение к церкви и церковникам-никонианам». Да и ни книг таких, по дороговизне их, в школах нет, и учителя, выбираемые из «простецов» и людей самых плохоньких, слишком ничтожны для того, чтобы заниматься такой пропагандой. Кроме букваря, часовника и псалтыря, начал счисления, крюкового пения и письма уставом ничему не учили в уничтоженных правительством псковских школах и ничему не учат у нынешних «мастеров» и «мастериц». Псковские раскольники очень сильно мечтают о разрешении им учредить для своих детей отдельную школу, но у них нет никакого определенного представления о том, как учредить эту школу и чему в ней обучать. При настойчивом домогательстве поставить псковского старообрядца в необходимость дать более или менее ясный ответ о его соображениях насчет школы, можно добиться только одного, что школа должна быть отдельная; что раскольники не могут позволить своим детям мешаться с «нововерами» и что нужно учить по старым книгам. А учить «по старым книгам», как я уже сказал, это значит учить букварю, псалтырю да часовнику. Раскольники вообще очень любят вздыхать и жаловаться на свое невежество, ставя это, разумеется, в прямую вину правительству и духовенству господствующей церкви; но в сущности и у самих их не замечается ревности к образованию своих детей. «Всему надо бы, говорят, поучить понемножку; много нам не требуется по нашему сословию, а понемножку бы следовало». Живая русская сметка вслух подсказывает хранителю «древнего благочестия», что непроглядная тьма нелепого буквоедства не выдержит животворящих лучей просвещения, и раскольник боится этого света. Он желает выбрать из массы научных знаний для своего юношества исключительно лишь те, которые бы дали молодому раскольничьему поколению средства быть поспособнее к ловкому обделыванию дел с людьми современного развития, но самого человеческого развития раскольник боится более страшного суда и даже более потери полтинных барышей на рубль, дающих средства покупать совесть того или другого случайного человека. Можно утвердительно сказать, что если дело школ предоставить самому «древлему благочестию» без педагогической инициативы министерства народного просвещения, то в этих школах будут учить только тому же букварю, часовнику и псалтырю, да разве прибавят малую часть арифметики, так как это нужно по торговой части, и еще, пожалуй, поучат немецкому языку потому, что он также нужен по торговой же части. Но ни географии, ни истории, ни, Боже спаси, физике и другим естественным наукам ни за что учить не вздумают, так как все это, по их мнению, вредно. Да не говоря об этих науках, даже все мои усилия доказать необходимость изучения ребенком библейской истории прежде скучного часовника и вдохновенных, но непонятных ребенку поэтических воздыханий Давида обыкновенно оставались безуспешными. У них есть несчастный, чисто католический взгляд, что «рабу» вовсе не нужно знать Евангелия и даже «не достоит чести его в доме», а особенно человеку, который еще «миршит», то есть не бросил своей подруги; а ему следует только молиться, и поэтому часовник с псалтырем нужнее всего. Вот тут еще можно указать на одну резкую черту, отличающую раскольников от еретиков, черту, о которой ничего не сказал г. Мельников. В то же время, как раскольник трепетно боится дать сыну широкое, здравое образование, ясно сознавая, что при образовании нельзя оставаться ни феодосеевцем, ни поморцем, ни филипповцем или тем паче королевцем, некоторые еретики особенно придлежат науке, а духовные христиане (особенно субботствующие), отвергая сверхъестественное рождение Христа от девы, отрицая необходимость всех таинств, а также признавая почитание икон идолопоклонством, утверждают, что крещение есть учение, и не только подобострастно чтут ученых людей, но даже часто считают их своими. Субботствующие молокане нередко говорят: «Чтό мы за еретики? Все вы такие же еретики. Толк-то в нас один живет». В Пскове есть один духовный отец («батька»), живущий под секретом и служащий, как мне кажется, в небольшой, но прекрасной домовой молельне, ибо общественная молельня тоже правительством уничтожена, но я не мог побеседовать с этим отцом, потому что его не было в городе. В среде же его паствы (не говоря о X.) я встретил невежество поражающее, становящее в тупик и преисполняющее глубокого сожаления к этим людям, бродящим с непроницаемою повязкою на помутившихся от поклонного кивания глазах. Ни истории Ветхого Завета, ни новозаветных событий, ни истории собственного раскола и разницы его с другими ветвями староверчества почти никто не знает. «Мы по-старому», да и все тут. Вот образчик, до чего простирается здесь раскольничье невежество: мне удалось сойтись с одним здешним умником, начетчиком, человеком лет 40 или 45. С первого взгляда мне показалось, что я имею дело с узколобым фанатиком, зачитавшимся так называемых в древлем благочестии «толстых книг». Умник тотчас начал вызывать меня на решение теологических вопросов, разумеется, давно решенных им по его «толстым книгам», и срезал меня. Говорили мы о Никоне, о сугубой аллилуие, о имени Иисусовом, – во всем я оказался сведущим.
– Ну да, – говорит мой искушатель, – а что как вы о мирском имени Христовом разумеете?
После моих усилий разъяснить себе вопрос оказалось, что у Христа есть еще какое-то мирское имя. Я говорю: Исус.
– Ну это одно.
– Христос.
– И это так! а еще?
– «Еммануил, еже есть сказаемо, с нами Бог», – говорю я.
– Нет, мирское-то, мирское, – добивается мой умник.
Ничего я не мог придумать и, побежденный, сознавая свою несостоятельность, просил открыть мне это мирское имя Иисуса Христа. Ну и оказалось, что, по сведениям моего экзаменатора, Христа звали еще «Яковом».
Отчего же это? Где на это указание? Дело очень просто. В тропаре поется «яко бо прославися» – из этого сделано «Яковом прославился». Впоследствии я слышал это сказание еще от двух крестьян, из которых один был прядильщик из Орловской губернии. К довершению прелести должно сказать, что со времени уничтожения школ в среде псковских раскольников завелось много безграмотных, и если бы здесь не Павел с своим апостолом X., то псковская община, кажется, давно способна бы пожалуй выкинуть такую же штуку, какую, по слухам, отлили недавно тысячи пермских поморцев, обращенных одной бабой из поморства в безбрачную феодосеевщину. Благодаря обстоятельствам, по милости которых эмигрировавший инок Павел может навещать покинутое отечество, произошло противное. В Пскове брачатся, молятся за царя и вообще все народ такого свойства, что дай на них посмотреть самому строгому инспектору, он непременно запишет им пять в поведении, только боюсь, не было бы у них ноля в успехах.
О предметах преподавания, как я уже сказал, мне было нечего говорить, я стал заводить речь об учителях. На этот предмет у псковских раскольников взгляд очень ясный, и они здесь показали себя людьми довольно сговорчивыми. Прежде всего им, разумеется, желательно иметь в своей начальной школе своего (то есть раскольника же) и учителя. Но рядом систематически приведенных доказательств, что у них нет или очень мало людей, способных выдержать экзамен, хотя бы на звание приходского учителя, а без экзамена учителя нельзя допустить, мне удалось вызвать их на раздумье. Конечно, прежде всего вышло, что это не их вина, что «это все власть наделала», но когда я, устраняя причины, ставил только факт, существование которого изменить нельзя и с которым уже надо что-нибудь поделать, то высказалось такое мнение: «Учителя можно принять и православного, лишь бы по нашему выбору, а попа чтоб духу не было».
Так как это мнение сильно поддерживает X., то я не сомневаюсь, что его будет держаться вся псковская и все окрестные общины с тою же настойчивостью, с какою они при отце своего патрона держались веры, которую в то время мучили. О соединенных же школах вместе с православными даже слышать не хотят и наотрез говорят, что «детей не пустим». По моему мнению, о таких школах нечего и думать. Это будет новая прибавочка в длинном ряду печальных полумер, раздражающих народные инстинкты и возбуждающих ропот и неудовольствие в людях, преданных правительству и ожидающих от него великие и богатые милости.
Этим оканчиваются мои школьные разведки в Пскове, который я по счастливой догадке сделал преддверием моего вступления в немецкий город русского царства.
Я не могу пускаться в рассказ об особенностях нрава и обычая псковских беспоповщинских староверов, потому что обстоятельства не позволяли мне засиживаться в Пскове. Я здесь только старался уяснить, что за религиозный дух я встречу в Риге, составлявшей для меня всю цель моего пилигримства.
Во время пребывания в Пскове я жил в гостинице, – даже забыл теперь, как она называется. Знаю, что она приходится где-то на стрелке двух улиц и ход в номера через трактир. Прегадкая гостиница! лакеи обсчитывают не хуже берлинских кельнеров, а клопы точно вишни владимирские. Целые ночи я спал на окне, на котором по целым дням писал, отдыхая утомленными глазами на раскаленной мостовой, совершенно пустой в течение всего дня, губернской улицы.
Организованной общины с самостоятельным общинным правлением здесь нет. Вся сила в X. Остальное все на него смотрит и около него ютится. Жалоб на особые стеснения не слышно; только головою очень многие не хвалятся. Старообрядцам несомненно хочется иметь головою X. О церкви благословенной рассказывают, что она всегда пуста и держать ее не для кого.
– Нам только образов-то уж очень жаль, что туда отдали, наши то образа, понимаете, – из моленной, из разоренной, – говорят псковские беспоповцы. – Ведь окромя теперь как старосты Агафона Ивановича да попа, никто им там не молится. Церковь пустая, и радения о ней нет; обваливается вся. Придет поп, позвонит, позвонит, да и пойдет. Что это за радение? Да и поп бы ушел, кабы не «подписавшиеся», что к нам вернулись. Ими только и держится. Вот теперь по царской милости и в Динабурге, и в Риге «подписавшиеся» по свободе вернулись, а у нас нет. Все ждем разрешения еще: ходателев настоящих еще нет у нас. Рижцам что? Они сила. Что хотят, то обломают. Феливанова, купчиха, приехала, рассказывала, какая там жизнь-то. Процветает там вера! У нас один духовный отец, и тот под сокрытием, а уж ему восемьдесят лет. Помрет нынче, завтра. Петь некому; а по селам и бабы пόпят. А в Риге-то! Шесть батек, хор в сорок человек, все по цолям жарют. Такое пение, говорят, что даже изрещи невозможно. Свобода! Никто к тебе в хату не лезет, хоть ты будь и подписной. А у нас на Настасьев день-то что бывает? Ломком образа в дом вносят. Еще губернатор нас не дает, а то б что тут и делать!