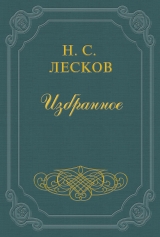
Текст книги "Захудалый род"
Автор книги: Николай Лесков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Прискакав после долговременного отсутствия домой, Дон-Кихот впал в полосу долговременного штиля, какого потом не бывало уже во всю его остальную жизнь, и тут он совершил один страшный и бесповоротный шаг, о котором, вероятно, имел какое-нибудь мнение, но никогда его никому не высказывал. Покой Рогожина зависел от того, что он привез с собою из монастыря целые вороха старых книг и рукописей. От этого клада он не мог оторваться, прежде чем все ветхие бумаги были им перечитаны, сравнены и изучены, а на это требовалось целые полгода. Рогожин просидел всю осень и зиму за чтением; зимние поздние предрассветные зори часто заставали его пред нагоревшим высоким глиняным ночником, в оскудевшую плошку которого он глядел помутившимися от устали глазами и думал какие-то широкие думы. Он доходил до мысли: как освободить много, много угнетенных людей за один прием, сразу, и в пылающей голове его неслись план за планом, один другого смелее и один другого несбыточнее. В результате всего этого получилось одно, что совсем выбившийся из сна Дон-Кихот в начале Великого поста не выдержал и заболел: он сначала было закуролесил и хотел прорубить у себя в потолке окно для получения большей порции воздуха, который был нужен его горячей голове, а потом слег и впал в беспамятство, в котором все продолжал бредить о широком окне и каком-то законе троичности, который находил во всем, о чем только мог думать.
Крестьяне, послушав все это, наконец струсили, что их блажной барин может совсем сойти с ума или умереть и тогда они могут достаться в управление какому-нибудь другому лицу, у которого не будет его доброты, и им придется сказать «прощай» своему льготному житью. Они привезли к Рогожину из села священника. Дон-Кихот был на этот случай в памяти и как будто даже обрадовался гостю, с которым мог говорить о предметах, недоступных пониманию Зинки и других мужиков. Он посадил гостя на топорном стуле возле лавки, на которой лежал, и заговорил с ним о троичности, троичности во всем, в ипостасях божества, в идеях и в видимых элементах строения общества.
– И в церкви, – говорил он, – высшие власти три: митрополит, архиерей и архимандрит; ниже опять три: поп, дьякон и причетник, все три! Оттого, если все три совершают дело в строении, и нисходит благодать.
– Нисходит-с, – отвечал священник.
– Как же не быть сему в государстве?
– Надо быть-с.
– Я это и говорю! – воскликнул Дон-Кихот. – И я говорю, что этому надо быть! надо быть!
– Надо быть-с, – поддакнул священник.
– И оно… нагнитесь сюда ко мне поближе.
Священник оперся рукой о лавку и пригнулся к больному.
Дон-Кихот обнял его исхудалою рукой за шею и прошептал:
– И оно есть-с!
– Есть-с; непременно есть.
– Как! и вы понимаете, что оно есть?
– Понимаю-с.
– Вы понимаете, что есть три и они одно: они одно делают, одной стране служат, ее величие поют, только один в верхнем регистре, другой – в среднем, а третий – в низшем.
– Совершенно понимаю-с.
– Хорошо, – произнес Дон-Кихот и вдохновенно добавил: – дай руку, мы свои и будем говорить откровенно.
Они пожали друг другу руку.
– Прежде всего поверка: сверим силы как добрые союзники: откройся, как ты это понимаешь?
– Что это-с?
– Трое… Кто они, эти трое в России, без кого нельзя?
– Государь…
– Раз! это верно, продолжай.
– Второй – губернатор…
Дон-Кихот уже хотел загнуть второй палец с восклицанием «два», но вдруг заикнулся и, взглянув с удивлением на священника, протянул:
– Что-о-о-о?
– Второй – губернатор-с.
– Как, черт возьми, губернатор!.. Почему он второй?
– Потому что государь правит всем государством, а этот под ним губернию в страхе держит…
– Ну-у!
– Ну-с, а третий под ним городничий – он один город блюдет.
– Пошел вон! – нимало не медля отвечал Дон-Кихот.
Священник удивился и, недоумевая, переспросил:
– Как это?
– Так; очень просто: твое счастье, что я болен и не могу дать тебе затрещины, а бери свой треух и уходи поскорей от меня вон, потому что ты хуже всех.
И он ему с значительным самообладанием разъяснил, почему он хуже всех.
– Все, – сказал он, – меня не понимают и прямо так и говорят, что не понимают, а ты вызвался понять, и сказал мне всех хуже. Прощай!
Священник поднялся и пошел к двери.
– Однако же постой! – вернул его Дон-Кихот. – Сними мне с колка мою куртку.
Тот безгневно возвратился и исполнил требуемое.
Рогожин порылся в карманах, достал из одного из них обширный кожаный кошелек с деньгами и, позвякав бывшими там двумя серебряными целковыми, подал один из них гостю
– Возьми это и не обижайся – глупость не вина.
Тот принял и деньги и извинение.
– И вот еще что… Истина, добро и красота… Но тебе и это не понять… Пожалуйста, не говори, что поймешь, а то я рассержусь. Проще объясню: разум, воля и влечение, только нет… ты опять и этак не поймешь. Еще проще: голова, сердце и желудок, вот тройка!
И он поехал на этой тройке, пространно объясняя, как тут каждый нужен друг другу и всякому есть свое дело, для того чтобы весь человек был здрав умом, духом и телом.
– Опять тройка! понял? Или лучше молчи и слушай: ты сказал государь… это так, – голова, она должна уметь думать. Кормит все – желудок. Этот желудок – народ, он кормит; а сердце кто? Сердце это просвещенный класс это дворянин, вот кто сердце. Понимаешь ли ты, что без просвещения быть нельзя! Теперь иди домой и все это разбери, что тебе открыл настоящий дворянин, которого пополам перервать можно, а вывернуть нельзя. Брысь!.. Не позволю! В моем уме и в душе один бог волен.
И, прочитав эту лекцию, дворянин, которого можно перервать, но нельзя вывернуть, впал в такое горячечное беспамятство, что мужики должны были сменить выбившегося при нем из сил Зинку и учредили при Рогожине бабий присмотр, так как уход за больным сердцу женщины ближе и естественнее.
Дон-Кихот долго пролежал без сознания и когда пришел в себя, то очень удивился.
Все окружающее его глядело чрезвычайно приятно, светелка его была убрана, на самом на нем была чистая мужичья рубашка, у изголовья стояла на столе золоченая луком деревянная чаша с прозрачною, как хрусталь, чистою водой, а за образником была заткнута ветвь свежей вербы.
Но это еще было не все, то был сюрприз для глаз, а был еще сюрприз и для слуха. Рогожину стало сдаваться, что невдалеке за его теменем что-то рокочет, как будто кто по одному месту ездит и подталкивает.
"Что это?" – подумал Дон-Кихот и хотел оглянуться, но у него не оказалось к тому никаких сил.
Экое горе! Вот бы позвать, да никого нет в избе. Кот один ходит прямо пред ним по припечку и лапой с горшка какую-то холщовую покрышку тянет. Хорошо лапкой работает!
И Дон-Кихот, давно ничего не видавший глазами, засмотрелся на кота и не заметил, как тот мало-помалу подвигал горшок к краю и вдруг хлоп… Горшок полетел об пол, а серый бедокур проворными скачками ускакал за трубу… Но Рогожину некогда было следить за проказником, потому что при первом громе, произведенном падением разбившейся посуды, чистый, звонкий, молодой голос крикнул: "Брысь!", и занимавший несколько минут назад больного рокот за его головою тотчас же прекратился, а к печке подбежала молодая сильная девушка в красной юбке и в белой как кипень рубахе с шитым оплечьем.
Она всплеснула над разбитым горшком руками и, быстро присев на корточки, стала бережно подбирать в передник черепья.
Во все это время она держалась к Дон-Кихоту спиной, и он только мог любоваться на ее сильный и стройный стан и черную как смоль косу, которая
Рогожину показалось, что он никогда не видал такого свежего и здорового, молодого женского тела, и он ждал, пока девушка кончит уборку и обернется к нему лицом. А она вот забрала с полу последние черепки и оборотилась… Фу ты господи, да что же это за роскошь!
Ведь вправду, мало сказать, что есть женщины, которые хороши и прекрасны, а надо сознаться так, что есть и такие, которые как на грех созданы. Вот эта и была из таких.
Как она обернулась и мимоходом повела глазами на Дон-Кихота, так он и намагнетизировался. Та смотрит на него, потому что видит его смотрящим в первый раз после долгого беспамятства, а он от нее глаз оторвать не может. Глаза большие, иссера-темные, под черною бровью дужкою, лицо горит жизнью, зубы словно перл, зерно к зерну низаны, сочные алые губы полуоткрыты, шея башенкой, на плечах – эполет клади, а могучая грудь как корабль волной перекачивает.
Больной дворянин был сражен этой красотой и, по немощи, сразу влюбился. Он только хотел удостовериться, что эта не греза, не сон, что это живая девушка, а что она крестьянка, а он дворянин – это ничего… законы осуждают, а сердце любит.
Рогожин попробовал улыбнуться и слабо выговорил:
– Умница!
– Что тебе, барин? иль полегчило? – сказала девушка и сама, улыбнувшись от доброжелательства, все вокруг себя как солнцем осветила.
Больной молчал
– Что тебя, поправить, что ли?
И, не дожидаясь ответа, она подвела ему под плечи круглую упругую руку и, поправляя другою рукою его изголовье, держала во все это время его голову у своей груди.
Запах молодого, здорового тела, смешанный с запахом чистого, но в дымной избе выкатанного белья, проник через обоняние Рогожина во всю его кровь и животворною теплотою разбежался по нервам.
– Кто ты? – произнес Дон-Кихот.
– Девка.
– А как тебя звать?
– Аксюткой звать.
– Аксиньею… Ксения!
Он произнес это имя и к нему прислушался. Ему показалось, что оно очень хорошо звучит.
– Что ты тут делала?
– Я-то? Тебя стерегла…
– Чего?
– Когда ты помрешь.
– Помру… вона!
– А что ж?
– Я теперь жить хочу, Ксения.
– Жить?.. да что же, для чего тебе не жить? Хлеб есть. Живи!
И она посмотрела в его вперенные в нее глаза и проговорила:
– Или тебя еще поправить?
– Поправь.
И опять это прикосновение руки, и опять ошибает свежий аромат легкой смолистой задыми и молодого тела.
– Будет, – прошептал Дон-Кихот, – будет: хорошо мне. Только вот что…
– Что еще?
– Сядь ко мне так, чтоб я тебя видел.
– Где сесть? тутотка?.. хорошо, сяду.
И она зашла ему за-головы и опять появилась с донцем, гребнем и размалеванною прялкою: села, утвердила гребень в гнезде донца, поставила ногу в черевичке на приверток и, посунув колесо, пустила прялку.
Опять мерная музыка заиграла тем же рокотом, а сама чародейка сидит, работает, и ни слова.
– Скажи мне что-нибудь, – попросил Дон-Кихот.
– Про что тебе рассказать? Я ничего не знаю.
– Про что ты думаешь.
– Вон кот горшок разбил!
– А что там было в горшке?
– Тесто было… калину парили.
– На что она?
– Девкам лизать.
Дон-Кихот нахмурился и спросил:
– Про каких ты девок говоришь?
– Про наших, про рогожинских, – мы ведь на смену при тебе сидеть ходим. Вот Танька уже бежит, она сичас на меня заругается, что не углядела. Прощай, барин, оздоравливай.
И прежде чем Рогожин успел ей ответить, она собрала всю свою рабочую снасть и, столкнувшись на пороге с пришедшею ей на смену другою девушкою, выбежала.
Пришедшая не выдерживала ни малейшего сравнения с удалявшеюся. Рогожин не хотел и смотреть на эту. Он опять спал и поправлялся, но бог его знает, на каких тройках ездил он впросонках: кажется, что он теперь на время позабыл о добре и истине и нес уже дань одной красоте.
Но на его несчастие дела его шли так худо, что ее-то, эту чудную Ксению, он никак более и не видал. Как он ни проснется, все сидит возле него женщина, да не та, а спросить ему казалось неловко и совестно. Разве ее похвалить за красу? Но как же это мог себе позволить благородный и начитанный дворянин?
Ведь он знал, что по рыцарским обычаям и хвалить девушку без ее согласия запрещалось, а Ксения не давала ему согласия ее хвалить. И еще что об этих похвалах подумают?
"А хороша Ксения, очень хороша!"
Он решился молчать.
Но вот приходит раз мужик Архар, он был в хуторе вроде старосты, и говорит:
– Барин, а барин!
– Что тебе? – отвечал Дон-Кихот.
– А девка-то Аксютка баяла, что ты с нею баловал…
– Ну еще что скажи!
– А почто же ты с другими, кои ходят, ничего не балакаешь?
– А тебе что за дело?
– Такое дело, что она из моего двора, так если она тебе против других больше по обычаю, так чего на нее смотреть-то! мы одну к тебе посылать станем сидеть: пускай она, дурища, тебе угождает.
– Это ты про свою родную дочь так-то?
– Какая она мне дочь!
– Ну так падчерица: все равно, зачем ее дурой называть?
– Она мне и не падчерица.
– Ну племянница, что ли… Это все равно.
– И того совсем не было.
– Кто же она?.. так… чужая… приемыш, что ли? А?.. что?.. приемыш?
Сердце дворянина то замирало, то учащенно билось от необыкновенного предчувствия, а староста Архар отвечал:
– Аксютка-та?.. да она и не приемыш, а так… позабытая… богданка.
– Богданка?
– Да; она не нашенская, сирота будет… безродная.
– Где же ты ее взял?
– Чего взял, сами родители к нам на село привезли… О французовой поре можайские дворянчики все через наши края бегивали, и тут тоже пара их бегла, да споткнулись оба у нас и померли, а сиротинку бросили.
– Дворянка!.. Так как же ты говоришь, что она безродная! Продолжай! не останавливайся… продолжай!
– Она была тогды махонькая, и глазки у нее болели: рассказать ничего не умела!..
– Ну!
– Мы ее хотели к заседателю, а заседатель от страсти сам бежал. Мужики и говорят: "Нам, Архар Иваныч, ее куда же? такую лядащенькую; а ты, брат, промеж нас набольший, ты староста – ты и бери".
– Ты и взял?
– Да ведь что с лихом поделаешь: не в колодец ее было сунуть, – взял.
– И это она и есть?
– Она самая.
– Можайская дворянка?
– Да так у нее в бумагах писано.
– Кто читал?
– Поп читал, когда ее родителев хоронил.
– Покажи мне сейчас эти бумаги!
Архар отправился к попу, а Рогожин, сверх всякого ожидания, в одну минуту оделся и, войдя шатающимися от слабости ногами в избу Архара, прямо, держась рукою стены, прошел в угол, где сидела за своею прялкой его Дульцинея, и, поддержанный ее рукою, сел возле нее и проговорил:
– Мы будем вместе ждать решения нашей судьбы!
Та ничего не поняла, но Архар принес бумаги, и Рогожин, взглянув в них, зарделся радостью и воскликнул:
– Ксения Матвевна, вы дворянка! Вы дворянка, и пред лицом земли и неба клянусь, что я вас люблю и прошу вас быть моею женой.
Девушка смутилась и, заслонясь рукавом, ничего не отвечала. Дон-Кихот принял это за скромность и обратился к крестьянам:
– С этих пор, – сказал он, – я под всяким страхом запрещаю звать ее Аксюткой. Через день она будет моя жена, а ваша госпожа Аксиния Матвевна.
Мужики почесались и отвечали:
– Ну Аксинья, так и Аксинья.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Рогожин свертел скоропостижную свадьбу и справлял необыкновенный медовый месяц. Женясь по живости своей и благородству восторженной фантазии безо всякого обстоятельного осведомления о характере и других свойствах своей жены, он даже не заметил, что не имел от нее определенного ответа: любит ли она его, или по крайней мере не любит ли кого-нибудь другого? Он прямо женился – исторг закинутую в грубую крестьянскую семью родовую дворянку, реставрировал ее в своем звании и тем исполнил долг совести и потребности пылавшего в нем чувства к красавице. Остальное его не касалось, да и что там еще могло быть остальное? Какие-нибудь совершенные пустяки. Он все это исчерпал менее чем в один свой медовый месяц.
Весна любви Дон-Кихота шла об руку с весною жизни природы, и потому в соломенном дворце было тепло, и светло, и для двух просторно. Когда молодая жена Рогожина утром убирала жилье, он выходил на крыльцо и, сев на порог, читал один из своих фолиантов; затем он сам ставил ей самовар; сам наливал для нее чай и непременно требовал, чтоб она сидела, а он подносил ей налитую чашку на широкой книге, заменявшей ему в этой церемонии поднос. Потом счастливые супруги вместе варили обед и, наконец, выходили вдвоем испить блаженство мечты в садике, где Рогожин среди двух берез и рябины своими руками устроил на низкой лужайке скамью из дощечек. Здесь он садился сам и, усадив рядом с собою жену, обнимал рукою ее стан и начинал ей с восторгом и декламацией говорить о боге, о просвещении и о святой независимости доброй совести и доброй воли.
Он совершенно забывал, что жена его не знает грамоте, что она выросла в крестьянской избе и ей доступен из трех известных ему регистров только самый низший, вседневный.
– Как я увидел тебя и как полюбил, – говорил он, держа одною рукой ее руку, а другою обвивая ее сильный, роскошнейший стан, – ты слушай, как я тебя увидел, в моем сердце сейчас же послышался голос, что я с тобою буду счастлив.
Та, заслышав эти всякий день повторявшиеся признания, тихо зевала и жалась виском к плечу мужа, а он в своем бреде влюбленном шептал:
– Ты послушай, послушай, что я тебе расскажу: ты знаешь, давно был герой Ярль Торгнир?.. Нет, ты не знаешь… Ну, ничего: он жил от нас за морем, в странах скандинавских… Да, и у него была жена… Прекрасная жена… Он ее очень любил и жить без нее не мог… вот все равно как я без тебя. Ну, похоронив ее, он и стал о ней тосковать. Всякий день приходил он рыдать к ней на могилу… Вот он раз сидит на могиле, а над ним летит ласточка – вот точно такая, как теперь перед нами… Погляди, моя милая, как она вьется!.. Ярль Торгнир взглянул на нее и со слезами послал птичке слово: "Утешь меня, добрая птичка!" И ласточка крылья сложила и, над его головой пролетев, уронила ему русый волос… золотой как горючий янтарь волосок, а длиной в целый рост человека… Ярль Торгнир взял волос и по тонине его понял, что высокого рода была та девица, с головки которой упал этот волос… И влюбился Ярль Торгнир по тому волоску в княжну Ингигерду, поехал и отыскал ее на Руси, как и я отыскал тебя… тоже случайно… и, в объятиях сжав ее, так же как я здесь тебя обнимаю, был счастлив.
Произнося этот монолог с глазами, вперенными в небо, Рогожин был действительно счастлив, и все крепче и крепче обнимал свою подругу, и, наконец, переводя на нее в конце свой взгляд, видел, что она сладко спит у него на плече. Он сейчас же отворачивал тихо свою голову в сторону и, скрутив трубочкой губы, страстно шептал:
Дон-Кихот не мог взять на руки своей жены и перенести ее домой: он был еще слаб от болезни, а она не слишком портативна, но он зато неподвижно сидел все время, пока «душка» спала, и потом, при обнаружении ею первых признаков пробуждения, переводил ее на постель, в которой та досыпала свой первый сон, навеянный бредом влюбленного мужа, а он все смотрел на нее, все любовался ее красотою, вероятно воображая немножко самого себя Торгниром, а ее Ингигердой.
Однако все это весьма естественно кончилось тем, что супруги к исходу своего медового месяца стали изрядно скучать, и Дон-Кихот Рогожин велел Зинке запрячь своих одров в тарантас и поехал с женою в церковь к обедне. Тут он налетел на известный случай с Грайвороной, когда бедный трубач, потеряв рассудок, подошел к иконостасу и, отлепив от местной иконы свечу, начал при всех закуривать пред царскими вратами свою трубку.
Доримедонт Васильич видел, как Грайворону схватили и повлекли и как сотни рук все стремились дать ему хоть одного пинка или затрещину. В общем это выходило, по соображениям Дон-Кихота, для одного довольно много, и он вступился. Он расправил свои руки и отбил Грайворону, а потом, крикнув: "Зинобей!", примчал отбитого трубача в Протозаново и снова скрылся на своих вихрях.
Жену свою он покинул в церкви, и она возвратилась оттуда домой пешком, вместе с бабами и мужиками, как хаживала будучи крестьянкою, и, вероятно, находила это отнюдь не неприятным. Дон-Кихот же, тоже прогулявшись, хватил старины, от которой чуть не отвык, обабившись: и он и Зинка заметили, что когда они ехали в церковь с "барыней Аксюткой" (так ее звали крестьяне), то даже лошади шли понуро и сам тарантас все бочил на левую сторону, где сидела крепкотелая Ингигерда; но когда Дон-Кихот, сразившись и отбив Грайворону, крикнул: "Зинобей!" – все сразу изменилось: одры запряли ушми и полетели, тарантас запрыгал, как скорлупочка по ветру, и сами Зинка и его барин вздохнули родною жизнью.
Зинка до того всем этим увлекся, что, опьянев от удовольствия, на обратном пути сказал Дон-Кихоту:
– Эх, отец, бросим баб!
Рогожин отвечал ему на это пинком в спину, но не сердился. Зинка понял, что барин в душе с ним согласен и что доброе, старое кочевое время возвращается.
Бабушку в этот свой первый приезд в Протозаново наш чудак не видал: они, конечно, знали нечто друг о друге по слухам, но свидеться им не приходилось. В этот раз бабушке тоже было не до свидания с гостем, потому что княгиня занялась больным и даже не имела времени обстоятельно вникнуть, кем он спасен и доставлен. Но зато, похоронив Грайворону, она сию же минуту откомандировала Патрикея к Рогожину отблагодарить его и просить к княгине погостить и хлеба-соли откушать.
Дон-Кихот отвечал согласием. Ему это внимание, как видно, понравилось, и он на другой же день крикнул: "Зинобей!" и явился в Протозаново.
Сойдясь лицом к лицу с бабушкой, они оба, кажется, были друг другом немножко поражены и долго молчали. Бабушка, однако, первая перервала эту паузу и сказала:
– Вот ты какой!
– Да, – отвечал Рогожин, – вот этакой, я весь тут.
– Не грузен; а все воюешь.
– Да, на соколе мяса немного, на тетере его больше бывает.
– Это ты что же… меня, что ли, тетерей зовешь?
– Нет, я это просто так, к слову.
– Просто к слову, так садись до обеда и скажи мне, пожалуй, что такая за притча, что я тебя ни разу не видала. Столько времени здесь живу и, кажется, всех у себя перевидела, а тебя не видала. Слышу ото всех, что живет воин галицкий, то тут, то там является защитником, а за меня, за вдову, ни разу и заступиться не приехал… Иль чем прогневала? Так в чем застал, в том и суди.
– Что мне судить? – коротко ответил Рогожин, – дела не было, так оттого и не ехал.
– А так без дела разве нельзя, или грех по-соседски повидаться?
– Да что же… по-соседски… Какие мы соседи? Я бедный дворянин, а вы богатая княгиня, совсем не пара, и я не знал, как вы это примете, – а я горд.
– Господи мой! да довольно того – сосед и дворянин, а ты еще с достоинством носишь свое звание, чего же еще нужно?
– Да, я дворянин как надо, меня перервать можно, а вывернуть нельзя.
– Молодец!
Они подружились, и когда гость уезжал, княгиня у него осведомилась:
– Ты ведь женат?
– Женат.
– Так не обидься, пожалуйста, я тебе в бричку сослала шелковый отрез на платье… Не тебе, понимаешь, а жене твоей… на память и в благодарность, что пешком шла, когда ты мне трубача привез, – добавила княгиня, видя, что гость начал как-то необыкновенно отдуваться и хлопать себя пальцем по левой ноздре.
– Гм! жене… Ну, пускай так будет этот раз на память! – позволил Дон-Кихот, – но только… вперед этого больше не надо.
И он потом, сделавшись коротким и близким приятелем в доме княгини, никогда не принял себе от нее ничего, ни в виде займа, ни в виде подарка. Как с ним ни хитрили, чтоб обновить его костюм или помочь упряжной сбруишкой, – не решались ни к чему приступить, потому что чувствовали, что его взаправду скорее перервешь, чем вывернешь. От бабушки принимали пособие все, но Дон-Кихот никогда и ничего решительно, и княгиня высоко ценила в нем эту черту.
– Тут уже не по грамоте, а на деле дворянин, – говорила она своим близким, – богат как церковная мышь, есть нечего, а в мучной амбар салом не сманишь: "перервешь, а не выворотишь".
Эти слова Рогожина в присловье пошли, а сам он тут свою кличку получил. Бабушка сказала ему:
– Какой ты Доримедонт Рогожин, ты Дон-Кихот Рогожин!
А он отвечал:
– Я бы счастлив был, но только не в том месте родился.
Прозвание ему, однако, нравилось.
Но вместе с тем с этой же своей поездки к бабушке Дон-Кихот сразу махнул рукой на свою семейную жизнь.
– Его точно песья муха у меня укусила, – рассказывала бабушка, – так от меня и побежал на своих одрах странствовать и подарок мой жене насилу к Рождеству привез. И где он в это время был? – нечего не известно. Слышали только, что там чиновник но дороге встречный обоз в грязь гнал, на него кто-то налетел, накричал, кнутом нахлестал и уехал… По рассказам соображаем – это наш Дон-Кихот: там офицера на ярмарке проучил; там жадного попа прибил; тут злую помещицу в мешке в поле вывез – все Дон-Кихот, все он, наш сокол без мяса. К концу года, гляжу, ко мне и возвращается "Дома, говорит, день пробыл и жене гостинец отдал, а жить мне у себя нельзя: полиция ищет, под суд берут".
О доме своем он и не имел никаких забот: всем хозяйством правила "барыня Аксютка"; она продавала заезжим прасолам овец и яловиц, пеньку, холст и посконь и запивала с ними продажные сделки чайком "с подливочкой", и в той приятной жизни полнела и была счастлива.
Впрочем, о "барыне Аксютке" знали очень мало и никогда о ней в бабушкином обществе не говорили и Дон-Кихота о ней не спрашивали, за что он, вероятно, и был очень благодарен.
Бабушка находила в Рогожине очень много прекрасного и, разумеется, приобщила его к своей коллекции, но в обстоятельства его семейной жизни не входила. Она знала только одно, что он "женат глупо", и больше ничего знать не хотела.
Время свое Доримедонт Васильич препровождал самым странным и невозможным образом когда ему не угрожал суд, он исчезал на своих одрах и где-то странствовал и потом вдруг как снег на голову являлся в Протозаново.
Бабушка знала, что это значит, и обыкновенно всегда встречала его одним вопросом:
– Что, батюшка мой, верно опять победил какого-нибудь врага?
– Ну так что ж! – отвечал односложно Дон-Кихот.
– Ничего: тебе, добру молодцу, исполать, и полезай теперь скорей на полать да получше прячься.
– А меня здесь не заметят?
– Ну, где тебя заметить, ты все равно что нос на жидовской роже незаметен.
Рогожин успокоивался и жил во флигелях у княгини, ночуя нередко в одной комнате с исправником и сидя с ним рядом за обеденным столом.
Времена и нравы теперь так переменились, что это многим, вероятно, покажется совершенно невероятным, но это было именно так, как я рассказываю. В дом княгини Варвары Никаноровны нельзя было приехать с выемкой Выборному исправнику, да и никому другому, ничто подобное никогда и в голову не могло прийти. Благодаря такому сочетанию обстоятельств Дон-Кихот преспокойно жил в Протозанове и в долгие зимние вечера служил бабушкиному обществу интересною книгой. Он развлекал всех своими рассказами, имевшими всегда своим предметом рыцарское благородство и носившими на себе особый отпечаток его взглядов и суждений. Рогожин не любил ничего говорить о себе и, вероятно, считал себя мелочью, но он, например, живообразно повествовал о честности князя Федора Юрьича Ромодановского, как тот страшные богатства царя Алексея Михайловича, о которых никто не знал, спрятал и потом, во время турецкой войны, Петру отдал; как князю Ивану Андреевичу Хованскому-Тарарую с сыном головы рубили в Воздвиженском; как у князя Василия Голицына роскошь шла до того, что дворец был медью крыт, а червонцы и серебро в погребах были ссыпаны, а потом родной внук его, Михайло Алексеич, при Анне Ивановне шутом состоял, за ее собакой ходил и за то при Белгородском мире тремя тысячами жалован, и в посмеяние «Квасником» звался, и свадьба его с Авдотьей-калмычкой в Ледяном доме справлялась… Как Салтыковы ополячились; как Василий Нарышкин с артиллериею и пехотою богача Сибирякова дом осадил и силою у него пять тысяч рублей вымогнул, а потом в том же дому у него без совести бражничал. А князь Иван Васильевич Одоевский даже со столов при карточной игре у Разумовского деньги воровал.
Все гости слушали эти рассказы, и словно переживали все, что излагал пред ними Рогожин, и "страхом огораживались" от ужасавшего их захудания рода, которое, вероятно, и тогда уже предвиделось.
По крайней мере бабушка, по своей безбоязненности смотреть вперед, и тогда уже об этом говорила.
Все это были беседы бесконечные, но не бесплодные, и в них коротались дни, а когда Дон-Кихот вдруг исчезал, эти живые беседы обрывались, и тогда все чувствовали живой недостаток в Рогожине. Возвращался он, и с ним в Протозаново возвращалось веселье. Приезжал ли он избитый и израненный, что с ним случалось нередко, он все равно нимало не изменялся и точно так же читал на память повесть чьего-нибудь славного дворянского рода и пугал других захуданием или декламировал что-нибудь из рыцарских баллад, которых много знал на память.
В то время, когда бабушка ожидала к себе петербургского графа Функендорфа, Рогожин находился налицо в Протозанове: он только что возвратился откуда-то после жестокой битвы, в которой потерял глаз.
– Батюшка мой, как тебя обработали! – произнесла, увидав его, бабушка. – Ты ведь теперь кривой останешься?
– Да ничего… один глаз целый остался, – отвечал Рогожин и больше ничего не рассказывал; но люди через Зинку разузнали, что было побоище страшное, что Дон-Кихот где-то далеко "с целым народом дрался".
Вся история, сколько помню, состояла в том, что где-то на дороге у какой-то дамы в карете сломалось дышло, мужики за это деревцо запросили двадцать рублей и без того не выпускали барыню вон из деревни. Дон-Кихот попал на эту историю и сначала держал к мужикам внушительную речь, а потом, видя бессилие слов, вскочил в свой тарантас и закричал:
– Зинобей! Зинка бей! бей! бей! Зинобей!
Зинка подобрал вожжи и в свою очередь завизжал:
– Эх вы, караси! ну-ка-си! помахивай-ка-си!
И одры разлетелись, сделали с горы круг; за ними закурило и замело облако пыли, и в этом облаке, стоя на ногах посреди тарантаса, явился Рогожин в своей куртке, с развевающимся по ветру широким монашеским плащом. Все это как воздушный корабль врезалось – и тут и гик, и свист, и крик «бей», и хлопанье кнута, и, одним словом, истребление народов!
Люди сидевшей в карете дамы, воспользовавшись этою сумятицею, скорее по лошадям, и ускакали, а мужики вдруг сообразили, что Дон-Кихот один, а их много, и приняли его в переделку. Обоих путников страшно избили, и они, по показанию Зинки, три дня валялись возле речки на лугу за горою. Пансо был избит совершенно понапрасну: слушая призыв "бей! Зинка бей!", он все-таки никогда никого не бил и в этом деле тоже оставался ни пред кем не повинным. Мужики этого ничего не разбирали, и от них досталось даже и коням Дон-Кихота, которых изувечили, и тарантасу, в котором изломали колесо и украли из него железный шкворень.
Несчастные бог весть как собрались с силами, вымыли у реки опустевшую орбиту выбитого глаза Дон-Кихота, подвязали изорванные мочалы упряжи и на трех колесах, при содействии деревянного шкворня, дотащились до Протозанова, где в незаметности остались ожидать, не станут ли их разыскивать.








