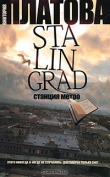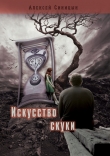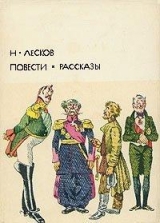
Текст книги "Повести. Рассказы"
Автор книги: Николай Лесков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 48 страниц)
Хозяйка осталась одна и сейчас же спросила себе пальто и калоши, взяла в карман флакон с нюхательного солью и ушла из дома, сказав, что хочет сделать покупки в «бракованной лавке».
Она чувствовала ту ужасную усталость, о какой может иметь понятие только актриса, исполняющая роль, которая не спускает ее целый акт со сцены.
Она была очень утомлена, почти измучена, но в ней еще много силы для таких же борений. Она скоро оправится на воздухе и будет в состоянии дать наилучший отчет на своем месте.
А пока кошка в отсутствии, без нее начинают шалить домашние мыши.
По уходе хозяйки горничная с китайскими глазами и фигуркой фарфоровой куклы прошла по всем комнатам и везде открыла форточки, а потом отдернула портьеру и отворила дверь из гостиной в будуар, который служил тоже хозяйке и ее кабинетом и тайником. Здесь девушка убрала беспорядок, потом вынула из кармана подобранный ключик, открыла им стол и, достав оттуда надушенный листок слоновой бумаги, зажгла свечи и начала выводить:
«Если предложения ваши обстоятельны, то хотя ваши лета и не сходны, но за вежливость вашу я согласна иметь для вас полные чувства, только никак не в вашем собственном доме и не при ваших людев».
Она перечитала написанное и внизу после своей подписи еще приписала:
«Только пожалуста с ответом по почте».
Написав это письмо, девушка достала из бювара своей госпожи конверт и начала тщательно выводить адрес. В это время портьера раскрылась с другой стороны будуара, и в комнату, выпятив зоб, как гусыня, вошла рослая белая женщина лет сорока пяти, с большим ртом и двухэтажным подбородком. Это была домовая кухарка.
– Достань-ка мне у нее пару папиросок, – сказала она горничной.
– Возьми сама, – отвечала девушка и продолжала надписывать конверт.
Кухарка взяла из сердоликовой коробочки несколько папирос, закурила одну из них и, севши на шелковом пуфе перед зеркалом, начала выдавливать ногтями прыщик на подбородке, а потом она запудрила это место барыниной пуховкой и сказала:
– Мочи нет как прыщи одолели!
– Не лакай черного пива…
– И то уж не пью.
– Ну, так не тискай мальчонков, которые приносят покупки.
– Ты, что ли, это видала?
– Еще бы! Зеленщикова мальчонку вчера, думала, ты, как русалка, совсем защекочешь.
– Он ребенок, еще совсем без понятьев.
– Так ты и станешь дожидаться евонных понятьев!
– Нет, я ведь, ей-богу, я только всего и люблю баловать да помять их, красивых детишков. У меня крестник уж был шестнадцати лет, да вот помер, – я и скучаю. А ты это на кого еще грех новый наводишь: кому это пишешь?
Девушка не ответила.
– Думаешь, я не знаю! А я знаю!
Китаянка опять промолчала.
– Хочешь, скажу?
– Ну, говори!
– Генерала ты путаешь, вот что!
– Ну, так и знай, что его самого!
Она стала наклеивать марку.
– Вот ты надо мной смеешься, что я ласкаю детишков, а сама хуже попалась.
– Ничего не попалась.
– А отчего ж ты ревешь и некрасивая стала?
– Реву о том, что дура была, – в верности жить полагала.
– Вот то-то и есть; а теперь и видать – непорожняя.
– И врешь, ничего еще пока не видать.
– Отчего же, когда батюшка был, он меня поблагословил и попить мне чайку дал с своего блюдца, а тебе нет?
– У меня на лбу петушки были натрепаны: он не любит. Да и не надо: не все то и сбывается, что он говорит.
Кухарка покачала головой и, вздохнувши, сказала поучительным тоном:
– Да, уж это неизвестно, почему так он по купечеству много отмаливает, а в разных званьях не может.
– Не потрафляет!
– Не надо, дружок, так говорить, потому что хотя он и не потрафляет и не все пусть сбывается, ну, а все мы должны верить в божье посланье, хотя я и сама… этой драчихе, которая царапает, так бы ей все космы выдрала!
– И отвели бы тебя под суд, – сказала девушка, у которой нрав был шкодливый, но робкий. Но кухарка, женщина опытная, смело ей отвечала:
– Ничего не значит: «нарушение тишины беспорядка! Восемь дней на казачьем параде!» Ей-богу, вздую!
XVВ это время внезапно раздался звонок. Кухарка и горничная обе быстро вскочили: девушка проворно опустила письмо в карман и побежала отворить парадный вход, а кухарка прошла в коридор, соединяющий переднюю с кухней, и притаилась у двери.
Вошел Валериан и негромко спросил:
– Кто у нас?
– Никого, – ответила девушка.
– А мама?
– Вышли.
– Не вышел ли, кстати, и из тебя твой дурацкий каприз?
– Как не дурацкой! Скажите, пожалуйста… нечего мне капризничать?
Девушка забирала самую бранчивую ноту.
– Возьми, пожалуйста, вот это себе и не дуйся, как дама женского пола.
– Что это такое?
– Серьги.
– Мне не серьги нужны, а добудь мне средство.
– После добуду.
– Нет, вы меня обманываете! Я вам не дура!
– Бери пока это!
– Не надо.
– Что за глупость! Кому же я их отдам?
– Мне что за дело? Я не хочу! Ничего от вас не хочу, потому что вы не благородный господин и студент, а самый низкий и подлый мужчина!
Валерий хотел ее остановить какою-то грубостью, но она дернулась и сказала:
– Смей-ка, посмей! – и ушла в свою каютку.
Молодой человек юркнул туда же за нею и заговорил с лаской:
– Послушай… Ведь ты же хотела… ты просила сережки… Бери же теперь, когда куплено!
– Куплено!.. Где?.. В чьем магазине? Или, быть может, сдернул шутя у Савки на лавке?
– Зачем ты этакие пошлости говоришь?
– А как же не спросить? Быть может, их и носить нельзя?
– Это еще что за глупость?
– А, может быть, эта жимолость увидит и с ушами оторвет.
Молодой человек вспыхнул.
– Какая «жимолость»? – вскричал он.
– Да старуха-то эта… ваша Камчатка… Ведь она… жимолостная…
– Какая Камчатка!
– Не знаешь!
– Разумеется, не знаю!
– Полно дурака-то валять!
– Я тебе говорю, что не знаю: что такое Камчатка и почему Камчатка!
– Так ты у нее спроси, что это она сама Камчатка или за нее других посылают в Камчатку, а только я ее не боюсь и говорю, что она самая преподлая-подлая и уж давно бы ей бы пора умирать, а не ребят нанимать, которые хуже самой болтущей девчонки.
– Однако ты действительно невыносимо забываешься!
– Что же? Мне еще можно. Зато, когда старухой сделаюсь, не позабудусь.
Валериан бросил свой подарок на комодик девицы и, сжав ее руку, прошептал:
– Я тебя ненавижу!
– Чего благороднее, как теперь ненавидеть!
– Ты сама довела, что мне стала противна.
– А противна, так зачем ты сюда пришел?
– Я только и хотел тебе это сказать, что ты скверна!
– Ну да! Сделайте одолжение!.. Непременно скверна!.. Для кого-нибудь не скверна, а ты сказал, и уходи. Совсем напрасно ваши пульсы бьются…
– Ты врешь, мои пульсы не бьются!
– Ну да!.. Оно и видно!
– Ну так я тебе это сейчас объясню, для чего они бьются.
– Э, нет, брат, нет, нет! Я уж от этих ваших объясненьев-то вон каким уродом стала, что даже все замечают.
Он что-то сказал, но она отвечала: «нет», потом опять: «нет», и потом еще:
– Нет, нет, нет! Что-о?.. Ага!.. Нет!.. Подаренье мне – это в состав не входит, а ты виноват и прощенья проси.
– И еще попроси!
– И еще!
– Ну, вот так! А то ступай вон… Вашего брата надо пробирать!
Подслушивавшая кухарка от этих последних слов пришла в восторг и, озарившись радостной улыбкой, плюнула и прошептала:
– Ах ты шельма! давно ли из деревни, а как умеет! Это она опять на колени его поставила! Тьфу! Ей-богу, в ее черт ложку меду кладет!
И кухарка еще сильнее затаила дыхание, чтобы наблюдать, что будет, но дальнейшей проборки уже не было слышно, потому что дверь маленькой каютки закрылась, а с другого конца коридора, где своим чередом совершалась забота о пище, пополз невыносимый чад.
Кухарка бросилась к своему бурливому алтарю и застала на плите самый полный беспорядок: одно перекипело и било через край, другое перегорело, пережарилось и все наполняло смрадом помещение с потолка и до пола.
Кухарка рассердилась и закричала:
– О, черт бы вас взял с вашими пульсами и с вашею проборкой! Все, дьяволы, будете нынче без жратвы!
С этим, полная гнева, она вскочила на стол, открыла форточку и размахнула настежь дверь с черного хода; но едва она это сделала, как вся просияла; на ее конце улицы тоже заходил праздник: у самого порога стоял румяный лавочный мальчик с корзиною на голове и не решался перешагнуть.
– А-а! – приветствовала его весело белая баба, – то-то я, братцы, слышу: кто это с такою великолепною гордостью ползет и катится, а это ты, шышь-пыжь – лавочная мышь? Здорово, Петрунька!
Мальчик дулся и молчал, а кучерявая бабелина рассмеялась и, потянув его за фартук в кухню, бойко продолжала:
– Полно дуть губу!.. Дурак! Ведь жив, чай, остался!
– Только и есть, что жив вам достался! – ответил плаксиво розовый мальчик и враз изменил голос, крикнув: – Принимай, что ли, скорее корзинку! Мне не время!
– А мне что за дело? Тут не снимай!.. Видишь, здесь чадно! Неси вон туда, в мою комнату.
Мальчик с корзинкою тронулся и опять в нерешительности остановился, но кухарка втолкнула его в комнату, и оттуда сейчас же послышался жалостный писк.
Вечер густеет. Все тихо.
XVIВ кухне прочистилось; чад унесло; из кухаркиной комнаты, озираясь, вышел робко лавочный мальчик; у него на голове опрокинута опорожненная корзина. Она закрывает ему все лицо, и в этом для него, по-видимому, есть удобство. Кухарка его провожает и удерживает еще на минуту у порога; она молча грозит ему пальцем, потом сыплет ему горсть сухого господского компота, и, наконец, приподнимает у него над головою корзинку, берет руками за алые щеки и целует в губы. При этом оба целующиеся смеются.
Мальчик уже сбросил с себя свою детскую робость, а она ему шепчет:
– На гулянье пойдем вместе. Гляди, там какое веселье!.. Я тебе к празднику голубую рубашку сошью. Прибеги только завтра примерить.
– Прибегу, – отвечает мальчишка.
Она его еще обняла и, прижав к груди его головенку, сказала ему с материнскою нежностью:
– А когда тебя пошлют к прачке в заведение, ты с ее гладильщицами не разговаривай… Слышишь?.. Они девчонки ветреные. Можешь пропасть…
– Не-ет! – отвечал мальчик. – Мне и так всех стыдно!
– Вот то-то и есть! Да все, милка, ничего и не значит… А я всех дворников подкуплю, и мне сейчас всё и донесут.
Он посвистывает и спускается с лестницы, обнаруживая в самом деле «великолепную гордость».
Дворницкий работник встречает его с вязанкою дров и говорит:
– Петра, сколько ты прожил лет?
– Тринадцать.
– Ишь, старик! А жить хорошо?
– Ничего!
– Ожидай, значит, лучшего!
Пётр благодарит и уходит в ожидании лучшего.
Он будет на гулянье, она ему подарит рубашку. Со временем он попросит ее купить ему часы. А то ну ее к черту!
В передней и в кухне засветились хорошо протертые лампы. На плите в кастрюлях все подлито и подправлено, буря прошумела и отхлынула, наступает снова чистота и порядок, как требуется. Надо и себя примундирить.
Кухарка повернула кран и спустила над раковиной воду до холодной струи. Этой воды она налила полный жестяной уполовник и всю ее выпила. Она пьет с жадностью, как горячая лошадь, у которой за всяким глотком даже уши прыгают. Прежде чем она кончила свое умыванье, в кухню входит тоже и горничная, и эта точно так же молча взяла уполовник, и так же налила его холодною водой, и так же пьет с жадностью, и красные уши ее вздрагивают за каждым глотком.
Затем и эта умылась холодною водой над тою же самою раковиной и замахала над головой мокрыми руками, потому что забыла взять с собой утиральник.
Говорить ей не хочется.
Кухарка ее поняла, кинула ей чистый конец своего полотенца и, поклонившись ей наподобие реверанса, сказала:
– Поздравляю с приятным бонжуром!
Горничная сделала шутливую гримасу и ответила:
– И вас с теми же делами!
Они, кажется, признавали за настоящие «дела» – только одни дела природы, которая множит жизнь, не заботясь о том, в чем ее смысл и значение.
<1894>
Примечания
В силу ограниченности объема в настоящее издание не могли быть включены все значительные произведения Н. Лескова.
Представленные здесь повести и рассказы, расположенные в хронологическом порядке, все же дадут возможность читателю проследить эволюцию творчества Лескова на протяжении более трех десятилетий – от 60-х до середины 90-х годов XIX века.
Произведения датируются не по первой публикации, а по времени их написания.
Тексты даны по Собранию сочинений Н. С. Лескова в одиннадцати томах, Государственное издат. художеств. литературы, М., 1956–1958.
Повести. РассказыЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА
В первой публикации повесть называлась «Леди Макбет нашего уезда».
Н. С. Лесков предполагал создать цикл очерков о женщинах разных сословий. Он писал в редакцию журнала «Эпоха»: «„Леди Макбет нашего уезда“ составляет 1-й № серии очерков исключительно одних типических женских характеров нашей (окской и частию волжской) местности. Всех таких очерков я предполагаю написать двенадцать, каждый в объеме от одного до двух листов, восемь из народного и купеческого быта и четыре из дворянского. За „Леди Макбет“ (купеческого) идет „Грациэлла“ (дворянка), потом „Майорша Поливодова“ (старосветская помещица), потом „Февронья Роховна“ (крестьянская раскольница) и „Бабушка Блошка“ (повитуха). Далее пересчитывать не буду, тем более что они еще не отделаны; но те, которые я назвал Вам, могут идти друг за другом, по одному в месяц, и должны, по моему расчету, все выйти к следующей зиме особым изданием» (Н. С. Лесков. Собр. соч. в одиннадцати томах, т. 10, М., 1958, с. 253) [389]389
В дальнейшем ссылки на Собрание сочинений Н. С. Лескова даются сокращенно: том и страница.
[Закрыть]
Перечисленные Лесковым произведения неизвестны. Возможно, материал этот использован в таких рассказах и повестях, как «Воительница», «Котин доилец и Платонида», «Житие одной бабы».
Лесков вспоминал: «А я, вот, когда писал свою „Леди Макбет“, то под влиянием взвинченных нервов и одиночества чуть не доходил до бреда. Мне становилось временами невыносимо жутко, волос поднимался дыбом, я застывал при малейшем шорохе, который производил сам движением ноги или поворотом шеи. Это были тяжелые минуты, которых мне не забыть никогда» («Как работал Лесков над „Леди Макбет Мценского уезда“». Сборник статей к постановке оперы «Леди Макбет Мценского уезда» Ленинградским государственным академическим Малым Оперным театром. Л., 1934, с. 19).
Характер Катерины Измайловой, как и описанная в повести трагедия, – итог изучения жизни и быта провинциальной купеческо-мещанской среды. Некоторые воспоминания детства, в сочетании с более поздними наблюдениями, помогли писателю создать убедительную картину жизни. Лесков вспоминал, например: «Раз одному соседу старику, который „зажился“ за семьдесят годов и пошел в летний день отдохнуть под куст черной смородины, нетерпеливая невестка влила в ухо кипящий сургуч… Я помню, как его хоронили… Ухо у него отвалилось… Потом ее на Ильинке (на площади) „палач терзал“. Она была молодая, и все удивлялись, какая она белая…» («Как я учился праздновать. Из детских воспоминаний писателя». Цит. по Собранию сочинений Лескова, т. 1, с. 498).
ВОИТЕЛЬНИЦА
В первом издании рассказ предварялся посвящением художнику Михаилу Осиповичу Микешину (1835–1896), с которым Лесков был в дружеских отношениях.
ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ АНГЕЛ
В период создания повести Лесков выступает со статьями, посвященными проблемам иконописи. Его статья «Об адописных иконах», появившаяся в июле 1873 года в газете «Русский мир», вызвала целую дискуссию в печати. Там же в сентябре 1873 года была опубликована статья «О русской иконописи».
Древнерусским искусством и религией, в частности старообрядческой, Лесков интересовался еще с детства. Этому способствовало его близкое знакомство с археологом, преподавателем Академии художеств В. А. Прохоровым (1818–1882). В самом начале литературной деятельности, в 60-е годы, Лесков публикует серию статей в «Биржевых ведомостях» – «Русские архиереи и русские монастыри в старину», «Искания школ старообрядцами» и др.
Церковной тематики касается Лесков и в литературно-критических статьях 70-х годов: «Карикатурный идеал. Утопия из церковно-бытовой жизни (Критический этюд)» – о книге «Жизнь сельского священника» третьестепенного писателя официального направления Ф. В. Ливанова; статья о рассказах и повестях А. Ф. Погосского и др.
Н. С. Лесков выступал в защиту «одной из самых покинутых отраслей русского искусства» – иконописи, которая, по его мнению, служила делу просвещения народа. Он указывал на мировое значение таких шедевров, как «филаретовские святцы в Москве», «канонические створы русского письма, находящиеся в Ватикане у папы».
Лесков не воспринимает литографированные иконы как искусство. «Иконы надо писать руками иконописцев», – утверждает он. Наивысшую оценку дает он русской школе иконописи.
Из выдающихся русских мастеров-изографов своего времени Лесков называет имена Пешехонова, Силачева, Савватиева.
Таким образом, созданию «Запечатленного ангела» предшествовала большая работа Лескова по изучению иконописи как искусства.
Лесков обнаруживает также всесторонние и глубокие знания апокрифической литературы.
По требованию издателя «Русского вестника» М. Н. Каткова, Лесков вынужден был придать концовке повести поучительный характер: раскольники признают превосходство «господствующей церкви», якобы убежденные ее чудесами. Однако это «чудодейственное» преображение выглядит неправдоподобно, – об этом сам Лесков говорил в последней главе «Печерских антиков».
Как и многие произведения Лескова, «Запечатленный ангел» не сразу нашел издателя. Над этой повестью Лесков долго работал, «…вытачивать „Ангелов“ по полугода да за 500 р. продавать их – сил не хватает, а условия рынка Вы знаете, как и условия жизни», – жаловался писатель одному из корреспондентов (т. 10, с. 360).
Близость «Запечатленного ангела» к рождественскому рассказу вызвала к нему благосклонное внимание царя Александра II. Лесков пользовался «высочайшим» отзывом, чтобы оградить повесть от посягательств цензуры.
ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК
Первоначальное название «Черноземный Телемак».
Сопоставляя героя «Очарованного странника» с Телемаком, Дон Кихотом и Чичиковым, Лесков отвергал идею чисто приключенческого сюжета, которую пытались ему навязать. «Почему же лицо самого героя должно непременно стушевываться?.. – пишет он в январе 1874 года. – А Дон Кихот? А Телемак? А Чичиков? Почему не идти рядом и среде и герою?» (т. 10, с. 360).
Жанр этого произведения Лесков определял как рассказ. Большинство советских литературоведов считают его повестью.
Лесков не видел резких границ между жанрами. Повести и рассказы свои он часто называл очерками. Для него главнейшим принципом являлась художественность («искусность»). Защищая свою повесть от несправедливой критики, он писал: «…нельзя от картин требовать того, что Вы требуете. Это жанр, а жанр надо брать на одну мерку: искусен он или нет. Какие же тут проводить направления? Этак оно обратится в ярмо для искусства и удавит его, как быка давит веревка, привязанная к колесу» (т. 10, с. 360).
ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ
Рассказ основан на подлинных событиях, относящихся к жизни писателя конца 50-х и 60-х годов, когда он служил в компании фирмы «Скотт и Вилькенс».
Прототипом Пекторалиса, видимо, послужил инженер Крюгер, хотя, конечно, в рассказе – это характер, явившийся результатом творческого обобщения.
ОДНОДУМ
В первой половине 1879 года Лесков писал издателю «Нового времени» Суворину:
«Вы меня просили выискать что-нибудь недорогое, интересное и тягучее, с непрерывающимся интересом для „Недельного Нового времени“. Вот я Вам и прилагаю программу, что можно составить и что будет от начала до конца живо, интересно, весело и часто смешно, а в то же время нетенденциозно, но язвительнее самой злой брани… Напишу я это с любовью, выбрав материал из редкостного антика, давно скупленного и уничтоженного… Я буду поспевать к каждому №» (т. 10, с. 458).
Рассказ предварялся подзаголовком (впоследствии снятым): «Русские антики (Из рассказов о трех праведниках)».
НЕСМЕРТЕЛЬНЫЙ ГОЛОВАН
16 октября 1880 года Лесков пишет в редакцию «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому: «„Голован“ весь написан вдоль, но теперь надо его пройти впоперек». В конце письма – снова тревожные ноты: «„Голован“ …вышел слабее других (рассказов о праведниках. – Л. К.). Надо бы его хорошенько постругать. Не торопите до последней возможности» (т. 10, с, 472–473).
ЛЕВША
Первоначальное название рассказа – «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе (цеховая легенда)». В одном из изданий 1882 года был устранен эпитет «косой», в другом – название начиналось словами «стальная блоха».
Окончательный вариант названия, где на первый план выдвинуто собирательное имя народного героя, закреплен за рассказом в Собрании сочинений 1894 года.
В предисловии к первому отдельному изданию 1882 года писатель указал источник легенды: «Я записал эту легенду в Сестрорецке, по тамошнему сказу от старого оружейника, тульского выходца, переселившегося на Сестру-реку в царствование Александра I. Рассказчик два года тому назад был еще в добрых силах и в свежей памяти; он охотно вспоминал старину, очень чествовал государя Николая Павловича, жил „по старой вере“, читал божественные книги и разводил канареек. Люди к нему относились с почтением» (т. 7, с. 499).
Это дало повод некоторым критикам рассматривать рассказ как литературную обработку и даже стенограмму народной легенды.
Лесков решительно отвергал подобную точку зрения. «Все, что есть чисто народногов „сказе о тульском левше и о стальной блохе“, заключается в следующей шутке или прибаутке: „англичане из стали блоху сделали, а наши туляки ее подковали да им назад отослали“. Более ничего нет. о „блохе“, а о „левше“, как о герое всей истории ее и о выразителе русского народа, нет никаких народных сказов, и я считаю невозможным, что об нем кто-нибудь „давно слышал“, потому что, – приходится признаться, – я весь этот рассказ сочинилв мае месяце прошлого года, и левшаесть лицо мною выдуманное» (т. 11, с. 219).
Таким образом, Лесков утверждает, что его слова в «Предисловии» о том, что он только «записал» легенду, нельзя понимать буквально. В последующих изданиях писатель снимает предисловие.
Согласно первоначальному замыслу, Лесков должен был написать три сказа об императорах Александре I, Николае I и Александре III. В письме к И. С. Аксакову Лесков пишет, что у него готова «такая же легенда о нынешнем государе, под заглавием „Леон – дворецкий сын, застольный хищник“». Эту легенду Лесков писал в качестве продолжения «Блохи» и поместил в сб. «Юбилейная книжка. Премия к собранию романов за 1881 год».
Можно предположить, что в «Левше» объединены два первых очерка, так как они охватывают эпохи Александра I и Николая I. По-видимому, в результате смещения тематических акцентов в центре изображения оказался Левша.
ТУПЕЙНЫЙ ХУДОЖНИК
Рассказ основан на исторически достоверном материале. В Орле действительно долгое время существовал крепостной театр графов Каменских. А. И. Герцен изобразил его в повести «Сорока-воровка» (1848), но не мог в то время назвать имя хозяина театра.
Описанные Герценом, события происходили при С. М. Каменском (1771–1835), «просвещенном» театрале, сыне убитого своими крестьянами за жестокость в 1809 году генерал-фельдмаршала М. Ф. Каменского.
Лесков услышал рассказ, когда ему «уже минуло лет девять», то есть в 1840 году.
Исторические неточности в рассказе, отмечаемые исследователями творчества Лескова, свидетельствуют о том, что автор не стремился к точной передаче деталей, а воссоздавал типическую картину.
ЧЕЛОВЕК НА ЧАСАХ
Первоначальное название – «Спасение погибавшего».
В рассказе действует ряд исторических личностей: капитан Миллер, обер-полицмейстер Кокошкин, подполковник Свиньин; во «владыке» современники угадывали митрополита Филарета, упоминаются Николай I и великий князь Михаил Павлович, довольно точно переданы детали обстановки. Сын писателя Андрей Николаевич вспоминает, что рассказ написан со слов Н. И. Миллера.
Однако это не пересказ факта, а художественное обобщение. В предисловии Лесков говорит: «Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов…».
3ИМНИЙ ДЕНЬ
10 мая 1894 года Лесков пишет в редакцию журнала «Русская мысль» В. А. Гольцеву: «Посылаю сегодня в редакцию давно обещанную рукопись. Называется она „Зимний день“. Содержание ее живое и более списанное с натуры» (т. 11, с. 582). 4 июня 1894 года Лесков уже сетует на задержку корректур. «Я ведь ужасный копун и все должен себя выправлять да разглаживать. Я написал для барышни в „Зимнем дне“ сценку, которая мне нравится и я ее должен вставить! Это из того, что говорил Н. Н. Ге, {1} и это образно и важно для „духа времени“» (т. 11, с. 585).
Лесков работал над рассказом до последнего года жизни, усиливая его сатирическую направленность.
По свидетельству сына писателя А. Лескова, поводом к написанию рассказа явился шумный процесс с подделкой завещания миллионера В. И. Грибанова, в котором были замешаны люди, занимавшие видное положение в обществе.
Рассказ произвел отрицательное впечатление на официальные круги и был доброжелательно встречен в кругах литературных.
Л. Крупчанов