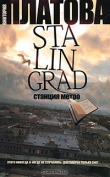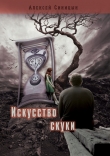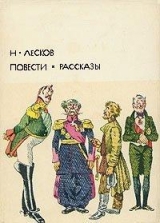
Текст книги "Повести. Рассказы"
Автор книги: Николай Лесков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 48 страниц)
– Только что духовенство, гости и сама вдова, засыпав на кладбище мерзлою землею могилу Сафроныча, возвратились в новый дом Марьи Матвеевны и сели за поминальный стол, как дверь неожиданно растворилась, и на пороге показалась тощая и бледная фигура Пекторалиса.
Его здесь никто не ждал, и потому появление его, разумеется, всех удивило, особенно огорченную Марью Матвеевну, которая не знала, как ей это и принять: за участие или за насмешку? Но прежде чем она выбрала роль, Гуго Карлович тихо и степенно, с сохранением всегдашнего своего достоинства, объявил ей, что он пришел сдержать свое честное слово, которое давно дал покойному, – есть блины на его похоронном обеде.
«Что же, мы люди крещеные, у нас гостей вон не гонят, – отвечала Марья Матвеевна, – садитесь, блинов у нас много расчинено. На всю нищую братию ставили, кушайте».
Гуго поклонился и сел, даже в очень почетном месте, между мягким отцом Флавианом и жилистым дьяконом Саввою.
Несмотря на свой несколько заморенный вид, Пекторалис чувствовал себя очень хорошо: он держал себя как победитель и вел себя на тризне своего врага немножко неприлично. Но зато и случилось же здесь с ним поистине курьезное событие, которое достойно завершило собою историю его железной воли.
Не знаю, как и с чего зашло у них с дьяконом Саввою словопрение об этой воле – и дьякон Савва сказал ему:
«Зачем ты, брат Гуго Карлович, все с нами споришь и волю свою показываешь? Это нехорошо…»
И отец Флавиан поддержал Савву и сказал:
«Нехорошо, матинька, нехорошо; за это тебя бог накажет. Бог за русских всегда наказывает».
«Однако я вот Сафроныча пережил; сказал – переживу, и пережил».
«А что и проку-то в том, что ты его пережил, надолго ли это? Бог ведь за нас неисповедимо наказывает, на что я стар – и зубов нет, и ножки пухнут, так что мышей не топчу, а может быть, и меня не переживешь».
Пекторалис только улыбнулся.
«Что же ты зубы-то скалишь, – вмешался дьякон, – неужели ты уже и бога не боишься? Или не видишь, как и сам-то зачичкался? Нет, брат, отца Флавиана не переживешь – теперь тебе и самому уже капут скоро».
«Ну, это мы еще увидим».
«Да что „увидим“? И видеть-то в тебе стало уже нечего, когда ты весь заживо ссохся; а Сафроныч как жил в простоте, так и кончил во всем своем удовольствии». «Хорошо удовольствие!»
«Отчего же не хорошо? Как нравилось, так и доживал свою жизнь, все с примочечкой, все за твое здоровье выпивал…»
«Свинья», – нетерпеливо молвил Пекторалис.
«Ну вот уже и свинья! Зачем же так обижать? Он свинья, да пред смертью на чердаке испостился и, покаясь отцу Флавиану, во всем прощении христианском помер и весь обряд соблюл, а теперь, может быть, уже и с праотцами в лоне Авраамовом сидит да беседует и про тебя им сказывает, а они смеются; а ты вот не свинья, а, за его столом сидя, его же и порочишь. Рассуди-ка, кто из вас больше свинья-то вышел?»
«Ты, матинька, больше свинья», – вставил слово отец Флавиан.
«Он о семье не заботился», – сухо молвил Пекторалис.
«Чего, чего? – заговорил дьякон. – Как не заботился? А ты вот посмотри-ка: он, однако, своей семье и угол и продовольствие оставил, да и ты в его доме сидишь и его блины ешь; а своих у тебя нет, – и умрешь ты – не будет у тебя ни дна, ни покрышки, и нечем тебя будет помянуть. Что же, кто лучше семью-то устроил? Разумей-ка это… ведь с нами, брат, этак озорничать нельзя, потому с нами бог».
«Не хочу верить», – отвечал Пекторалис.
«Да верь не верь, а уж дело видное, что лучше так сыто умереть, как Сафроныч помер, чем гладом изнывать, как ты изнываешь».
Пекторалис сконфузился; он должен был чувствовать, что в этих словах для него заключается роковая правда, – и холодный ужас объял его сердце, и вместе с тем вошел в него сатана, – он вошел в него вместе с блином, который подал ему дьякон Савва, сказавши:
«На тебе блин и ешь да молчи, а то ты, я вижу, и есть против нас не можешь».
«Отчего же это не могу?» – отвечал Пекторалис.
«Да вон видишь, как ты его мнешь, да режешь, да жустеришь».
«Что это значит „жустеришь“»?
«А ишь вот жуешь да с боку на бок за щеками переваливаешь».
«Так и жевать нельзя?»
«Да зачем его жевать, блин что хлопочек: сам лезет; ты вон гляди, как их отец Флавиан кушает, видишь? Что? И смотреть-то небось так хорошо! Вот возьми его за краечки, обмокни хорошенько в сметанку, а потом сверни конвертиком, да как есть, целенький, толкни его языком и спусти вниз, в свое место».
«Этак нездорово».
«Еще что соври: разве ты больше всех, что ли, знаешь? Ведь тебе, брат, больше отца Флавиана блинов не съесть».
«Съем», – резко ответил Пекторалис.
«Ну, пожалуйста, не хвастай».
«Съем!»
«Эй, не хвастай! Одну беду сбыл, не спеши на другую».
«Съем, съем, съем», – затвердил Гуго.
И они заспорили, – и как спор их тут же мог быть и решен, то ко всеобщему удовольствию тут же началось и состязание.
Сам отец Флавиан в этом споре не участвовал: он его просто слушал да кушал; но Пекторалису этот турнир был не под силу. Отец Флавиан спускал конвертиками один блин за другим, и горя ему не было; а Гуго то краснел, то бледнел и все-таки не мог с отцом Флавианом сравняться. А свидетели сидели, смотрели да подогревали его азарт и приводили дело в такое положение, что Пекторалису давно лучше бы схватить в охапку кушак да шапку; [217]217
Схватить в охапку кушак да шапку… – из басни И. А. Крылова «Демьянова уха» (у Крылова: «схватив»).
[Закрыть]но он, видно, не знал, что «бежк а не хвалят, а с ним хорошо». Он все ел и ел до тех пор, пока вдруг сунулся вниз под стол и захрапел.
Дьякон Савва нагнулся за ним и тянет его назад.
«Не притворяйся-ка, – говорит, – братец, не притворяйся, а вставай да ешь, пока отец Флавиан кушает».
Но Гуго не вставал. Полезли его поднимать, а он и не шевелится. Дьякон, первый убедясь в том, что немец уже не притворяется, громко хлопнул себя по ляжкам и вскричал:
«Скажите на милость, знал, надо как здорово есть, а умер!»
«Неужли помер?» – вскричали все в один голос.
А отец Флавиан перекрестился, вздохнул и, прошептав «с нами бог», подвинул к себе новую кучку горячих блинков. Итак, самую чуточку пережил Пекторалис Сафроныча и умер бог весть в какой недостойной его ума и характера обстановке.
Схоронили его очень наскоро на церковный счет и, разумеется, без поминок. Из нас, прежних его сослуживцев, никто об этом и не знал. И я-то, слуга ваш покорный, узнал об этом совершенно случайно: въезжаю я в день его похорон в город, в самую первую и зато самую страшную снеговую завируху, – как вдруг в узеньком переулочке мне встречу покойник, и отец Флавиан ползет в треухе и поет: «святый боже», а у меня в сугробе хлоп, и оборвалась завертка. [218]218
Завертка – привязь оглобли к саням.
[Закрыть]Вылез я из саней и начинаю помогать кучеру, но дело у нас не спорится, а между тем из одних дрянных воротишек выскочила в шушуне баба, а насупротив из других таких же ворот другая – и начинают перекрикиваться:
«Кого, мать, это хоронят?»
А другая отвечает:
«И-и, родная, и выходить не стоило: немца поволокли». «Какого немца?»
«А что блином-то вчера подавился».
«А хоронит-то его отец Флавиан?»
«Он, родная, он, наш голубчик: отец Флавиан».
«Ну, так дай бог ему здоровья!»
И обе бабы повернулись и захлопнули калитки.
Тем Гуго Карлыч и кончил, и тем он только и помянут, что, впрочем, для меня, который помнил его в иную пору его больших надежд, было даже грустно.
<1876>

Однодум
Глава перваяВ царствование Екатерины II у некоторых приказного рода супругов, по фамилии Рыжовых, родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солигаличе, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там, по словарю кн. Гагарина, [219]219
…по словарю кн. Гагарина. – Имеется в виду «Всеобщий географический и статистический словарь кн. С. П. Гагарина». М., 1843.
[Закрыть]значится семь каменных церквей, два духовные и одно светское училище, семь фабрик и заводов, тридцать семь лавок, три трактира, два питейные дома и 3665 жителей обоего пола. В городе бывают две годовые ярмарки и еженедельные базары; кроме того, значится «довольно деятельная торговля известью и дегтем». В то время, когда жил наш герой, здесь еще были соляные варницы.
Все это надо знать, чтобы составить понятие о том, как мог жить и как действительно жил мелкотравчатый герой нашего рассказа Алексашка, или, впоследствии, Александр Афанасьевич Рыжов, по уличному прозванию «Однодум».
Родители Алексашки имели собственный дом – один из тех домиков, которые в здешней лесной местности ничего не стоят, но, однако, дают кров. Других детей, кроме Алексашки, у приказного Рыжова не было, или, по крайней мере, о них мне ничего не сказано.
Приказный умер вскоре после рождения этого сына и оставил жену и сына ни с чем, кроме того домика, который, как сказано, «ничего не стоил». Но вдова-приказничиха сама дорого стоила: она была из тех русских женщин, которая «в беде не сробеет, спасет; коня на скаку остановит, в горящую избу взойдет», [220]220
«В беде не сробеет, спасет…» – из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз Красный нос» (ч. I, гл. IV. У Некрасова: «в горящую избу войдет»).
[Закрыть]– простая, здравая, трезвомысленная русская женщина, с силою в теле, с отвагой в душе и с нежною способностью любить горячо и верно.
Когда она овдовела, в ней еще были приятности, пригодные для неприхотливого обихода, и к ней кое-кто засылали свах, но она отклонила новое супружество и стала заниматься печеньем пирогов. Пироги изготовлялись по скоромным дням с творогом и печенкою, а по постным – с кашею и горохом; вдова выносила их в ночвах [221]221
Ночвы – лотки.
[Закрыть]на площадь и продавала по медному пятаку за штуку. От прибыли своего пирожного производства она питала себя и сына, которого отдала в науку «мастерице»; мастерица научила Алексашку тому, что сама знала. Дальнейшую же, более серьезную науку преподал ему дьяк с косою и с кожаным карманом, в коем у него без всякой табакерки содержался нюхательный порошок для известного употребления.
Дьяк, «отучив» Алексашку, взял горшок каши за выучку, и с этим вдовин сын пошел в люди добывать себе хлеб-соль и все определенные для него блага мира.
Алексашке тогда было четырнадцать лет, и в этом возрасте его можно отрекомендовать читателю.
Молодой Рыжов породою удался в мать: он был рослый, плечистый, – почти атлет, необъятной силы и несокрушимого здоровья. В свои отроческие годы он был уже первый силач и так удачно предводительствовал стеноюна кулачных боях, что на которой стороне был Алексашка Рыжов, – та считалась непобедимою. Он был досуж и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкий, красивый почерк, которым он написал старухам множество заупокойных поминаний и тем положил начало самопитания. Но важнее этого были те свойства, которые дала ему его мать, сообщившая живым примером строгое и трезвое настроение его здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле. Он был, как мать, умерен во всем и никогда не прибегал ни к чьей посторонней помощи.
В четырнадцать лет он уже считал грехом есть материн хлеб; поминания приносили немного, и притом заработок этот, зависящий от случайностей, был непостоянен; к торговле Рыжов питал врожденное отвращение, а оставить Солигалич не хотел, чтобы не разлучаться с матерью, которую очень любил. А потому надо было здесь же промыслить себе занятие, и он его промыслил.
В то время у нас только образовывались постоянные почтовые сообщения: между ближайшими городами учреждались раз в неделю гонцы, которые носилисуму с пакетами. Это называлась пешая почта. Плата за эту службу назначалась не великая: рубля полтора в месяц «на своих харчах и при своей обуви». Но для кого и такое содержание было заманчиво, те колебались взяться носить почту, потому что для чуткой христианской совести русского благочестия представлялось сомнительным: не заключается ли в такой пустой затее, как разноска бумаги, чего-нибудь еретического и противного истинному христианству?
Всякий, кому довелось о том слышать, – раздумывал, как бы не истравить этим душу и за мзду временную не потерять жизнь вечную. И тут-то вот общее сердоболие устроило Рыжовкина Алексашку.
– Он, – говорили, – сирота: ему больше господь простит, – особенно по ребячеству. Ему, если его на поноске дорогою медведь или волк задерет и он на суд предстанет, одно отвечать: «не разумел, господи», да и только. И в ту пору взять с него нечего. А если да он уцелеет и со временем в лета взойдет, то может в монастырь пойти и все преотлично отмолить, да еще не за своей свечой и при чужом ладане. Чего ему еще по сиротству его ожидать лучшего?
Сам Алексашка, которого это касалось всех более, был от мира не прочь и на мир не челобитчик: он смелою рукою взял почтовую суму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигалича в Чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре: он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса [222]222
Поэт вроде Борнса. – Бернс Роберт (1759–1796) – великий шотландский поэт.
[Закрыть]или Кольцова, но у Алексашки Рыжова была другая складка, – не поэтическая, а философская, и из него вышел только замечательный чудак «Однодум». Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали; почтовая сума до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой сумы, всегда носил с собою еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние.
Книга эта была Библия.
Глава втораяМне неизвестно, сколько лет он нес службу в пешей почте, беспрестанно таская суму и Библию, но, кажется, это было долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конною, а Рыжову «вышел чин». После этих двух важных в жизни нашего героя событий в судьбе его произошел большой перелом: охочий ходок с почтою, он уже не захотел ездить с почтарем и стал искать себе другого места, – опять непременно там же, в Солигаличе, чтобы не расстаться с матерью, которая в то время уже остарела и, притупев зрением, стала хуже печь свои пироги.
Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень не скоро, например лет за двенадцать, – надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет двадцать шесть или даже немножко более, и во все это время он только ходил взад и вперед из Солигалича в Чухлому и на ходу и на отдыхе читал одну только свою Библию в затрапезном переплете. Он начитался ее вволю и приобрел в ней большие и твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения.
Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть все писания многих пророков и особенно любил Исайю, [223]223
Пророк Исайя – библейский пророк, выступавший с критикой богачей и правителей.
[Закрыть]широкое боговедение которого отвечало его душевной настроенности и составляло весь его катехизис [224]224
Катехизис ( греч. – наставление) – изложение христианского вероучения в вопросах и ответах.
[Закрыть]и все богословие.
Старый человек, знавший во время своей юности восьмидесятипятилетнего Рыжова, когда он уже прославился и заслужил имя «Однодума», говорил мне, как этот старик вспоминал какой-то «дуб на болоте», где он особенно любил отдыхать и «кричать ветру».
– Стану, – говорит, – бывало, и воплю встречь воздуху:
«Позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего, а людие мои неразумеша. Семя лукавое; сыны беззакония! Что еще уязвляетесь, прилагая неправды! Всякая глава в болезнь, – всякое сердце в плач. Что ми множество жертв ваших: тука агнцов и крови юниц и козлов не хощу. Не приходите явитися ми. И аще принесете ми семидал – всуе; кадило мерзость ми есть. Новомесячий ваших, и суббот, и дне великого не потерплю: поста, и праздности, и новомесячий ваших, и праздников ненавидит душа моя. Егда прострете руки ваши ко мне, отвращу очи мои от вас, и аще умножите моления, – не услышу вас. Измыйтесь, отымите лукавство от душ ваших. Научитеся добро творити, и приидите истяжемся, и аще будут грехи ваши яко багряное – убелю их яко снег. Но князи не покоряются, – общницы татем любяще дары, гоняще воздаяние – сего ради глаголет саваоф: горе крепким, – не престанет бо ярость моя на противныя». [225]225
«Позна вол стяжавшего…» – Не совсем точная цитата из Книги пророка Исайи (I гл.).
[Закрыть]
И выкрикивал сирота-мальчуган это «горе, горе крепким» над пустынным болотом, и мнилось ему, что ветер возьмет и понесет слова Исайи и отнесет туда, где виденные Иезекиилем [226]226
Иезекииль – библейский пророк, который якобы видел ожившие по воле бога «сухие кости».
[Закрыть] «сухие кости» лежат, не шевелятся; не нарастает на них живая плоть, и не оживает в груди истлевшее сердце.
Его слушал дуб и гады болотные, а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе, – по его словам: «дышал любовью и дерзновением».
Все это созрело в нем давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места, не над болотом. Развитие Рыжова было уже совершенно закончено, и наступало время деятельности, в которой он мог приложить правила, созданные им себе на библейском грунте.
Под тем же дубом, над тем же болотом, где Рыжов выкрикивал словами Исайи «горе крепким», он дождался духа, давшего ему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И он принял это посвящение и пронес его во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромав ни на правое колено, ни на левое.
Впереди нас ожидает довольно образцов его задохнувшейся в тесноте удивительной силы и в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия, увенчавший его, как рыцаря, рыцарскою наградою.
Глава третьяВ ту отдаленную пору, к которой восходит передаваемый мною рассказ о Рыжове, самое главное лицо в каждом русском городишке был городничий. Не раз было сказано и никем не оспорено, что, по понятию многих русских людей, каждый городничий был «третье лицо в государстве». Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего – монарха разветвлялась так: первое лицо в государстве – государь, правящий всем государством; за ним второе – губернатор, который правит губерниею, и потом прямо за губернатором непосредственно следует третье – городничий, «сидящий на городу». Исправников тогда еще не было, и потому о них в разделении власти суждения не полагали. Так это оставалось, впрочем, и впоследствии: исправник был человек разъездной, и он сек только сельских людей, которые тогда еще не имели самостоятельного понятия об иерархии и, кто их ни сек, – одинаково ногами перебирали.
Введение новых судебных учреждений, ограничившее прежнюю теократическую полноправность [227]227
Теократическая полноправность. – Теократия (греч.) – форма правления, при которой духовенству принадлежит политическая власть.
[Закрыть]сельских администраторов, попортило это, особенно в городах, где оно значительно содействовало падению не только городнического, а даже губернаторского престижа, поднять который на прежнюю высоту уже невозможно, – по крайней мере, для городничих, высокий уряд которых заменен новшеством.
Но тогда, когда обдумывал и решал свою судьбу «Однодум», – все это было еще в своем благоустроенном порядке. Губернаторы сидели в своих центрах, как царьки: доступ к ним был труден, и предстояние им «сопряжено со страхом»; они всем норовили говорить «ты», все им кланялись в пояс, а иные, по усердию, даже земно; протопопы их «сретали» [228]228
Сретали (старослав.) – встречали.
[Закрыть]с крестами и святою водою у входа во храмы, а подрукавная знать чествовала их выражением низменного искательства и едва дерзала, в лице немногих избранных своих представителей, просить их «в восприемники к купели». И они, даже когда соглашались снизойти до такой милости, держали себя царственно: они не ездили крестить сами, а посылали вместо себя чиновников особых поручений или адъютантов, которые отвозили «ризки» и принимали почет «в лице пославшего». Все тогда было величественно, степенно и серьезно, под стать тому доброму и серьезному времени, часто противопоставляемому нынешнему времени, не доброму и не серьезному.
Рыжову вышла прекрасная линия приблизиться к началу градской власти и, не расставаясь с родным Солигаличем, стать на четвертую ступень в государстве: в Солигаличе умер старый квартальный, и Рыжов задумал проситься на его место.
Глава четвертаяКвартальническое место, хотя и не очень высокое, несмотря на то, что составляло первую ступень ниже городничего, было, однако, довольно выгодно, если только человек, его занимающий, хорошо умел стащить с каждого воза полено дров, пару бураков или кочан капусты; но если он не умел этого, то ему было бы плохо, так как казенного жалованья по этой четвертой в государстве должности полагалось всего десять рублей ассигнациями в месяц, то есть около двух рублей восьмидесяти пяти копеек по нынешнему счету. На это четвертая особа в государстве должна была прилично содержать себя и свою семью, а как это невозможно, то каждый квартальный «донимал» с тех, которые обращались к нему за чем-нибудь «по касающемуся делу». Без этого «донимания» невозможно было обходиться, и даже сами вольтерианцы против этого не восставали. [229]229
…и даже сами вольтерьянцы против этого не восставали. – Неточно приведенные слова городничего из «Ревизора» Н. В. Гоголя. У Гоголя: «и вольтериянцы напрасно против этого говорят» (д. I, явл. I).
[Закрыть]О «неберущем» квартальном никто и не думал, и потому если все квартальные брали, то должен был брать и Рыжов. Само начальство не могло желать и терпеть, чтобы он портил служебную линию. В этом не могло быть никакого сомнения, и не могло быть о том никакой речи.
Городничий, к которому Рыжов обратился за квартальничьим местом, разумеется, не задавал себе никакого вопроса о его способности к взятке. Вероятно, он думал, что на этот счет Рыжов будет, как все другие, и потому у них особого договора на этот счет не было. Городничий принял в соображение только его громадный рост, осанистую фигуру и пользовавшуюся большою известностью силу и неутомимость в ходьбе, которую Рыжов доказал своим пешим ношением почты. Все это были качества, очень подходящие для полицейской службы, которой добивался Рыжов, – и он был сделан солигаличским квартальным, а мать его продолжала печь и продавать свои пироги на том самом базаре, где сын ее должен был установить и держать добрые порядки: блюсти вес верный и меру полную и утрясенную.
Городничий сделал ему только одно внушение:
– Бей без повреждения и по касающему моего не захватывай.
Рыжов обязался это исполнять и пошел действовать, но вскоре же начал подавать о себе странные сомнения, которые стали тревожить третью особу в государстве, а самого бывшего Алексашку, а ныне Александра Афанасьевича, доводить до весьма тягостных испытаний.
Рыжов с первого же дня службы оказался по должности ретив и исправен: придя на базар, он разместил там возы; рассадил иначе баб с пирогами, поместя притом свою мать не на лучшее место. Пьяных мужиков частию урезонил, а частию поучил рукою властною, но с приятностью, так хорошо, как будто им этим большое одолжение сделал, и ничего не взял за науку. В тот же день он отверг и приношение капустных баб, пришедших к нему на поклон по касающему, и еще объявил, что ему по касающему ни от кого ничего и не следует, потому что за все его касающее ему «царь жалует, а мзду брать бог запрещает».
День провел Рыжов хорошо, а ночь провел еще лучше: обошел весь город, и кого застал на ходу в поздний час, расспросил: откуда, куда и по какой надобности? С добрым человеком поговорил, сам его даже проводил и посоветовал, а одному-другому пьяному ухо надрал, да будошникову жену, которая под коров колдовать ходила, в кутузку запер, а наутро явился к городничему с докладом, что видит себе в деле одну помеху в будошниках.
– Проводят, – говорит, – они время в праздности и спросонья ходят без надобности, – людям по касающему надоедают и сами портятся. Лучше их от ленивой пустоты отрешить и послать к вашему высокоблагородию в огород гряды полоть, а я один все управлю.
Городничему это было не вопреки, а домовитой городничихе совсем по сердцу; одним будошникам могло не нравиться, да закону не соответствовало; но будошников кто думал спрашивать, а закон… городничий судил о нем русским судом: «закон – что конь: куда надо – туда и вороти его». Александр же Афанасьевич выше всего ставил закон: «в поте лица твоего ешь хлеб твой», и по тому закону выходило, что всякие лишние «приставники» – бремя ненужное, которое надо отставить и приставить к какому бы то ни было другому настоящему делу, – «потному».
И учредилось это дело, как указал Рыжов, и было оно приятно в очах правителя и народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных. А Рыжов сам ходит по городу днем, ходит один ночью, и мало-помалу везде стал чувствоваться его добрый хозяйский досмотр, и опять было это приятно в очах всех. Словом, все шло хорошо и обещало покой невозмутимый, но тут-то и беда: не св а рился народ – не кормил воевод, – ниоткуда ничто не касалося, и, кроме уборки огорода, не было правителю прибылей ни больших, ни средних, ни малых.
Городничий возмутился духом, вник в дело, увидал, что этак невозможно, и воздвиг на Рыжова едкое гонение.
Он попросил протопопа разузнать, нет ли в бескасательном Рыжове какого неправославия, но протопоп отвечал, что явного неправославия в Рыжове он не усматривает, а замечает в нем некую гордыню, происходящую, конечно, от того, что его мать пироги печет и ему отделяет.
– Пресечь советую оный торг, ей ныне по сыну не подобающий, и уничтожится тогда ему оная его непомерная гордыня, и он прикоснется.
– Пресеку, – отвечал городничий и сказал Рыжову. – Твоей матери на торгу сидеть не годится.
– Хорошо, – отвечал Рыжов и взял мать с ночвами с базара, а в укоризненном поведении остался по-прежнему, – не прикасался.
Тогда протопоп указал, что Рыжов не справлял себе форменного платья, и в пасхальный день, скупо похристосовавшись с одними ближними, не явился с поздравлением ни к кому из именитых граждан, на что те, впрочем, претензии не изъявляли.
Это находилось в зависимости одно от другого. Рыжов не ходил за праздничными, и потому ему не на что было обмундироваться, но обмундировка требовалась, и она была у прежнего квартального. Все видели у него и мундир с воротом, и ретузы, и сапоги с кисточкой, а этот как ходил с почтою, так и оставался в полосатом тиковом бешмете с крючками, в желтых нанковых штанах и в простой крестьянской шапке, а на зиму имел овчинный нагольный тулуп и ничего иного не заводил, да и не мог завести на 2 руб. 87 коп. месячного жалованья, на которое жил, служа верою и правдою.
К тому же произошел случай, потребовавший денег: умерла мать Рыжова, которой нечего было делать на земле после того, как она не могла на ней продавать пироги.
Александр Афанасьевич схоронил ее, по общему отзыву, «скаредно», чем и доказал свою нелюбовь. Он заплатил за нее причту по малости, но по самой-то пирожнице даже пирога не спек и сорокоуста [230]230
Сорокоуст – сорокодневная молитва в церкви по умершим.
[Закрыть]не заказал.
Еретик! И это было тем достовернее, что хотя городничий ему не доверял и протопоп в нем сомневался, но и городничиха и протопопица за него горой стояли, – первая за пригон на ее огород бударей, а вторая по какой-то тайной причине, лежавшей в ее «характере сопротивления».
В этих особах Александр Афанасьевич имел защитниц. Городничиха сама ему послала от урожая земного две меры картофеля, но он, не развязывая мешков, принес картофель назад на своих плечах и коротко сказал:
– За усердие благодарю, а даров не приемлю.
Тогда протопопица, дама мнительная, поднесла ему две коленкоровые манишки своего древнего рукоделья от тех пор, когда еще протопоп был ставленником, но чудак и этого не взял.
– Нельзя, – говорит, – дары брать, да и, одеваясь по простоте, я никакой в сем щегольстве пользы не нахожу.
Тут и сказала протопопица мужу в злости задорное слово.
– Вот бы, – говорит, – кому пристало у алтаря стоять, а не вам, обиралам духовным.
Протопоп осердился, – велел жене молчать, а сам все лежал да думал:
«Это новость масонская, и если я ее услежу и открою, то могу быть в большом отличии и даже могу в Петербург переехать».
Так он этим забредил и с бреду составил план, как обнажить совесть Рыжова до разделения души с телом.