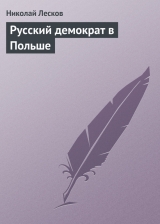
Текст книги "Русский демократ в Польше"
Автор книги: Николай Лесков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Глава пятая
Вечером мы в своих кружках думали и гадали: каковы могут быть последствия смелого и, как нам казалось, гениального по своей простоте предложения Ивана Фомича? Нам казалось невозможным, чтобы фельдмаршал не внял его представлениям и не позволил изыскать средства к их осуществлению.
Один только, – был у нас другой начальник отделения, Ивашин, с русской фамилиею, но хохол, он был грубоват и выражался не изысканно, – так он не то что сомневался, но не отрицал возможности сомнения, и тем нас огорчал. Он, лениво цедя слова сквозь зубы, сказал:
– Перестаньте угадывать и ждите утра: не угадаете; может случиться и то, чего не может быть. Совершенно невозможно на свете только одно, – козырного туза покрыть, этого уже никакой чудотворец не сделает.
Добрейший Яков Фомич (так звали Ивашина) был и умник, и делец, и характера самого достойного, но любил, к своему наследственному гадяческому или кролевецкому остроумию, подпустить благоприобретенного волтерианства. Особенно он лих был насчет чудес, которые имел слабость считать личною для себя обидою, и всегда имел при себе наготове этого козырного туза, которого, по его словам, «никакой чудотворец не покроет».
Но ночь прошла в мирном сне, или, кому спать не хотелось, – в других каких-либо занятиях, а наутро приходит в канцелярию Лахтин и говорит:
– Свидание Ивана Фомича с фельдмаршалом было как нельзя больше благоприятно. Больше ничего вам сказать не могу, но Иван Фомич сам все расскажет.
Самбурский как пришел, подписал заготовленные к этому дню бумаги и потом говорит:
– Поздравляю всех вас, господа, с радостною работою. Фельдмаршал, выслушав мои соображения, о которых здесь вчера было говорено, изволил выразить этому делу свое сочувствие и желает, чтобы были составлены самые точные и полные сведения с возможно подробным кадастровым описанием, по которому можно было бы судить о достоинстве и стоимости имений. Это работа сложная и трудная, потому что мало данных, но тем более чести ее исполнить, и я надеюсь, что тут мы себя покажем достойными его доверия и исполним все как только возможно и с большою радостию.
Действительно, работали с радостию. Откуда только что возможно было выбрать – все собрали. А сам Иван Фомич в это время изготовил свой проект, который, как все им писанное, был изложен мастерски и пошел в ход. Прежде чем готовы были наши кадастры и сметы, потребные уже к заключительному дележу и рассадке двадцати пяти тысяч наших воинов, которые должны были поставить свои самовары и напустить здесь приятного отечественного дымку, князь был введен Самбурским во все его соображения.
Все остальное делалось скоро, мы спешили изготовить дело к поездке фельдмаршала в Петербург, и изготовили так благовременно, что он мог до отъезда изучить и детали дела. Это было необходимо для обстоятельного объяснения на каждый могущий возникнуть в Петербурге вопрос. Самбурский был очень доволен, что князь вникает в дело внимательно и даже делает себе отметки о землях.
Последнее было тем радостнее, что Иван Фомич, имевший на руках кучу дел, не мог оставить Варшавы и не сопровождал фельдмаршала. Стало быть, очень важно было, чтобы он все знал и мог все совершить, не требуя каких-нибудь частных разъяснений.
Самбурский не ошибся: фельдмаршал, действительно, вполне овладел предметом и сочинил собственный план, как этим делом распорядиться.
Глава шестая
Паскевич уехал, а мы в это время в своей канцелярии все возились с эмеритурою и вообще уравнением русских чиновников в выгодах службы с чиновниками из поляков, которые имели многие преимущества. У нас это дело поднимал и горячо, но безуспешно разработывал Ивашин, а мы все ему помогали, только без пользы. Это отсрочилось до новых историй, когда нас там уже не было. При нас, как ни горячился Ивашин, русские чиновники военного министерства все получали за выслугу 35 лет 150–200 р. пенсии, а чиновники Царства Польского из поляков по той же должности получали за выслугу 25 лет по 6.000 злотых эмеритального пенсиона. Ивашин представил это Паскевичу, и тот нашел это неправильным и позволил открыть переписку с разными ведомствами. Всем нам хотелось упорядочить это так, – чтобы русским не обидно было против поляков, но не вышло по-нашему. Сведения о штатах доставлялись плохо, и это нам причиняло много хлопот, за которыми мы и не заметили, как прошло время отъезда светлейшего и он снова вернулся в Варшаву.
Перед возвращением князя ни снов никто не видал, ни мыши из нор не выходили, ни невидимая нежить тяжелою ступнею по полу не расхаживала и не трещала половицами, словом, ничто никого не выживало, а между тем для всех нас был готов удар, самый неожиданный и очень вредный для дела, но отчасти и не лишенный комизма, или, лучше сказать, горькой иронии.
Самбурский виделся с фельдмаршалом по его возвращении не из первых, и притом не с глазу на глаз, а на официальном выходе.
Иван Фомич не был самолюбив в дурном смысле этого слова, да и укола в этом его самолюбию не было, но было другое, чего он имел причины не желать и опасаться. Было заметно, что светлейшему как будто неловко или, по крайней мере, неприятно что-то сообщить своему директору, которого умом и соображениями он сам гордился, а честность его уважал.
Но, конечно, игры нельзя было тянуть долго: при первом же докладе, будет или не будет речь о том, что фельдмаршалу неприятно, – Самбурский с его прозорливостью прочтет князя; да и самому князю, который никого не боялся – нескладно же так институтски конфузиться лица ему подчиненного, каким был Самбурский.
Паскевич, конечно, все это знал и не мог поступить иначе, как поступил.
Глава седьмая
Самбурский возвратился с доклада князю не скоро, но сошел в канцелярию спешными шагами, был красен и расстроен.
Он роздал начальникам отделения Ивашину и Лахтину принесенные с собою бумаги и послабив пальцем галстук сказал:
– Господа! я с вами прощаюсь.
Услыхав это, мы все вскочили с мест и, забыв всякую дисциплину, бросились к нему и осыпали его вопросами: что, как и для чего?
– Я подаю в отставку.
Все опять заговорили:
– Для чего, Иван Фомич, для чего?
Он отвечал, представление мое решено иначе, – князь имеет майорат, который должен приносить 200.000 злотых, несколько других лиц получили меньшие участки с доходами тысяч до 60 и т. д. Вместо многих маленьких русских оседлых помещиков будет только очень немного крупных, и притом таких, которые никогда в своих деревнях не сидят, – самоваров на стол не ставят и за чаем по-русски не говорят. Такого оборота я не ожидал и не мог предвидеть, по эта игра не стоит свеч. Если бы я знал, что это случится, то я задушил бы в себе эту мысль, которую столько времени носил и в значении которой для России и для Польши не сомневаюсь. Но теперь она совершенно испорчена и, чтобы ее поправить, надо ожидать нового восстания и новых конфискаций… Без этого и не обойдется, но одно соображение об этом меня угнетает. Я этого снести не могу.
Мы заговорили:
– Ну что, Иван Фомич, – все может измениться: фельдмаршал вас уважает и любит…
– Да; благодарю его, – перебил Самбурский: – он меня не забыл, – мне тоже предложено выбрать себе майорат, но я этим не воспользуюсь, – я от него отказался. Передо мною была открыта возможность полнейшей оценки всех земель и угодий вовсе не за тем, чтобы я мог выбрать себе лучшее. Служить каждому правительству нужно честно, а тем более правлению монархическому, где государь один правит, и потому кому он верит, тому грех и стыд не хранить и не беречь его доверие, а думать о себе. От этого падает уважение ко всему правительству. В разговоре со мною было употреблено слово «демократ». Оно шло, очевидно, по моему адресу… Что же, – я принимаю и не обижаюсь; демократ не демагог. Быть демократом, между прочим, значит желать счастия возможно большему числу людей. Я этого желаю, и, по-моему, в этом нет ничего дурного. Аристократия желает противоположного; господства своего меньшинства. «Нельзя без аристократии». Есть такой взгляд, но только я его не разделяю. Аристократии есть место в Англии, и там я ее понимаю, хотя и там считаю несправедливою и недолговечною; – роль аристократизма в польской истории вижу только губительную, а в русской истории никакого места аристократизму вовсе не нахожу, ибо строй нашей монархии демократический. В другие начала я не верю и служить им не могу. У меня есть хлеб, – пенсион, который я выслужил, а у жены моей в Петербурге, на Воскресенской набережной, есть домик, в котором мы и можем дожить нашу старость. Прощайте: служите честно, а меня не уговаривайте остаться. – При этом он горько улыбнулся и, обратясь с шутливою ирониею к Ивашину, добавил:
– Ваше взяло, Яков Фомич, – козырного туза, действительно, ничем не покроешь, а мои самоварчики заглохли и с тем роль моя кончена.
Так оно и было для него кончено. Он выехал из Варшавы, имея те же ограниченные достатки, с какими приехал. Поляки, считавшие Самбурского человеком справедливым и весьма его уважавшие, были, однако, чрезвычайно рады его падению. Его план о двадцати пяти тысячах самоваров сделался им известен через закрытые двери Петербурга или Варшавы и напугал их хуже самых больших пушек. Они ужаснулись этого плана, вредоносность которого для всех их затей была так очевидна по его необыкновенной простоте и органической прочности. Отдача казенных и конфискованных земель большими майоратами, в сравнении со страшным планом о самоварах, казалась легкою и сравнительно совсем неопасною для польского патриотизма, – что и оправдалось.
Самбурский выехал скоро; с фельдмаршалом они прощались в палатке, которая стояла у Паскевича в комнате. Разлука, вероятно, была теплая, потому что Самбурский, выйдя, казался растроганным. На виду пред всеми они еще поцеловались, а когда Иван Фомич возвратился домой, прислуга, убиравшая его плащ, нашла в его кармане и подала Самбурскому пакетик, в котором оказалась записочка на польском языке. Это было нечто вроде диплома, выданного «действительному русскому демократу Самбурскому» на звание «государственного самовара» (samowara panstwa).
Над этой польской шуткой, которую немудрено было устроить в многолюдной лакейской, конечно, только и оставалось посмеяться.
Глава восьмая
Вместо Самбурского директором канцелярии был назначен Я—ч, человек совсем другого сорта и других правил. Он на первых же порах столкнулся с Ивашиным, который все еще продолжал хлопотать об эмеритуре для русских чиновников. Повздорив с начальником отделения, новый директор сказал ему:
– Я не могу с вами служить.
– И мне тоже это очень неприятно, – отвечал Ивашин: – просите себе перемещения или выходите в отставку.
Того это ужасно обидело, и он пожаловался Паскевичу.
– Ты ничего не понимаешь, и должен ценить людей, которых тебе оставил Самбурский, – отвечал фельдмаршал. А докучное дело об уравнении служебных выгод, приносившее много хлопот по сношениям, приказал «бросить».
Всему этому надо было долежаться до позднейшего времени и до других русских деятелей, которым удалось сделать в этих вопросах более того, что мог сделать Самбурский. Чести их это, разумеется, нимало не уменьшает, но для исторической верности и справедливой оценки событий, может быть, не лишнее знать, что идеи князя Владимира Александровича Черкасского гораздо прежде его трудов в Польше имели первого дальнозоркого, деятельного и притом самоотверженного и бескорыстнейшего представителя в лице Ивана Фомича Самбурского. Таких людей достойно знать и в известных случаях жизни подражать им, если есть сила вместить благородный патриотический дух, который согревал их сердце, окрылял слово и руководил поступками.
Впервые опубликовано – сборник «Три праведника и один Шерамур», СПб., 1880.





