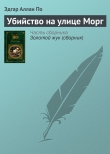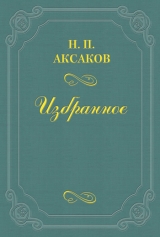
Текст книги "Психология Эдгара По"
Автор книги: Николай Аксаков
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Труп старика был разрезан на части и спрятан под полом так хорошо, что не сохранилось никаких следов преступления. Через несколько дней явилась полиция для производства обыска и, разумеется, ничего не могла найти, удовлетворившись заявлением, что старик просто-напросто отлучился на несколько дней.
«Производившие обыск совершенно успокоились. Манеры мои убедили их. Я чувствовал себя замечательно хорошо. Полицейские уселись со мной (в той комнате, под полом которой спрятан был труп) и разговаривали о посторонних вещах, а я весело вторил их разговору. Но через несколько времени я почувствовал, что бледнею, и начал желать их ухода. Голова моя болела, в ушах раздавался какой-то шум; а они все продолжали сидеть и все еще разговаривали между собою. Шум сделался сильнее; он начал принимать определенный тон ( определенную окраску). Чтобы освободиться от страшного ощущения, я смелее начал вмешиваться в разговоры. Но шум все продолжался и становился все более явственным, так что я убедился, что он совершается не только в моих ушах».
Проходит еще несколько минут; шум становится еще более явственным, еще более определенным. Безумный преступник уже узнает в нем то же самое тиканье завернутых в вату часов, которое так потрясло его в минуты, предшествовавшие убийству; ему слышится мерный и учащенный стук сердца убитого. Мучительное состояние его достигает своего апогея, а стук сердца гремит все сильнее и сильнее.
«Боже мой! что еще оставалось мне сделать? Я двигал стулом, на котором сидел, и намеренно шумел им; но стук сердца заглушал этот шум и увеличивался в бесконечность… Может ли быть, чтобы они не слыхали его?.. Боже всемогущий! Нет, нет! они слышат, они подозревают, они знают, – они притворяются… А стук становился все громче, громче и громче…
– Негодяи! воскликнул я: – не притворяйтесь больше! Я сознаюсь в преступлении! Поднимите эти доски! Здесь, здесь! Это стук его ужасного сердца!»
В психическом отношении этот стук сердца – те же кровавые пятна, которые по прошествии годов мерещатся леди Макбет, скорбящей о том, что «все воды океана не в силах вымыть этой маленькой ручки» и «все благоухания Аравии не могут заглушить запаха крови». Много психологически общего с страданиями героя рассмотренного нами рассказа представляют нам долгие внутренние мучения Раскольникова в «Преступлении и наказании» Достоевского. И тот, и другой находятся только под гнетом внешних, воспринятых ими впечатлений; и тот, и другой переживают почти одну и ту же мучительную психозу; и тот и другой не в силах освободиться от давящего их представления, но ни у того, ни у другого не пробуждается еще голос совести в нравственном значении этого слова. «Гнет этот сильнее меня», говорят они в конце концов и, признавая себя побежденными, отдают себя в руки правосудия, потому прежде всего, что не могут больше молчать.
Но цель преступления, психология преступления остается все-таки еще невыясненной. Для того чтобы постигнуть ее, нам надо обратиться к другим произведениям нашего писателя. Близорукая, казенная психиатрия, правда, подсказывает нам, что тут главною действующею силою, главным агентом является idée fixe. Нас гнетет представление, и мы желаем стряхнуть с себя этот гнет, освободиться от представления. Но для того, чтобы избавиться от представления, надо (в некоторых, разумеется, только случаях) удалить соответствующий во внешнем мире представлению этому предмет и не только удалить его, спрятать, но и знать, что его более не существует, уничтожить его. Подчинение этому сопернику наш писатель совершенно верно называет духомили демоном противоречия.
Прежде чем представить читателям нашим анализ этой внутри нас живущей и действующей в нас силы (и притом, несомненно, собственной нашей силы) – как постигает анализ этот изучаемый нами писатель – мы попытаемся иллюстрировать существование силы этой несколькими примерами. Мы находимся, напр., на какой-нибудь высоте и боимся страшной бездны, расстилающейся перед нами, но в то же самое время мы невольно боремся в душе с какою-то силою, которая влечет, толкает нас в эту бездну. Мы не опасаемся какой бы то ни было силы, которая толкнула бы нас сзади, мы хорошо и ясно сознаем, что бездна не притягивает нас к себе, как киль корабля притягивает пловца или легкий челнок, – мы боремся только с собственным своим внутренним стремлением, боимся сами спрыгнуть в бездну, именно из желания избегнуть ее, именно из боязни перед ней. Мы боимся сделать именно не то, что желаем, а эта боязнь действует в нас отрицательным образом, т. е. толкает нас в бездну. «Не прыгай! не оступись!» – шепчет или, точнее, вопиет нам какой-то голос неисчислимое количество раз, и это-то именно гонит нас к бездне или, точнее, внушает нам страх за самих себя; мы боимся только самих себя. Известный автор мистических «Странствований пилигрима», английский поэт Бониал [1]1
Ошибочное написание имени в источнике. Имеется ввиду английский религиозный писатель Джон Баньян (1628–1688). (Прим. ред.)
[Закрыть], рассказывает про себя, что в отрочестве он был поражен текстом о грехе против Духа Святого, который не прощается никогда, хотя бы и все грехи могли проститься. Гнетущая боязнь совершить этот неведомый по существу своему грех овладевает им. Он трепещет перед мыслию как-нибудь нечаянно, незаметным для себя образом совершить этот непрощаемый грех, сущность которого остается ему совершенно незнакомою, анализирует свое прошлое, чтобы узнать, не совершил ли он его уж когда-нибудь. И вот идея об этом грехе начинает занимать всю его душу, овладевает им постепенно. Он видит уже себя прельщаемым этим грехом, привлекаемым его тайною, стремящимся во что бы то ни стало совершить его. Внутренний мотив «не совершай!» постепенно обращается в искушающий голос: «соверши!» – борьба приводит к совершенно отрицательному. Известен в психологической литературе рассказ Александра Гумбольдта про свою няню, которая когда-то, раздевая его, так испугалась шутливой мысли, что она могла бы охотно съесть аппетитное тело ребенка, что эта мысль начала представляться ей каждое утро и каждый вечер, и она кончила тем, что просила родителей Гумбольдта прогнать ее, чтобы не совершилось страшное преступление, искушению которого она не в силах была уже противостоять. Боязнь преступления обратилась у нее в стремление к нему. Внутренний императив получил обратное, противоположное содержание путем борьбы. В мире художества этот процесс внутренней метаморфозы императива замечательно верно и замечательно хорошо изображен Гоголем, хотя и с комической стороны, в превосходном, последнем монологе Подколесина, любующегося счастьем своей будущей семейной жизни и готовящегося издать закон, чтобы все люди были непременно женаты и не было бы ни одного холостого человека. «Однако ж… на весь век… все кончено, все сделано. Уж вот даже и теперь никак назад нельзя попятиться; через минуту и под венец; уйти даже нельзя – там уж и карета, и все стоит в готовности. А будто в самом деле нельзя уйти? Как же, натурально нельзя; там в дверях и везде стоят люди; ну, спросят – зачем? Нельзя, нет! А вот окно открыто; что, если бы в окно? Нет, нельзя! Как же, и неприлично, да и высоко. Ну, еще не так высоко, только один фундамент, да и тот низенький. Ну, нет, как же, со мной нет даже картуза. Как же без шляпы? неловко. А что, если бы попробовать – а? Попробовать, что ли? Господи, благослови!.. Ох! однако ж, высоко! Эй, извозчик»!
В этом раздумье и в этом поступке смешного для нас Подколесина верно отражаются медленно по временам и мучительно совершающиеся процессы комедии и трагедии человеческой. Суть процесса заключается в непроизвольной метаморфозе внутреннего императива, а психические мотивы к этой метаморфозе могут быть и в высшей степени различны.
Такова внутренняя психическая сила, которая играет такую значительную роль в произведениях Эдгарда Поэ, и которую называет он демоном противности или противоречия (perversity) за отсутствием лучшего термина для выражения его мысли. Суть этой силы, этого демона заключается в стремлении совершить что-либо именно потому, что не нужно его совершать, что не должноего совершать. Обращая особенное или даже почти исключительное внимание на вторую редакцию этого мотива, писатель наш видит в демоне этом непременно злое начало, как основу сопротивления нравственному долгу, и впадает в отношении этом, как увидим мы после, в значительную ошибку. Всего подробнее говорит он о нем в рассказе, имеющем специальное название «Демона противоречия» и представляющем несомненно глубокий психологический интерес. «Двигатель, о котором идет в настоящее время речь, – говорит он, – представляется нам двигателем без мотива или имеющим такой мотив, который сам в свою очередь ничем не может быть мотивирован. Под влиянием его действуем мы без всякой разумной цели… мы действуем так потому, что не должны так действовать. В теории не может быть побуждения более бессмысленного, но на практике не существует побуждений более сильных. Для известного рода людей в известного рода обстоятельствах они становятся абсолютно неподлежащими сопротивлению, безусловно непобедимыми. Самая жизнь для меня не так несомненна, как верность этого предположения; уверенность в грехе или ошибочности, заключающихся в каком-нибудь деянии, является для нас зачастую единственной неотразимой силой, побуждающею нас к его осуществлению. Это стремление творить зло ради одного только зла не допускает никакого анализа, не содержит в себе никаких предварительных элементов. Это – побуждение простое, примитивное»…
«Я – одна из бесчисленных жертв демона противоречия». Такими словами начинается самый рассказ в тесном смысле этого слова. Суть рассказа, зерно его заключается в преступлении, совершенно похожем на то, которое составляло завязку сообщенного уже нами рассказа – «Сердце-обличитель». Перед нами убийство старика посредством заранее приспособленной отравленной свечи, помещенной в его спальню. Все следы преступления были скрыты самым совершеннейшим образом, и ничто не угрожало свободе и безопасности преступника. Мысль о возможности разоблачения существовала только в его душе и заставляла его переживать сильную внутреннюю работу, приводившую его, однако, к неизменному заключению: « я спасен!»
Однажды, бродя по улицам, я поймал самого себя, в то время как произносил почти вслух эти, сделавшиеся мне столь привычными слова. В порыве волнения я выразил владевшее мною чувство в следующей новой для меня форме: я спасен! я спасен, если только не буду так глуп, чтобы самолично донести на себя.
Едва только произнес я эти слова, как почувствовал холод, проникший мне в самое сердце. Я уже испытал несколько приступов демона противоречия (таинственной природы которого я никогда не мог себе объяснить) и знал, что никогда не мог противостоять его победоносному напору. И теперь, когда во мне самом появился зародыш сознания того, что я могу оказаться настолько глуп, чтобы объявить о своем деянии, – сознание это преследовало меня сильнее, чем тень убитого мною человека, и призывало меня к смерти.
Сначала я сделал усилие, чтобы стряхнуть с своей души этот ужасный кошмар. Я шел медленным шагом, – скорее, все скорее, и наконец побежал. Я чувствовал опьяняющее меня стремление закричать изо всей моей силы. Всякий новый наплыв моей мысли наполнял меня новым ужасом, ибо, увы! я понимал вполне ясно, что мыслить в моем положении значит губить себя. Я ускорял свои шаги. Я проносился, как сумасшедший, по переполненным народом улицам. Толпа понемногу чувствовала тревогу и бросилась за мной. Я чувствовал, что судьба моя приходит к концу. Если бы я мог вырвать себе язык, – я сделал бы это. Вдруг грубый голос раздался в ушах моих, еще более грубая рука схватила меня за плечо. Я обернулся, – я открыл рот, чтобы говорить. Я испытывал в течение минуты все муки удушения; я стал глух, слеп, опьянен, и как будто какой-то невидимый демон подталкивал меня в спину своею широкою рукою. Тайна, которую так долго хранил я и берег, вылилась из моей души.
Потом рассказывали, что я говорил, что я рассказывал со всею подробностью все, относящееся к преступлению. Сообщив все, что было нужно для полного убеждения судей, я упал в бесчувственность, в утомление.
Демон противоречия, сила внутреннего противоречия, побуждающая нас творить ненавистное нам, противоположное основному желанию нашему, то, чего желали бы мы избегнуть, – составляет основу и подкладку многочисленных рассказов нашего писателя. Мотив этот проглядывает мельком и там, где в основе завязки лежат совершенно иные психические настроения, совершенно иные психозы. С особенною яркостью выступает он, между прочим, в известном рассказе «Черная кошка», представляющем постепенное падение и нравственное растление героя под влиянием демона невоздержности – алкоголизма.
«И тогда-то для окончательного и бесповоротного падения моего, сообщает рассказчик, выступил во мне во всей силе дух противоречия. Философия не занимается и не занималась этим духом. Но так же верно, как то, что существует во мне душа, убежден я в том, что дух противоречия этот составляет одно из самых примитивных, прирожденных стремлений человеческого сердца, – что он принадлежит к числу тех основных наклонностей, которые придают направление человеческому характеру. Кто не изумлялся самому себе сотни раз, совершая какой-либо глупый или низкий поступок без всякой другой причины, без всякого другого побуждения, кроме сознания того, что не должно было совершать его? Не существует ли в нас при самых лучших намерениях наших постоянного стремления, склонности к нарушению закона, потому только, что это закон? Этот дух противоречия, как уже говорил я, явился причиною моего конечного падения. Страстное, непостижимое стремление души пытать самого себя, насиловать свою собственную природу– творить зло из одной только любви к злу побуждало меня продолжать и довести до конца ужасную муку, которую предназначил я для несчастной кошки. Однажды утром я совершенно хладнокровно накинул петлю ей на шею и повесил ее на дереве; я повесил ее, сам плача от горя, с самым горьким раскаянием в сердце; я повесил ее потому, что знал, что она меня любила, потому что знал, что она не дала мне никакого повода к ненависти; я повесил ее, потому что знал, что, поступая таким образом, я творю грех – смертельный грех, губящий мою бессмертную душу».
Насколько нам известно, во всей области художественного творчества, художественной психологии никто с такою ясностью, с такою полнотою не рассматривал странного психологического процесса, которому суждено играть такую громадную роль в трагикомедии человеческой жизни и которому посвятили мы эти последние страницы. Но, как уже говорили мы, Поэ не совсем ясно понял суть этого процесса и потому впал в некоторые заблуждения, недостаточно отличив его сущность от того, что случайно к нему присоединяется, смешав его с некоторыми другими близкими к нему, но нетожественными с ним психическими настроениями, а именно с стремлением насиловать собственную свою природу и с стремлением нарушать долг, потому именно, что он долг. Из этого последнего сопоставления демон противоречия сделался необходимо законом нравственного зла, стремлением ко злу потому именно, что оно зло. Причиною всего смешения является то, что Поэ недостаточно объяснил себе сущность этих процессов и увлекся только сходством непосредственных их результатов.
В основе стремления к ломке и насилованию собственной своей природы, к нарушению закона, потому только, что он закон, лежит стремление к подвижничеству, к автономии собственной индивидуальной своей воли, стремление к культу собственной своей свободы.
В основе второго из указанных выше стремлений – стремления нарушить закон ради того только, что он закон, – лежит опять то же самое стремление к автономии свободной воли, – стремление насладиться собственною своею свободой, свободой собственного своего почина.
Итак, Эдгар Поэ, основываясь на сходстве внешних результатов и увлекаясь этим сходством, ошибочно присоединил к своему «демону противоречия» два психологически-нравственных процесса, в сущности, не имеющих с ним ничего общего. В сущности, смешение это совершается не в самой передаче фактов, а только в последующих толкованиях. В конце концов «демон противоречия» у Эдгара Поэ как нельзя лучше сходится с тем, что выше назвали мы «непроизвольною метаморфозою внутреннего императива». Метаморфоза эта ограничивается, впрочем, только переходом положительного элемента в отрицательный и наоборот: отрицательного в положительный. «Не прыгай с горы!» – говорим мы сами себе и в силу этого получаем именно стремление спрыгнуть, броситься в бездну; желание не прыгать обращается в желание прыгнуть. «Не сотвори греха против Духа Святаго» – говорит себе Бониал и, упорно преследуя мысль эту, получает наконец по истечении некоторого времени стремление «сотворить грех против Духа Святаго»; что-то шепчет ему: «сотвори, сотвори!» Совершенно подобное же встречаем мы и в казусе с нянькою Гумбольдта; для нее точно так же отрицательное в основе своей стремление исподволь метаморфозируется в положительное. «Не объяви о самом себе! не донеси на себя! ибо никто иначе донести и объявить не может» для героя-преступника у Поэ незаметно приводит к неотразимому побуждению именно объявить и именно донести.
Мы выше уже назвали психологическое творчество нашего писателя «скорбною летописью одинокого духа». Характер скорбности, характер пессимизма всецело объясняется характером одинокости и не нуждается ни в каком дальнейшем истолковании. Душа, анализируемая так тщательно и так художественно нашим поэтом душа, проходящая через все его рассказы, которые – мимоходом будь сказано – передаются в первом лице (за очень немногими исключениями, так как Поэ очевидно затруднялся поступать иначе), могла бы быть душою Робинзона, живущего на необитаемом острове и не встретившего даже своего Пятницы. Всякая коллизия двух самостоятельных психических миров и происходящие из такого столкновения самостоятельные психические настроения абсолютно у него отсутствуют и через это ограничивают область психических его наблюдений и область всей его психологии. Одинокий страх или одинокий ужас перед стихийными людьми или перед стихийною природой, одинокая внутренняя борьба с внешнею природой или с самим собою, одинокая скорбь и одинокое изнывание или одиноко в уединении накопляющееся и нарастающее чувство мести – вот совокупность всех процессов, намеченных и изображенных нашим художником. Автор-рассказчик всегда остается одинок с самим собою или, что бывает в высшей степени редко, совершенно стушевывается и живет только в другом изображаемом им лице, сохраняя для себя совершенно бесцветную роль (Лигея, Морелла и т. п.).
Но этим не ограничивается изолированность психических наблюдений нашего автора. Каждое выставляемое им лицо, не сталкиваясь с другими лицами, не сталкивается и с самим собою в прежние эпохи своего существования. Каждое лицо, выводимое им, живет только своим настоящим моментом, не имеет перед собою ни прошедшего, ни будущего, не входит ни в малейшее соотношение с ними. Через это теряется масса психических процессов, которые могли бы получить художественное свое выражение под рукою такого талантливого изобразителя психоз, как наш Поэ.
Если развито и выработано в нем психическое наблюдение, то психический арсенал его весьма ограничен. Мы напрасно стали бы искать у него изображения внутренних процессов раскаяния и духовного обновления, которые так хорошо проследованы и изображены Диккенсом и графом Львом Толстым, процессов любви и прощения, которые достались в удел творчеству других писателей. Невольно кажется, что по отношению к целому ряду страданий и наслаждений человеческих, отстранив их от его взора своим черным крылом, «ворон громко вскричал: „никогда!“»
Таков может быть главный смысл этой маленькой поэмы. Но отсутствие во внешнем изображении не есть еще отсутствие в жизни. Чуждается внешнего выражения иногда самое святое, самое близкое, самое непосредственное.