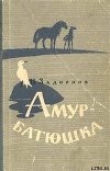Текст книги "Золотая лихорадка"
Автор книги: Николай Задорнов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Оборванный Тимошка закинул мешок за спину и пошагал.
– Тятя, к вам пришли! – сказал парень в картузе, заглядывая в какую-то амбарушку.
Через открытую дверь видны были куски материи на полках и большая куча лыковых веревок на земляном полу. Лыко сушилось на низкой крыше амбарчика и висело на стенах.
Вылез хозяин. Тимошку даже малость покоробило, что попал он к этакому волосатому чудовищу.
– Ночевать можно у тебя?
Жеребцов взглядом смерил гостя с ног до головы. «Еще один оттуда же! – подумал он. – Гостенек!»
Мужичок хотя и оборван, но держится бодро. Разговаривает без подобострастия. Картуз, одежда и борода перепачканы глиной. Жеребцов давно приметил плывущего мужика и послал сына на берег, чтобы перехватил возможного покупателя. «С добычей, – решил он, – и не с малой!»
– Ночевку по себе сыщи, – ответил Жеребцов.
– А ну, открой свой магазин!
– Перминский, што ль? – спросил Жеребцов.
– С Уральского.
– Слыхать по разговору! – Жеребцов быстро положил лыко на скамеечку. – Милости прошу!
Ему хотелось знать, откуда один за другим выходят уральские старатели. Окает гость, не врет, в самом деле уральский. По разговору лучше, чем по паспорту, человека узнаешь.
– Своего как не принять! Дальний, а все сосед, родной!
Никита так сердечно сказал, что Силин даже пожалел его. Страшный человечище, а оказывается – доброта. Но Тимоха не очень доверял.
– А у нас хлеба поспевают поздней, – говорил Жеребцов, вводя гостя в дом.
Тимоха опечалился при упоминании об уборке, и Никита это заметил, догадываясь, что гость его пахарь и чувствует себя виноватым. «Значит, идут они один за другим по следу Кузнецова!»
На подоконнике лежала подзорная труба. Силин знал, что это за штука. Такая была у соседа его уральского торгаша Федьки Барабанова. Он в эту трубу смотрел и узнавал, работают или нет у него на покосе батраки – беглые каторжные, а те потом удивлялись только, откуда хозяин все знает.
Но сейчас не покос. А на островах хлеб не сеют и не жнут. Не меня ли он выглядывал? Дом у Жеребцова над обрывом, высоко над рекой.
– Покупателей-то далеко видать на подъезде, – сказал Силин.
Забыл Жеребцов убрать эту трубу, а теперь не решился, не надо подавать вида, что укор гостя попал в цель. Тимоха заметил, как всполошился хозяин.
С золотом в мешке Тимоха почувствовал себя смелей обычного. Постоянное чувство вины и боязни, которое всю жизнь давило мужика, вдруг исчезло, И это было целым открытием. Он подумал, что, может быть, уж не такая хитрая штука стать умным. Надо только попасть на хорошую жилу и не сплоховать, хапнуть вовремя и не раскидать потом богатства, удержаться. Он вспомнил старую свою присказку: «Богатый и ума прикупит, а бедный – дурак дураком!»
Он приметил, что Никита, кажется, жаден и не прочь унижаться ради выгод… «Только бы мне не перехватить лишнего!» – подумал Силин при виде бутылки с водкой. С непривычки, он понимал, трудно удержаться… Да, может, и не стоит!
– Нет ли у тебя рубах продажных, исподнего… Новые бы брючки! – сказал Силин. – Сапожки тоже…
– Есть, как же! Да закуси!
– Нет… Допрежь надо прифорситься. Давай вот прикинь, сколько дашь за такой самородок?
Жеребцов не стал жаться.
«Потеха! – подумал Силин. – Я брал даром, а он дает такие вещи! Новые! Да хоть вдвое бы меньше дал, и то выгода!»
– А вот это видел? – вытащил Тимоха из кармана еще несколько самородков.
Тимоха, кроме покупок, получил еще несколько ассигнаций.
Вытопили баню.
Тимоха пошел мыться и взял с собой мешок с золотом. Оп переоделся во все чистое, в новое белье, сапога и рубаху. Хотелось бы купить пиджак и пальто со шляпой, но такого товара на Утесе не держали.
– Продай свой! – сказал Силин.
– Утонешь в нем.
– Это ничего.
Тимоха смеялся в душе, глядя, как богатый и степенный мужик угодничает.
Так было впервые в жизни.
Тимоха подвыпил изрядно, но на все расспросы, где золото, как ехал, как выбирался, отвечал сбивчиво, путал.
Силину отвели отдельную горницу в большом доме.
Утром бородач заглянул в дверь. Все утро Никита сидел на кухне, ожидая пробуждения гостя. «Стукнуть его! Да, ведь это не горбач! Тут живо подымутся мужики, и если не упекут на каторгу, то обойдутся самосудом… Не скроешься!» Он знал, гиляки видели Силина.
Никите казалось, что, не задумываясь, он при случае шлепнул бы этого мужика пулей в спину. А теперь приходилось терпеть и ждать, и как-то выматывать, выуживать из него…
– Свининки тебе? Баранинки? Убойны? Что с утра приготовить? – спрашивал хозяин.
– Парохода нет? – спросил озабоченный Силин.
– Я на телеграфе узнавал, бегали для вашей милости. Нет, и не слышно. И не выходил.
Тимоха жил, попивал водочку, ходил в баню и крепился, чтобы не загулять. Приходили соседи Никиты, их жены. Свойскими приятелями стали и Котяй, и Курносов. «Пусть я все пропью, – думал Силин, – но хотя бы про Егорово богатство мне не проболтаться!»
Сын Никиты, не снимая картуза, вломился в двери с целой оравой парней.
– Просят мужики гулянку. Мы сами обезденежели. Может, разрешите? – ласково спрашивал постояльца Никита.
– Разрешаю!
Пароход не шел. А к Тимохе все еще приставали с расспросами, откуда вышел. Обиняки, и намеки, ит укоры надоели ему. Он уже не мог вытерпеть больше этой неправды. Все смотрели на него, как на скрягу. Он мысленно поставил себя на место мужиков. Выходило, что им обидно. «Хотя бы я их угощу как следует!»
– Подумаешь! Надо как будто нам скрывать! Нет, не-ет! Мы не таковские, – объявил он. – Мы не только для себя…
Гуляли допоздна. Девки выводили Тимоху плясать. Вся изба притопывала. Какая-то рябая широкая морда мелькала, терлась подле Тимохи.
– И-их… И-и-их! – повизгивали бабы.
– Ах-ах! – прыгал волосатый Жеребцов. – Цветочек!
«Как дьявол!» – подумал Тимоха. Рябая привела худенькую девушку с толстой косой и с нарумяненными щеками.
– Вот надо бы дочь скорей замуж выдавать! – зашептала она, сидя тесно подле Тимохи.
– Давай мне ее!
Рябая хмыкнула.
Тимоха хлопнул девку по плечу, та нагнула голову и деланно улыбнулась исподлобья. Кто-то говорил:
– Че она падчерицу свою привела! Бери, тащи в горницу, она как теленок…
– Она все хочет сбыть ее с рук…
– Счет закрыт, – сказал мрачный с похмелья Жеребцов на другой день перед обедом. – Пойдем щи хлебать, больше денег нет и возни нет! Нагулялись…
– Как это счет закрыт? Хм!.. – выскочил из-под шелкового одеяла Тимоха. – Че уж вечер скоро?
– Кутить бы можно, да надобно подлого металла, – сказал Никита.
Силин вспомнил, что череп еще висит на берегу речки и там есть золото. Но в мешке ничего значительного не оставалось. Самородок, осененный крестным знамением, исчез, ушел…
«А куда дальше? – подумал Тимоха. – Все туда же! Дорога одна, в те же чужие ящики! И девка без толку… И я без золота… Хотя на совесть гульнули!»
Силин подумал, что придется доставать последнее, мелочь. Все лучшее, отложенное из «заветного», он уж прогулял.
«Это еще когда-то, может, найдем мы золото на нашей речке, – полагал Никита, – а тут вот оно само. Сам прииск ко мне приехал… Не сдается гость, да теперь уж мы и сами найдем!»
Тимоха гулял по берегу в красной рубахе и в лакированных сапогах. Впереди с пляской шли бабы и девки, играл гармонист. Пьяные бабы носили Тимошку на руках.
– Ты на меня, Котяй, претензию не имай! С тобой делился братски, – басил Никита.
Кто-то ночью стукнул Никиту у ворот, когда он провожал соседей. Метили палкой в голову, а попали скользком, чуть не снесли напрочь ухо. Никита прибежал весь в крови.
Потом стреляли под окном у Котяя и откуда-то со стороны ответили, словно два дома затеяли перестрелку.
Но что было – ни Силин, ни Никита не помнили толком на следующее утро. Баба молчала и что-то тихо выговаривала мужу.
Сплгш подумал, что, может быть, кто-то из парней мстит за девку.
– Больше не траться. Я тебя теперь угощаю! – говорил Никита. – И то тебе не с чем доехать. Мы тоже братство понимаем и уважаем своих! Тебе надобно явиться к жене с капиталом!
ГЛАВА 8
В Уральском первый день уборки выдался сухой и почти безветренный, какие редки на Амуре. В эту пору, случалось, ливни и ветры губили ярицу. Поваленная и залитая проливными дождями, она быстро загнивала, и нечего было собирать. Люди не знали голода лишь благодаря торговцам, привозившим муку из Китая и Благовещенска. Охотно давали в долг с отдачей зимой мехами или деньгами, зная, что за здешними мужиками не пропадет.
Среди хлебов белели окутанные головы мужчин. Осыпая их, как черный дождь, сеяла мошка. К обеду оказалось, что Илья Бормотов перегнал Егора Кузнецова – первого косца в селении. Косили на разных полях, но заметно было, что Илья нынче всех обошел.
Над Егором посмеивались.
Илья пришел довольный и свалился, как мешок, под одинокую березу среди поля, глядя, как жена Дуняша вяжет снопы. Не хотелось вставать и идти обедать. Он даже и не думал кого-то перегонять, тягаться. Это было не в его натуре. Денек веселый, литовка новая, наточенная… Илья как пошел, так, кажется, и духа не перевел, пока солнце не поднялось в обед. Оглянулся – много сделал. Захотелось запрыгать и заскакать от радости, почувствовал, что и жене приятно, радость ее как-то к нему доходила.
Дуня – в плотно повязанном чистейшем легоньком большом платке и белых рукавах, тщательно закрывающих всю руку до кисти от опасного солнца. Все знали его силу. Застегнуты высокие воротники на кофтах.
Дуня, казалось, и не смотрела на удалую косьбу мужа, а лишь, как покорная рабыня, быстро и старательно шаг за шагом двигалась по его следу.
После обеда все уснули. Мать Ильи счищала со стола объедки и кости.
Еще было жарко, и солнце стояло высоко, когда опять все потянулись на поля, медленно и как бы нехотя, еще не размявшись как следует после сладкой истомы.
Косили и убирали и на другой день. Убранные поля стали велики и просторны, как комнаты, из которых вынесли все. Дуня помнила, что когда-то, в первые годы в ее родной Тамбовке, поля были невелики, мужики за день все скашивали.
День еще ярче, и небо глубже. Все спешили, зная, что враз погода может перемениться. Но предвестников нет. Мать Ильи и его тетка не жаловались. Им обычно сводило спины дня за два-три до ненастья; кого-нибудь из стариков простреливало.
На высоком берегу, ступая но желтой стерне своими длинными ногами, красавица Дуняша спокойно и ровно вяжет сноп за снопом. Она знает, что старухи ее не любят. «А не придраться! Поди-ка позлись!» – думает она.
Дул легкий ветер с реки, было сухо и работалось легко. Дуняша, казалось, не знала усталости в работе, как в девичестве на гулянке.
Вольно на ветерке! Чувствуя свое сильное молодое тело, она гнется и разгибается, как потягивается, особенно когда почувствует, что в нее упрется, недоумевая и помаргивая своими заплывшими глазенками, отстающая от невестки раздобревшая сырая свекровь. «Куда это ты лезешь, куда гонишь?» – как бы хочет сказать старуха. Но не скажет.
Когда-то Аксинья души в ней не чаяла. Ей до смерти хотелось, чтобы у сына Ильи жена была красавица.
«Поди-ка попляши вот так! – думает Дуняша, словно дразня своим телом старых женщин. – Оба мы с Ильей в поре, в силе. Что же нам мешать?» Отец Дуняши лучший охотник в Тамбовке. Она и в себе чувствует удалую охотничью кровь. «Нам ли с Ильей не жить!»
Тетка Арина сзади шаркает чириками. Она с белыми глазами, лицо ее щуплое, нос с горбинкой стал под старость еще длинней.
Арина идет вровень с Аксиньей.
Свекровь всегда одинакова, она не злая. Как напуганная всех сторожит, боится всего, всякой перемены, радости, на работе сурова, никому не верит. «Рабы Христовы! – думает Дуняша про отца и дядю мужа, про свекровь Аксинью и про Арину и про многих еще. – Ничего не видят и не понимают, всего боятся… На старых местах люди – рабы. Ничего не видели, не знали и не знают сейчас и знать не хотят. А разве здесь жизнь такая? Разве здесь можно так жить, как мы живем?»
Сколько раз ласково пыталась говорить Дуня. «Со стариками и дети наши растут рабами; в грязи, дикарятами!»
Дуняша часто бегает к соседке, к своей милой с детства подружке – к Танюше. А старухи чуть со зла не лопнут. Живо Дуня преобразится, наденет полушалок, новые ботинки.
Сейчас, на поле, за работой, чувствует она, как чист и весел легкий ветер, как хорошо в мире, и себя чувствует она чистой, легкой. Она соскучилась по чистоте. Ветер заполаскивает ее длинную тяжелую юбку, освежает лицо, руки и ноги, обутые в легкие короткие чирики, шитые мужем из кожи и расшитые как покупные, со строчкой. «Илья ли не мастер!»
Она вяжет снопы охотно. Но вдруг подумает: «Для чего я стараюсь? Ах, если бы самой можно было наладить все, как хочется, как хорошо бы можно жить!» Дуняша в прошлые годы мыла золото с соседкой Татьяной. Теперь россыпь обеднела. Есть кое-что еще, но труда не стоит. На добытое золото подруги покупали хорошие вещи.
Дуняша выучилась грамоте. Кузнецовские мальчишки обучали своего отца и Татьяну. Дуня не отстала. Буквы она знала по Псалтырю, учил ее в детстве отец. У Егора теперь много книг в доме. Васька стал заправский читарь.
Муж Илья – работник каких мало, а в родном доме – батрак. Дуня следит за ним, грязной рубахи на Илье еще не бывало.
С поля идти домой вечером не хочется. Она чувствует себя дома, как бы на самом дне жизни.
– Бог ты мой, да что? Спаси и помилуй! Ах, Егор, антихрист, зараза! – вдруг забормотал бородатый Пахом. – Чего это он по «штанам»-то тянет лошадью?
По наклону холма, где раскинулись вызолоченные солнцем, как алтарь, нивы Егора, тихо катились запряженные буланой лошадью конные грабли.
И долго еще удивлялись и оговаривали соседа старики и дети подсмеивались, перенимая от старших неприязнь к новинке.
«То ли можно завести!» – думала Дуня. Нравились ей конные грабли, и Василий казался умницей и красавцем. Он привез эти грабли, сам купил на свои деньги. Шел он со своей белой, как лен, головой за красным чудом и словно о чем-то думал. Иногда ей жалко было Ваську, слишком уж он утруждает себя думами. Парень молодой, славный! Хотелось бы его встряхнуть, расколдовать!
Подскакал на коне Илья и спрыгнул.
– Управился! – радостно воскликнул он и опять повалился на спину неподалеку от проясневшей жены. – Со всем управился. Все сделал! За всех! Эх, стоят твои снопы!..
– Ты бы пошел Силиным помочь.
Илья ухмыльнулся.
«Илья ли не работник. Ильюша, как хорошо можно жить было бы! Дети бы наши не болели. Танька вон рябая, дочка, тоже вяжет сноп, учится, мамке помогает. Как она болела, как кричала, на себе хотела все коросты рвать, к кровати ее привязывали. Сердце обливалось кровью. Все болезни от грязи – полагала Дуняша. «Илья, нам ли с тобой не жить? – хотелось бы ей сказать. – Разве мы с тобой грабли не завели бы?»
Егоров сын приемный Сашка-китаец говорит: все болезни входят человеку через рот. Все несчастья выходят у человека изо рта.
Илья смуглый, волос на соломе черен, как уголь. «Наработался мужик и отдыхает. Пахарь! Пахарь мой! Да толку нет говорить. Ну как еще тебе сказать…»
Илья вскочил и пошел помочь Силиным.
Дуняша все же надеется подобрать к нему ключи. Она знает, Илья привык, зависим от отца по привычке, покорен, цены сам себе не знает. «Люди живут не для богатства!» Иван Бердышов говорил когда-то Дуне, что подарит ей пароход, повезет по всему свету. Смешно было слушать тогда. Зачем ей пароход? Но запомнились шутки Ивана на всю жизнь. Он заронил что-то. Жить надо лучше, а не хуже, стараться выбиваться. Грязи не бояться, но и в грязи не захлебнуться. Какой был Иван бедняк, жил с гольдами.
Дуне приходилось стирать загаженное, грязнейшее белье, отмывать кровь с портянок, протухший пот, дерьмо детское. Обстирывать ораву мальчишек и парней. Старшая сестра Ильи ушла замуж, сначала отделилась, а потом с мужем – унтер офицером уехала в город.
Ко всему руки привыкнут.
Бабка Дарья, мать Егора Кузнецова, говорит, мол, все людское. «Какой я только грязи в руках не держала, ничего со мной не стало, никакой грязи не боюсь». Это она говорит, когда стирает одежду у больных гольдов и купает их детей. А дети в струпьях, в болячках, с больными глазами. Она их всю жизнь лечит и еще заразы в дом не принесла.
А на дом Бормотовых находила болезнь. Все ребятишки перехворали, страшно вспомнить, что было.
Молила Дуня бога. И молила мужа: давай уйдем, отделимся.
А Илья глаза таращил и молчал. Богатырь он, а слабей бабы, отмалчивается всегда.
Хорошо, что хоть кровати у детей теперь.
Дарья говорит: «Все людское». Нет, людская грязь грязней всякой. За коровами приходилось убирать навоз, с утра до вечера вонь во дворе. Но коровья грязь – не грязь.
Дом большой, грязь нарастает в углах. Дуня удивлялась, как в этом бестолковом доме мог вырасти такой парень, как Илья, работник, не знавший устали, умелый, старательный, хороший охотник. У него своя отрада – кони. Он любит зимой почту гонять, лучший ямщик считается на всем тракте. Разнес однажды самого пристава Телятева так, что и кошевку разбило в щепы, и сам Телятев вылетел на лед и с тех пор опасается Ильи.
Летом, если подают подводу – лодку для начальства, лучше Ильи гребца нет. «Конечно, жаль его отпустить из дома старикам!»
Дупя чувствует, что она, кажется, больше не любит мужнину родню. А перед замужеством, будучи Ильюшкиной невестой, так старалась угодить им во всем.
Дети болели, а мать молила бога: пусть лучше сама буду рябая! А вон дочь – с рябинами. А ведь Таньке жить надо жизнь. Кто ее возьмет рябую?
Отрада Дуни – подружка Татьяна, жена младшего брата Кузнецовых. Вместе росли в Тамбовке, вместе вышли замуж в Уральское, вместе тут батрачат. «Сойдемся – все забудем, опять как малые девчонки!»
Дуня знала с раннего детства, что придется ей идти замуж, в чужой дом, к чужим людям, в кабалу, в каторгу, на работу. Теперь отец и мать далеки.
* * *
– Смотри, какие цветочки, – опустилась Дуня на колени. Илья радостно улыбнулся. Ему и в голову не приходило, какие-то сейчас цветочки… Жена прикрепила ему голубые колокольчики под ремешок на новый картуз с лакированным козырьком.
Илья повел коня в поводу.
– Давай такие же грабли купим! – сказала Дуня.
– Хм! Че это?
– Грабли купим!
– Зачем?
– Сегодня хорошо! – сказала Дуня. – Быстро мы с тобой построили бы дом свой. Все заведем… Пойдем на золотую падь. Таньку возьмем с собой… Намоем золота, ей приданое будет, все купим, и будет у нас дом свой и чистый! Отцу с матерью отработаем, отдарим, все им будет… Как Кузнецовы. У них и Егор и дети ходят золото моют.
Она обняла Илью, повисла на его шее.
По берегу катились с работы конные грабли. За ними валила целая толпа, бежали ребятишки, а посередине белел лен Васькиной головы.
Илья опять молчал. Он и сам думал, что хорошо бы убраться от стариков.
– Надо еще ремней нарезать, – сказал он, снимая узду за поскотиной и отпуская коня.
Дуня призадержалась. Ей нравились красные грабли, толпа и огромная релка, усеянная снопами, со снопами по гребню, на пологе голубого вечернего неба. Походило на картину.
Танька, нежно тыкавшаяся в подол лицом, стыдливая, застенчивая Танька, трогала мать ручонками. Хотелось жить и радоваться.
Еще было светло.
Илья ушел после ужина резать ремни из шкуры. Дуня побежала к нему через тихий пышный огород. Она увидела по лицу, как он обрадовался.
– Так пойдем мыть?
– Это все вранье, наверно, – ответил Илья. – Золота они нам не покажут. Да и нет там ничего.
– Нет, есть!
– Нету.
– Послушай меня вовремя, Илья, у тебя руки золотые… Пока не поздно…
Илья испуганно посмотрел на жену. Потом хмыкнул добродушно и вскинул голову.
Она опять заговорила, а он в знак согласия кивал, нажимая шилом на толстую кожу.
Как-то страшно было бы уйти с женой из дома. Илья привык во всем слушаться, работать на отца и на дядю и не представлял, как же они останутся.
Сам он жил в такой чистоте и в такой заботе, какая ему и не снилась прежде. Он помнил бедное, голодное детство, тяжелые первые годы, когда их семье пришлось тяжелей всех.
Все Бормотовы – честные работники, кроме работы, ничего не знали, жили как все, других не опережали и не обидели еще никого. Если отец и бил кого, то только своих.
«Но вот, к примеру, отец и дядя чего-то задумают, а меня нет! Или мать… А Дуняши нет!»
Илья даже не смог удержаться и ухмыльнулся.
Дуня встала и ушла, аккуратно притворив дверь. Она тихо прошла под окнами по огороду.
«Конечно, старики – дурные! – полагал Илья. – Мать часто ворчит, но что ее слушать!» Илье и самому надоела ругань и строгости. Но он, бывало, уедет ямщиком, а потом, сменившись, останется где-нибудь на почтовом станке. Соберутся товарищи, купят у китайца ханьшина.
Пахом и Тереха не запрещали Илье гулять, даже словно бы довольны бывали, когда он возвращался нетрезвый. Только редко случалось это.
Илья полагал, что, конечно, жена права, со временем само как-нибудь, наверно, решится…
А хорошие ремни получились! Не хуже городских!
– Эй, Илья! – крикнул сын торговца Санка Барабанов. – Я гонца поймал!
– Гонца! – Илья вскочил как ошпаренный и выскочил наружу.
– Да, скоро кета пойдет.
– Я как раз управился. Невода свяжем?
– Свяжем, – расплылась широкая Санкина рожа.
Ночью звезды Оринку вышли в зенит. По всем признакам, кета на подходе. Но еще пройдет неделя, прежде чем начнется ход.
… К Уральскому подходил пароход. Сеял дождь. Увидя с палубы свою убранную пашню, Тимоха притих и почувствовал себя бесконечно бедным. Горькая доля снова ждала его, как будто он вернулся не в деревню на Амуре, а в старое село в Расее, где был крепостным.
Он вышел на берег, стараясь казаться пьяным, чтобы не так было стыдно. Встречала его вся деревня.
– Гляди-ка, ты на пароходе стал ездить! – сказал веселый и толстощекий Санка Барабанов.
– А что я, хуже тебя?
И этот пароход брал дрова.
– Зачем ты врешь? Когда ты успел? – спрашивал Пахом Бормотов.
– Я быстро прошел. Я же сноровку имею, по золоту опыт, и давно набил руку. Старание…
– Откуда же твое старание? – спросил Федор Барабанов.
– Я был на речке, где Егор мыл. Открыл речку другую, свой прииск, а потом спустился на Егорову речку. Меня на тех перекатах чуть не убило, как Егора… Трепало… Да… Мы с ним открыли…
– Верно, верно! Там другие речки тоже с содержанием! – подтвердил Егор.
«Зачем отец поддакивает?» – подумал Василий.
– Силин в городских сапогах приехал! – подсмеивались бабы.
Мужики плотно обступили Тимоху. Оп хотел идти домой, но Илья удержал его.
– Нашел? Намыл?
Никто, кажется, не верил рассказам Силина.
Илья Бормотов насмешливо смотрел с высоты своего роста на вернувшегося соседа. Тимошке пришлось подбородок подымать.
Илья затрясся от смеха.
– Не веришь, спроси у Егора. Он там был! – сказал Тимоха. – На том же перекате, что и его, меня чуть не убило.
– Покажи хоть!
У Егора не решались так требовать, а к бедняку Тимохе чуть не лезли за пазуху.
– Показать! А ежели ничего у меня не осталось?
– Покажи! – попросил Пахом.
– Тимошка по приискам стал таскаться – врать стал, – отходя, говорили мужики.
«Чем бы доказать?» – думал Тимоха, сидя дома. Жена ни о чем не расспрашивала его. Она сказала, что парень заболел, не справился с хозяйством.
Сын не стал говорить с Тимохой, ушел спать.
– Ни одного самородка не осталось, как сон пронесся! – сказал Силин жене.
– Тебе, пьяному, померещилось, поди камней набрал…
Тимоха снял свой картуз.
– Что-то блестит… Гляди… Вот пыль золотая в картузе… Верно?
Вошел Егор.
– Тебя обчистили в Утесе?
– Обчистили! Я крепился, но змей ведь… А вот знак! Гляди, Егор. Никто мне не верит.
Тимоха и сам бы в таком случае не поверил. Мало что прогулял, он семью оставил без подмоги. Он чувствовал себя кругом виноватым.
– Слава богу, что живой вернулся! – сказала Фекла. – Да вот я и детям говорю, слава богу, отец живой… – повторила она, оборачиваясь в угол, где лежал ее старший разболевшийся сын.
– Никто мне не верит. Гляди, вот самородочек маленький, рубля на три… Эй, сынка! Иди посмотри… На три рубля есть! – сказал Силин. – Чем же я виноват? Людям нельзя было не потрафить, они меня приютили… Видишь вот, за подкладкой еще осталось.
– Что мы будем с тобой делить? – спросил Егор. – Видел ты?
– Все видел. Я, наверно, как кидал его в картуз – за подкладку попало… Но места я не выдал. Скажи Фекле, что я не вру. Еще пойдем туда.
– Это мы разведку ведем, – сказал Егор хозяйке.
Вскоре он ушел.
С печалью смотрел Тимоха на свой картуз на столе.
– Какое в тебе было богатство и пронеслось! Пронеслось счастье! А много ли домой привез? На три рубля! Позор!
Утром Пахом Бормотов получал на пароходе квитанцию за принятые дрова. У сходен он не утерпел и спросил знакомого матроса, где садился Силин.
– На Утесе.
Оказалось, что Тимоху провожали с бубнами и пляской. От жеребцовского дома и до самых сходен дорогу выстелили красным кумачом, и взошел Тимоха на судно в богатой рубахе и поддевке, но потом все прогулял. А вначале грозился, что может купить пароход.
«Греб такое золото!» – подумал Пахом, почувствовал, что его забило, как от озноба. «Егор ходит злой. Выдали все чужим, а от своих таят».
Дуня выдоила вечером двух коров, умылась и переоделась.
Старуха цедила молоко.
– Барыня ты молодая, с осанкой! – сказала она невестке.
Арина вошла с другим подойником.
– Куда ты?
– Машину смотреть! – ласково ответила Дуняша.
– Что уж это! – вспыхнула Арина. – Что это за слова! Срам какой! Разве женское дело машины смотреть?
– А что мне? Что еще не сделано? И постель постелила в зимовье. Все чистое. Отдохну сегодня, как на свадьбе. Илье скажите, я живо…
– Куда это барыня-то вырядилась? – спросила через забор Агафья Барабадова, тащившая на вилах сено.
– Эй, барыня, дай сладкого! – закричали ребятишки, обступая Дуню.
– Ишь выступает! – встретила ее Татьяна.
У Дуни хорошие наряды лежат в сундуке. Она завела себе и шкафчик.
«Зачем тебе?» – удивлялся тогда Илья. Сама намыла она золота на речке, сама с Татьяной накупила, чего хотела. Но негде эти наряды носить.
Дуня пришла от Кузнецовых, скинула платок и, взглянувшись в зеркало, сказала:
– Дядя Силин не врет. Прииск нашел… И место красивое, цветочки там…
– Ты-то откуда знаешь? – спросила Арина.
– А вот знаю… Сама поеду туда… с Ильюшечкой.
– Ишь ты! – кисло поджала губы старуха.
– Само богатство идет к нам в руки!
Дуня охотно пошла бы мыть одна, с Татьяной под охраной Егора. «Но ведь баба. А детей куда? Даже и детей взяла бы. Таньку бы взяла».
Дуня умела мыть золото и умела продавать его, торговаться, знала, какое золото сколько стоит. Золотник равен на вес четырем игральным картам.
Илья сидел на лавке. Он отдыхал, сложив руки на брюхе и широко раскинув ноги в новых сапогах. Одну загнул под скамью, а другую выставил далеко вперед.
Утром Пахом встретил Тимоху и поклонился ему почтительно.
– Учуял! – пробормотал Силин.
– Прости, сосед! Мы по привычке, сами ничего не можем, а другим не верим. Мы ничего не знаем, а уж люди говорят… Знают где… Мол, Силин указал…
– Это мало важности, – ответил Тимоха. – Наше никуда не денется. Что вы за соседи, помочь не могли собрать… Сын грыжу себе нажил…
– А есть там золото?
– Там столько, что все с ума сойдут! Егор же говорил вам.
– Греб золото? Греб? – вдруг задрожав, как со страха, воскликнул Пахом и кинулся к Тимохе. Он готов был не то убить его, не то целовать в приливе чувства благодарности.
– Ты че это? Не кондрашка ли? Со мной беда, а с тобой смех, дай-ка я сведу тебя домой. Или, может, спрыснуть водой? Эй, Пахом! Че с тобой? Опамятуй! Верно говорят, что за свое готовы удавиться, а на чужое рады разориться!