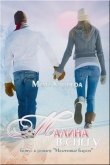Текст книги "Крушение антенны"
Автор книги: Николай Огнев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Огнев Николай
Крушение антенны
Н. ОГНЕВ
КРУШЕНИЕ АНТЕННЫ
А.М. Зайцеву
Глава стремоуховская.
МЕРИН ХИТРЕЙ.
(О том, как Иван Петров Стремоухов не захотел быть бараном.)
4 Ав. 914 г. 12 ночи.
Марсельезу я не пелъ а немцевъ долой кричалъ у сербскаго посольства зачто меня назвали бараномъ и велели кричать долой Австрию Я хотелъ было объяснить что не Австрия молъ виновата а больше немцы но в ето время какой то хлюстъ меня порядочно толкнулъ и сказалъ что я баранъ и ничего не понимаю. Были и такие бараны которые кричали долой Сербию но такимъ затыкали моментально ротъ было ето 16-го июля я былъ изрядно выпивши и стехъ поръ маковой росинки небыло ворту до 2-го Августа а 2-го вечеромъ нашелся одинъ добрый человекъ разыскать выпивки и нашелъ какого то собачьяго пойла точно названия незнаю вроде кюмель-дюпель чтоль хорошо незнаю стоитъ онъ не въ военое время 65 а заплатили мы 1 р. 40 к. и велели намъ еще приходить но я решилъ пойти в Аптеку купить цытрованили. вчера одинъ носачь знакомый моимъ хозяевамъ приносилъ бутылку коньяку зимулина но нечисто переправилъ на ярлыке стоимость изъ цыфры 3 зделалъ 8 а изъ одного 2 и хоть и хотелось выпить но бараномъ быть незахотелъ Война мне уже давольно таки надоела куда ни придешъ все провойну говорятъ живутъ больше слухами нежели газетами. Хорошо бы теперь уснуть недели на две а потомъ проснуться и купивъ газету прочитать
(Разгромъ Германской армии Германский флотъ лишенъ рокировки матъ близокъ)
Пишутъ ли у васъ тамъ какие утки какъ вотъ на етомъ листочке газеты которую здесь 2 дня печатаютъ
(Вырезка из газеты):
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА РЕННЕНКАМПФА.
"Ран. Утру" телеграфируют, что генерал Ренненкампф, уезжая из Вильны, заявил: "Отсеку себе руки, если в течение полугода не донесу о взятии Берлина".
Не писалъ я потому что со дня на день собирался удирать ксебе вдеревню то послучаю забастовки нанашемъ заводе и потомъ войны. Немцевъ унас уволили остались полунемцы Досвидания наша беретъ не смотря на слухи что у нашихъ рыло вкрови А я теперь переехалъ живу не в Петербурге а въ Петрограде.
И. Стремоуховъ.
Теперь – рассказ:
Сергеичев помирал трудно и долго, тяжко раскарячив ноги. Положили его у окна, все просил свежего духу. Сергеичева старуха, Настя, плакала за печкой тихо, по-старчески. Деревенский председатель, Малина Иваныч, вошел в избу, сел, закурил. Спохватился, погасил курево о подошву валенка: и так воздух наперделый.
– Говорил я тебе, Власуха, не гоняйси за девками. А ты все гоняисьси да гоняисьси. А? Власух!
Сергеичев растопырил белесый рот, стал цеплять воздух зубами, руки заскребли по подстилке.
Грикуха, сын, как стал с утра посреди избы, упершись макушкой в потолок, так все и стоял; неподвижно смотрел на отца белыми матреньими глазами.
– Посылали за попом-то, Насть? – скучно спросил Малина Иваныч и вдруг хлопнул по желтому, пахучему тулупу: – Власух, а Власух! А советску власть сшибать собиралси? Вставай, штоль? Сшибем – не житье, малина будет, а? Вла-сух!
Сергеичев икнул предсмертно, и председателю стало скукотно и тяжко; встал, вышел на волю. Здесь, на морозе, томились, но в избу не входили, страшно: Сергеичев был колдун.
Всем известно было, что помирает Сергеичев от сердечной водянки; сердце, будто бы, распухло и налилось водой. Это сказал не доктор – до доктора много верст, никем не меренных – это сказал Шкраб. На горбачевский хутор, в колонию к Шкрабу стали ходить лечиться с тех пор, как он дал бабке Пыхтелке пилюль от животного перебоя задором; пилюли не помогли; но, ведь, это давно известно, что не всякое лекарство помогает, тем более – по кучевлянским болезням; а болезни у кучевлян особые:
Черная тырьва.
Попрыгун.
Репей в мозгах.
Волосень.
Нутряная глиста.
Родимчик.
Конский чох.
Есть еще болезнь бардадым, но про нее на людях не выражаются; а почему не выражаются – сглазу боятся. Про болезнь сердечную водянку и слыхом не слыхано. Сергеичеву болезнь об'ясняли так: раньше был ломовым в городе; надорвался; приехал в деревню, стал колдуном, спутался с ненашими, служил им верой и правдой; а потом захотел взять над ними силу, – ненаши и припомнили ему ломовой надрыв.
– Ну, что? Как? – подскочила к председателю Пыхтелка. – Дышит ощо?
– Ощо-ощо! Пай, самогон кури скореича. Икает.
А Пыхтелка, когда вино было открыто – все, бывало, пых-пых-пых, – в кабак, за вином. Принесет двадцать косух, припрячет в клеть и ждет, аки паук: какая-такая муха перьвая в сети залетит. Закрыли вино, а у Пыхтелки – ханжа готовая. Закрыли ханжу – самогон стала курить. На все у Пыхтелки ответ припасен. Продовольствие пыхтелкино – кровь людская.
Стояли по-двое, по-трое, толкался шопот:
– Вот, – колдун-колдун, а к ответу и его тянут.
– Да хто тянет-то?
– Бог.
– Чорт.
– Ни черта вы не понимаете, как вижу, – важно сказал Малина Иваныч. Ни бог, ни чорт, а полукрест.
– Эт-то, сталбыть, где же полукрест, Малина Иваныч, – робко зашептала Пыхтелка. – Про полукрест ощо не слыхано.
– Ощо-ощо! Крест – видала?
– Ды... госссподи ж, батюшка, царица небесная... ды... неужли ж нет?
– А леший тебя знает, может и ты с нечистым спуталась. Где крест, покажи.
В стороне загрохотала безотцовщина, держалась отдельно, кучкой, – Малину Иваныча все же побаивались: председатель.
– Хи-хи-хи.
– Хррры... х. Пыхтелка крест показывать будет.
– Ррробя, не зевай, вылупливай зенки.
– Ну, вы, цыть, – огрызнулся Малина Иваныч. – Што, всамделе: человек помирает, а они в смехи.
– Во-отын, батюшка, трисвятая богородица, – закрестилась Пыхтелка на дальнюю церковь в селе. – Во-отын, спаситель наш, спасе-Христе-боже.
– Стало, ты крест знаешь, – подтвердил Малина Иваныч. – Так. Ну, а там, гляди, что?
И пхнул рукой в сторону колонии, горбачевской дачи. Дача запуталась в лесах, в оврагах, словно паутиной ее оплело кружевом осинника и темными пятнами елей. Из Кучевки виднелась только крыша, – зеленая, острая, а за крышей впивалась в небо тонкой и хрупкой буквой Т – радио-мачта, антенна.
– Ну, и штож такоя таперь будет, родненький? – зашептала Пыхтелка, ето таперь к чяму жа?
– К чяму жа, к чяму жа! Это и есть полукрест, – хмуро ответил Малина Иваныч. – Противоцерковная вещь.
– Дык, ведь, там телеграф, – робко сказали в стороне. – Мачта телеграфная ето.
– Уч-чоны больно стали, – брякнул небрежной издевкой председатель. Неш телеграф такой бывает? Неш не видал на чугунке? Мне и в городу сказывали: телеграф. Да толькя это не телеграф! К телеграфу полагается проволока. А игде она? Нукася? Противоцерковная вещь это... в обще-государственном масштабе.
– Сказывали, будто без проволоки действовает.
– Думаешь, – бога отменили, так и проволоку отменили, – со злобой огрызнулся Малина Иваныч. – Ма-лина вам, безотцовщине: знай, отменяй, боле никаких!
– Гли-кось, никак Марфутка Сергеичева из колонии идет.
– Она и есть.
– А ты ее спроси. Нябось, знает.
А Марфутка – колдунова внучка. Отца в германскую войну ухрокали, мать умерла от стрекучего волоса, вот Марфутка и попала в колонию на воспитание. Четыре года уж в колонии живет, – по-немецки да по-собачьи лопотать может, про жаркие страны рассказывать умеет; известно: – в колонии делу не обучают, а все пустякам. В церковь их, конечно, не водят, такой декрет есть: называется отделение церквы от государства, но про бога Марфутка помалкивает.
– Нехорошо. Чать, она к деду.
– Шшшшши!
– Марфутка! Ма-арфутк!
– Тише, ты, лешай! Неш не знаешь, опрошлый раз приходила, дык не велела Марфуткой звать. Зови ее Марочкой.
– Ма-арочкой. Хррры...
– По-советски.
А Марфутка, – да какая она Марфутка, когда Мара, – шла, усупившись в землю, – не сметь меня трогать, не сметь на меня глядеть, не сметь про меня шушукаться; что это, на самом деле; только в колонии чувствуешь себя человеком, а на деревню хоть не показывайся; сейчас и "Марфутка", и "опосля", и "докелева", и словно ты не человек, а замызганная белобрысая девчонка, да вдобавок колдунова внучка; поэтому тому, кто Мару любит,
а это – Коля Черный,
провожать Мару на деревню строго запрещено.
У крылечка расступились, пропустили. Мара вошла в избу, сморщила нос от воздуха, сказала:
– Бонжур. Это по-французски здравствуйте. Дедушка, вы не грустите. Я вам от Шкраба лекарство принесла.
Вынула бутылочку с темной водой; в избу, нагибаясь, шагнул Малина Иваныч.
Сергеичев глядел на внучку, а видел другое, страшное. Ноги в холстинных гультиках напружились, раскарячились еще больше, – вот, вот, сейчас лопнут и потечет вода. Руки стали ручищами, пальцы коричневыми корешками впились в пестрядину. Малина Иваныч слюняво глянул на Мару, сказал:
– А с парнями гулять – вас тоже в колонии учат? Житье ваше, вижу, малина. Дед помирает, а она по-хранцузски.
Сергеичев потянулся, враз подпрыгнули раскаряченные, как у битой лягушки, ноги, выпрямились. Рот блеснул смертной улыбкой, рука колотнулась и затихла. В углу затикал будильник, старуха за печкой плакала, изредка икая.
Малина Иваныч взял Сергеичева за руку, подержал, отпустил. Перекрестился, нерешительно сказал:
– Помер, должно...
– Нет пульса? – глотая слезы, спросила Мара.
Грикуха шагнул вперед, стал на колени, засопел:
– Про мерина-то, про мерина-а-а...
– Ну, и парень у вас, малина, – надгробным шопотом председатель, Отец помер, а он про мерина! Насть, а Насть, – зови прибирать, што ль... Это он про какого мерина, ась?
– Мерину, грит, в обиду себя не дава-ай, – глупым голосом затянул Грикуха. – Мерин, он, грит, умней тебя-ааа...
Малина Иваныч вышел в сенцы, шагнул на крылечко, и – строго:
– Наро-од! Помер Сергеичев-то наш!
Снял шапку, перекрестился. Пыхтелка змеей скользнула в избу.
Безотцовщина враждебно посторонилась, когда председатель прошагал домой. Кто-то пустил:
– Как он таперь, без сердечного дружка? Таперь черти забижать будут, в одиночку-та.
– А мне чорт с вами, – в сердцах выругался Малина Иваныч, и услыхал за спиной:
– Рррробя... Кто со мной в осинник?
– Ну, пом.
– Девок, девок зови!
– Пойдут они, как не так!
– Трогай, убогай.
Вста-ва-ай, проклятьям заклейме-енай.
– Дура, человек помер, а ты шо поешь?
– Надоть не ето, надоть похороннай.
– Вали похороннай.
Атец, па-пируям в роскошным дварце,
Трявогу вином залива-а-ая...
А бабок в Кучевке – множество, не одна Пыхтелка. Взять Домовиху; всех чертей по именам-отчествам знает; как пойдет перебирать: – тут тебе и водяной, тут и дворовой, и лесной, и болотный, – срамотища. Кажное помело у ней – чорт. Ее и полечить от чертей подумакивали – где! Возили еще к земскому фершалу Игнат Семенычу; так она от него турманом: – это, орет, – самый главный чорт и есть. А уж как поселился на горбачевской даче Шкраб, тут она совсем ополоумела. – Энтот, – говорит, – главней всех чертей и анчуток. ОН. А лекарства там всякие выходят по-домовихиному – зелия смрадные. Вот она какая.
Это – из рассказов Стремоухова.
Ночь. Мара провела все в той же старой, знакомой избе, рядом с мертвым телом. Покойного деда она не боялась, привыкла к мертвым и к падали еще с детства, как привыкает всякий крестьянский ребенок. Но спать не могла – кусали клопы и было душно, не так, как в колонии, где форточки в спальнях открыты и днем и ночью, и летом и зимой. На утро деда Сергеичева повезли на кладбище, в село.
В сани Грикуха сел задом наперед, так научила Домовиха. В сани же, в гробовую подстилку, сено, – насовала Домовиха полыни, на случай – выскочит колдун, услышит запах полынный, и тогда – опять в гроб.
Кроме Малины Иваныча, Пыхтелки и Домовихи, никто из чужих провожать покойника не пошел. Двинулись было шагом, да Домовиха велела Грикухе мерина подстегнуть: колдунов возят рысью.
Мороз был сумрачный и серый. Солнце, – может, его давно уж и не было, – погасло где-нибудь в недвижном закатном провале, – не показывалось целый месяц; а может, ползло по самому краю закатной стороны на костылях, подбитое в германскую войну. Такие знакомые летние овраги нахмурились сердито. Понуро, как весенняя скотина, торчали скелеты деревьев. До кладбища было далеко – три версты по косогорам. Пахло широко, так, что грудью не охватишь, – снежным морем и лошадью.
Под гору Грикуха уезжал далеко вперед; в гору провожатые его нагоняли, почти вплотную подходили к широкому тесовому гробовому изголовью покойник лежал головой назад. Грикуха сидел неподвижно, не моргая матреньими глазами, как сидят в санях крестьяне вообще, когда дорога и поклажа легкие, когда нет заботы о лошади.
– А ты, Марфутка, складна такая стала – малина, – внезапно сказал Малина Иваныч над ухом. – Пожалуй, с парнями гуляешь, так и замуж пора. Тебя летось в лесу не с одним видали.
– И ни с кем меня в лесу не видали, и отстаньте, – загораясь злобой, трепыхнулась Мара. – И ну вас, сами к девкам пристаете все... И потом я мужичкой не буду, в прислуги тоже не пойду, учиться буду, и... и... и... и все.
– Скла-адно, – вздохом в ответ Малина Иваныч, и перегорелой махоркой потянуло в Марин рот. – Это, сталботь, са-ветское мясо. Рыфысыры. А деньги плотют вам?.. парни-то?
Марочка остановилась и – с ненавистью:
– Дурак ты. Облом деревенский, чорт, чорт, чорт... хоть и председатель!
и дальше, за гробом. А сзади – по-матерному. И потом, издалека, старушечий шопот:
– Ты, касатка, на то не гляди, что он у вас с дурцой; таперь его оженить, сам за хозяина будет, все изделает. Пых-пых-пых...
– Таперь вас и соседи сторониться не будут, ранее все ненаших пужались. А ты на ето не гляди-и-и...
– Пых-пых-пых...
Вместе с гробом в санях лежал куль овсяных отрубей, поэтому от церкви навстречу покойнику вышел поп в камилавке, с крестом в руке, тусклая епитрахиль, колыхаясь, в'едалась в черную гладь надетого на полушубок подрясника. Спросил Грикуху:
– С собой захватил, аль на дом приходить?
и затянул:
– ...тый бо-о-же, ...тый кре-е-епкий...
– Не поможет, касатка, не поможет. Оно надо бы ув святой воде ополоскать, пых-пых-пых, а то усе равно, пропащая его душенька...
За попом шел человек в протертой до дыр кожаной куртчонке; большая кудлатая голова как-то странно качалась в такт похоронной песне, кадило не шло к коротким штанам, обнаруживавшим высокие вязаные чулки, да и вообще было трудно поверить, что это был дьякон Сергей Афанасьич, – конечно, тому, кто давно его не видел.
Дьякон с попом тянули свое похоронное, а Грикуха вылез из саней и со всей силы нахлестывал мерина по спине: не хотел мерин итти в высокую кладбищенскую гору, да и только. Грикуха обозлился, сломал елочку, стал елочкой лупить мерина по бедрам, но мерин все не шел. Тогда дьякон, бережно прикрыв кадило, передал его Маре и взялся за оглоблю, Грикуха за другую, поп стал сзади саней и уперся в гроб.
– Ну-ка, навались-навались разом, – сказал Малина Иваныч, напирая плечом в ременную перетяжку дуги, – ну-ка еще разик, ну-ка – дружней.
Поп, кряхтя, заскреб валенками по снегу, все по тому же месту; сани не двигались. Поп выпрямился:
– О, чтоб тебя розорвало, – светски, в нос. – Что он у вас, норовной, что ли? Гор не любит, должно быть?
Малина Иваныч схватил мерина под уздцы, потянул к себе. Мерин шагнул – и тоже остановился; повел ухом, словно спрашивая: – а дальше что будет? Постояли, посмотрели друг на друга, на мерина. И – внезапно сорвавшись с мест – все разом – заколотили, захлестали, задубасили по мериновой спине чем ни попало. Мерин попробовал брыкнуться – ноги не достали даже до передка саней; тогда стал смирно, философски, думая и показывая свои думы: – сколько ни лупите, когда-нибудь перестанете...
– Надоть, видать, на руках, – полувопросом Малина Иваныч.
– А я-то в рясе как же? – недоуменно-жалобно поп. – Заплетаться будет.
– Нябойсь, не пьянай, берись, – решительно Малина Иваныч, заходя сзади, к гробовому изголовью. – Это тебе не при царизме, носильщиков нету.
Кряхтя, подняли гроб на руки – впереди Грикуха и дьякон, сзади председатель и поп; тронулись в гору.
Стремоухов написал на фронте целую поэму о похоронах мужика; в поэме говорилось, как умирает крестьянин, земля-матушка плачет по нем синими слезами, а он – мужик-то – уж идет к ней, к землице-то и сам становится землицей. Подал поэму знакомому писарю. Писарь читал три дня, потом вместо стремоуховских выражений вставил некоторые свои. Вышла такая похабщина, что полковая канцелярия целую неделю грохотала особым, писарским смехом, а писаришки помельче до самого конца фронта задевали Стремоухова цитатами из поэмы. На петроградском заводе и на фронте Стремоухов жил мечтами о деревне, тянулся к ней; а приехал домой, в деревню, повернулась она к нему бальшущим кукишем.
В гору поднялись не сразу, с остановками – Пыхтелку оставили при лошади. В гору шла дорога, поэтому нести тяжелый – для попа тяжелейший гроб было споро; а вот, как свернули с дороги,
– Эт-то што ж, земля-матушка не примат, вот они, ненаши-то, – ворчала Домовиха,
нарушился тот обычный ход, каким несут всегда покойников, – в ногу; затяпали как попало валенищами по глубокому, хоть и подмороженному, снегу, проваливаясь; закачался Сергеичев в гробу; закряхтел поп под невыносимой ношей: плечи поповские – нежные, просвирные. С крестов смотрели надписи – деревенские, немудрящие:
Подсим
крестом
погребе
но тело
убiвше
го Iеле
сiя де
ревни Горшкова убивец Павил
Лепехин деревенской дубров
ской убил его в лесу уетаго
дуба из
котора
го изде
лан сей
крест 1
908-го
Апр. 23.
На одной из могил – должен бы уж знать свои могилы наперечет, – поп оступился, запнулся о рясу и упал вперед; гроб, падая, гардарахнул попа по спине. Тогда поп – гнусаво и тонко:
– Да что ж вы, чорт дери вашу душу, хоронить хороните, а доставить к могиле не можете?! С мерином справиться не можете, а туда же, хоронить! Да распрострели вашу печенку селезенкой! Может, могилы еще рыть заставите?!! Да... пропади вы пропадом вместе с усопшим своим!..
– Легше, батя, легше, – успокоительно Малина Иваныч. – А ты не спотыкайся; могилы-то, нябойсь, должон знать, у кажной попито было.
Кое-как дотащили гроб до неглубокой могилы, закидали землей. Малина Иваныч на прощанье придержал Марочку за рукав:
– А ты не забижайси, Марфутк! Я ведь, к слову...
– Да ну вас совсем, – ответила Мара и – скорей домой, домой, дальше отсюда, прочь, нет силы больше терпеть, дышать одним воздухом с ними.
– Две бутылки самогону с тебя, сверх нормы, – угрюмо поп Грикухе. Ну, чего уставился, как бык на рогожу. Отруби за священнослужение, а водка за пронос гроба. Учить вас, чертей-дураков...
– М...м...мне т...т...там п...п...полбутылки захвати, – внезапно встрепенулся дьякон Сергей Афанасьич; тем Сергей Афанасьич всегда и славился: как в церкви служит или поет – голос, как голос, и выговор тоже хороший. А уж как по-житейски придется заговорить – заикается, сил нет никаких, до чего смешно.
Так и остался старик Сергеичев лежать один под тонконогими соснами среди убогих облупленных крестов, торчавших из снежных могил; голубой снег кругом светил соснам. Могила, засыпанная кое-как, была глиняная, в щелеватых мерзлых катышках, – ярко-коричневая среди снежного света.
Откуда же взялся высокий осиновый шест, загнанный плотно в могилу, почти что до самого гроба, и с поперечной дощечкой и с надписью:
Главнаму Калдуну вогнат сей черенок вганял придсидатель дерев гаршкова Малина черти маченые примите дух яво смиром.
Глава шкрабья.
ВИЛА ЗЛОЧЕСТА.
Вечером электро-магнитные волны пели:
Кацман-Кацман-Кацман – выезжаю за получкой – ждать дольше не могу Кацман-Кацман-Кацман – Пиииии-пипипи-пи. Пи. Пиии. Тэээ-тэ-тэ-тээээ. Тэ-тэ.
Полухрипло (простуженно, словно с завязанным горлом):
точ-ого-о-чк-бо-слив-лоз-ото-го-го.
Высоко-пискливо-неясно:
Рас-рас-рас, Смоленск, слушай, наука, Смоленск: пересадка глаза-глаз-глаз и головы делал опыт крыс от мыша и лягушки рыбы-рыбы-рыбы,
Нежно-музыкально (стало быть, Эйфель, длина 2900):
как дама, принимающая гостей и желающая быть очаровательной:
13700-13713, 13714-13755.
Это – метеорологический бюллетень.
Очень громко, скоро, высоко, с хрипом:
как скандалист какой-нибудь, подступив с кулаками
к самой физиономии и рад – дорвался:
Шумельман-Шумельман-Шумельман – письмом подробности хинин максимум половина неустойки подтверди отправляй лично Харьков
Пи-пи-пи-пи-пи. Тээээ-тэ-тэ-тэ-тээээ.
В эфире – волны – самые короткие во много сотен тысяч раз длинней волн света – стремились – облетали кругом пустяковый земной шар – ррраз! – разбивались, рассыпаясь о встречные антенны, дробясь мгновенно на электрические линии (оболочка) и магнитные волны (нутро) необ'ятной массой сведений снабжали дежурных телеграфистов и устремлялись
– только что разбившиеся и уже снова слитные
куда-то дальше-дальше, – дальше! – в Египет; в океан; в Огненную землю; к мысу Доброй Надежды; к ново-земельской радио-станции; за полярный круг; в Нью-Йорк; и снова в океан – туда, где Маркони принимает сигналы – странные, непонятные, нечеловеческие (тоже ненаши), предполагая, что сигналы эти – с Марса.
Центральная телефонная:
Слушай-те. Слушай-те. Слушай-те. Алло-алло-алло. – голосом графа Витте, приятного барина-собеседника после кофе в своей компании, с баритональной этакой хрипотцой:
В Америке область земледелия обслуживается радио. Там в лесничествах – имеются – радио-станции – главное назначение которых – извещать соответствующие центры о начавшихся лесных пожарах и затребовать помощь на места – в штате Миссури – -
алло, алло, слушайте-слушайте-слушайте-те.
В штате Миссури дают ежедневно бюллетень о ценах рынка, что удобно для фермеров, которые узнают – создавшуюся торговую кон'юктуру. Производится – также – передача метеорологических – наблюдений, – необходимых для земледельца.
Предсказание – погоды. Алло, алло. Предсказание – погоды. Циклон движущийся по направлению – -
На той же волне – позывные:
Лм – Лм – Лм – мешают дослушать центральную.
В это самое время Вила Злочеста сидела на добруджинском пике у Черного моря и странную – непонятную Виле – азбуку Морзе
– слушала.
Вила Злочеста попала, – а может быть, и не попала, – в сказки Кармен-Сильвы, слепой королевы, но это не важно: важно то, что сидела она и слушала сигналы Шумельмана и Кацмана и басовые ноты – мощные – ходынской радио-станции. Конечно, Вила Злочеста этих нот не понимала; должно быть, поэтому, а может, и по другой причине, хватала она радио-слова и бросала в море; или швыряла в свой колдовской костер, который моряки принимали иногда за огонь св. Ульма и о подножие пика разбивали свои корабли; и броненосец "Потемкин" когда-то, увлеченный этим огнем, взял ложный путь, свой красный огонь погасил и ударился в ложный фарватер, в румынское разоружение и покорение,
– вместо того, чтоб взорваться и красный, мгновенный памятник вечный воздвигнуть себе, головой достигающий неба.
Это Вила Злочеста его обманула; только – вот удивительно: эти странные знаки в воде не тонули и в огне не горели; из воды; из огня
– выпрыгнув, дальше неслись и около Вилы Злочесты кружились, словно над ней насмехаясь и над ее колдовством. Надо бы, надо бы – ей перехватывать знаки, враждебные ей, непонятные:
Вила Злочеста держала кордон
– да они не давались, стремглав облетая весь мир, – и, залетев на секунду с милым приветом к Маркони, на океан, – уносились все дальше и дальше – в звезды, в небо, в те провалы, о которых подумать, представить себе – и то холодеешь от ужаса, сердце дрожит, замирает: а что, если прыгнуть туда?
Средне, музыкально:
гээээ-тэ-тэт-э-тэ-тэ-тэээээ словно скрипку хороший скрипач пробует перед концертом:
пароходам-пароходам-пароходам за пароходами – оставленный в канале буду поочередно буксировать – и до конца канала тчк внуро Святогора на створе Кронштадтского рейда.
Хрипло-низко-слабо-часто – заговорщически:
рап-рап-рап – папа – умер – поздравляю с новорожденным папа – папа папа следи радио – остерегайся карманников – папа-папа-папа
(Это шифр в Константинополь)
Тэээээ-тэ-тэ-тэ. Тэ-тэ-тэ-тэээээ. Пииии-пи-пи-пи.
Вила Злочеста знала звуки ветра, бури, затишья, знала тихий разговор волн у подножия пика, а этих звуков понять не могла. Ну, как же держать пограничный кордон? И зеленые волосы, длинные солоноватые космы с утеса спустив, – думала, думала, – думала Вила Злочеста, закрыв бледное, длинное, ненаше лицо всеми семью пальцами правой руки. – -
Пиии-пи-пи-пи – Тэээ-тэ-тэ-тэ-тэ.
По по-ста-новле-нию Треть-его кон-гресса Треть-его Интер-нацио-нала -
Шлет при-вет ра-бо-чим все-го ми-ра – -
Высоко. Чисто. Ясно. Резко.
Как высочайшая – стальным сопрано – нота рахманиновского романса -
В этих звуках, несмотря на их ясность и чистоту, было тревожное. Вила Злочеста встала (привидение на пике, – говорили в туманные утра моряки) – и рупором длинные пальцы – все четырнадцать пальцев
– О-гэй!
Синебородый Рауль на вершинах французских Вогезов; и великан двухголовый в туманных равнинах туманного острова; и королева снегов в скандинавских фиордах (на зимней яхте из синего льда);
и Рюбецаль, весь избитый маркграфом лотарингским, считающий жалкие репы свои;
и легендарный рыбак Урашима (он вечно из моря удит луну – иногда удается);
все, все, кто держал кордон, – услышали это "Огэй" и в тревоге к ветру приникли:
– Нет, ничего. Ничего? – Ничего.
Только чистые – резкие – ясные звуки:
Тээээ-тэ-тэ-тэээ, тэ-тэээ
тэ-тэээ, тэ-тэ-тээ-тэ, тэ-тэээ-тэ
перелетали кордон и неслись к встречным антеннам, рассыпались о проволоку, входили в нее, и – в уши приемщикам:
Привет. Привет. Привет.
Рабочим. Рабочим. Рабочим.
Всего. Всего. Всего.
Мира. Мира. Мира.
Всем – всем – всем.
А утром:
из слухового окна на крыше криком – фейерверком – рыданием на весь двор:
– Кто сломал антенну? Кто смел сломать антенну?! Будь проклят тот, кто сломал антенну!! Стремоухов, Иван Петров, чорт!! Кто сломал антенну? Ты сломал антенну?!!
Понурые дворовые постройки почесали в затылках, сдвинув пушистые, нежные кроличьи шапки на слепые брови окон; утро подумало, помолчало, вгляделось в грязный дворовый снег, в конский неубранный навоз, в глухой, неуклюжий поворот лесной дороги, и вдруг – рывком, отдаваясь в низеньких стенах домиков – прыгая по крышам и разбегаясь куда-то в грустную ткань нагих деревьев – закувыркались слова:
– Да провались вы вместе с вашей антенной, на кой она мне прах, сторожить я ее вам нанялся, едреныть, что ли?! Па-ду-маешь! И-и вылупили в небо кукиш с маслом, и-и думают нивесть что! Ан-тенна! Теле-граф! Штаны бы себе раньше починили, едреныть!
Тогда из слухового окна выдвинулась всклокоченная рафаэлистая голова и визгом надрывным заколотила о пушистые, покорные крыши:
– Да ка-ак ты смеешь по-матерному ругаться, а? Ты знаешь, что за это – расчет, а? Ты пойми, – ведь, здесь – дети! Дети! Дети!
Человек в грязной серой шинели выскочил в ответ из конюшни, поднял голову вверх:
– Вот дак дети! Вот дак дети! Кажного женить пора. Детский до-ом! У Виктора усы в поларшина, девок на кажном шагу прихватывает! Детский до-ом! Ка-лония! Тьфу! – и, вглядевшись в свой плевок, спокойно: – А расчет без месткома не имеете крепостного права. Прошли эти времена.
Слуховое окно с шумом захлопнулось, потом опять открылось, и – зловеще:
– Я созову школьный совет, Стремоухов. Ты так и знай. Управа найдется. По-матерному ругаться нельзя.
– Созывай.
Человек в слуховом окне оглядел окрестности, пробормотал: – "все ж таки, кто сломал антенну", – и, толкаясь головой о балки чердака, полез вниз, в дом. А там уже
в клубах холодного пара громыхала в столовой очередь – за хлебом стучали кружки, надувался пыхтеньем громадный самовар и за обычным:
– С добр-утром!
– Не толкайся.
– Отстань.
– Не пищи.
– А ты не лезь.
– Холодно-то как.
– Добр-утро.
чей-то визгливый голосок в хвосте очереди пропел:
– А Шкраб опя-ать френч разорвал!
Но Шкраб торжественно и не обращая внимания:
– Дети! Кто сломал антенну?!! Кто смел сломать антенну?!!
не получив ответа:
– Антенна сломана и лежит на земле. Стеклянная изоляция, конечно, лопнула. На кой шут учить тогда азбуку Морзе, не понимаю. – Кто ломает антенны? Какая нечистая сила ломает антенны? Это уж вторая сломанная антенна.
Грузно сел за деревянный пропаренный стол, уткнул бородку в руку, услыхал приказ: "локти снять со стола", сдернул локти и ощутил перед собой большую обычную кружку с горячим чаем; большим куском хлеба тюкнули об стол. Тогда, словно вспомнив что-то, поднялся, подошел к другому столу:
– Агния Александровна, опять Стремоухов дерзит. Подействуйте хоть вы на него, бога ради. Сил никаких нет.
Агния Александровна встала, закуталась крепче в потертый платок, вышла наружу. Утро еще не веяло весной, грозилось морозом, метелью. Прошла в дворницкую, там у стола сидел Стремоухов и писал. Смутился, написанное спрятал. Спросила грустно:
– Опять у вас, Иван Петрович, нервы шалят?
В ответ – грубо:
– А какого чччорта он лается?
– Это Леонид Матвеич-то лается! Стыдно вам так говорить.
– Конечно, лается. Будто я у него антенну сломал. Стану я антенны ломать, как же. И без того – делов, делов... не оберешься.
– Вы ему должны простить; ведь, издерганный, нервный человек, всем известно.
– А я не издерганный? А я – не нервный? И потом... да ну его к чччортовой матери!
– Если будете ругаться, я уйду.
– Не буду я ругаться.
– Вы – словно ребенок; с вами и нужно поступать, как с ребенком.
Подошла, погладила по голове.
– Ну, Иван Петрович, ну, Ванюша: извинитесь вы перед ним: ну, что вам стоит?
– Ладно, извинюсь. А жить не буду.
– Куда же... в деревню?
– Хоть в деревню.
– Деревня вам ничего не дает, сами говорили. И потом... С кем вы в деревне в шахматы будете играть; Леонид Матвеич в деревню ходить не будет.
– И леший с ними, с шахматами. Все равно: сказал уйду – и уйду.
В минуте напряженного молчания заколебалась-заискрилась-замучительствовала странная линия; казалось, перешагнешь ее – и нет возврата, все пойдет по-новому, да так, как не шло никогда в мире: широко – вольно – просторно, легко задышит грудь... Но
– Что ж? Вольному воля, Иван Петрович.
– Вольному воля, Агния Алексанна.
Вышла, постояла на крылечке дворницкой, вдохнула крепкий, с морозом, ветер, пошла в дом. Чаепитие кончалось:
– Ты приготовил по математике?
– А я историю не сделала.
– Передай кружку.
– Дежурный, чаю.
– Я думаю, все-таки, что царь Борис играл личность в истории...
– Личность в истории... Роль, роль личности в истории... Дурак!
– Сам тетеря.
– Ба-атюшки! А у меня реферат не кончен. Ну вот, пол-странички не дописала... И совсем забыла.
– Деж-журный, чаааю!
Подошла, нагнулась к лохматой голове:
– Он извинится, только больше служить не будет, уйдет.
Шкраб вскочил:
– А это еще хуже, – кем его заменить? Лучше пусть не извиняется...
Сорвался с места, хотел бежать в дворницкую, да окликнули с дальнего стола: