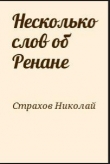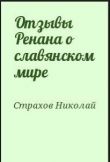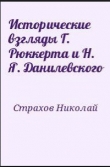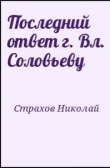Текст книги "Историки без принципов"
Автор книги: Николай Страхов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
VIII
Требованія исторіи
Для своей неустановившейся мысли, для оправданія игры своего ума и чувства, Ренанъ придумалъ нѣкоторыя формулы, какъ-бы правила своей особенной реторики. «Нужно имѣть извѣстную философію», говоритъ онъ, «но никогда не слѣдуетъ ее прямо высказывать». «Истина заключается въ оттѣнкѣ». «Тонвостъ ума со» стоитъ въ томъ, чтобы воздерживаться отъ окончательнаго вывода. «Несчастный тотъ человѣкъ, кто хоть „разъ въ день самъ себѣ не противорѣчитъ“. И такъ далѣе.
Все это прекрасно. При такихъ правилахъ рѣчь становится заманчивою и капризною. Дается полная воля движенію мысли, дается способъ затронуть у читателя самыя чуткія струны, и, если все это дѣлать умно и выражать точнымъ и легкимъ языкомъ, то можно очень успѣшно и другихъ забавлять, и самому забавляться.
Но нельзя такимъ образомъ писать исторіи. Нельзя писать исторіи, не имѣя ясныхъ принциповъ, не становясь на совершенно опредѣленныя точки зрѣнія. Такъ называемая объективная исторія, мечта о которой очевидно очень нравится Ренану, есть дѣло совершенно пустое, потому что невозможное. Исторія открывается намъ лишь настолько. насколько мы способны ее понять. насколько успѣемъ углубить и расширить тѣ основанія, на которыхъ опираются наши сужденія. Если мы питаемъ извѣстное чувство, проникнуты извѣстнымъ убѣжденіемъ, то въ исторіи мы можемъ найти это чувство и убѣжденіе, и по ней можемъ изучать его правильную сторону, его дѣйствительный корень и силу, и понять сторону неправильную, которую оно въ насъ, можетъ быть, имѣетъ. Мы можемъ посредствомъ исторіи безъ конца работать надъ своими мыслями, очищая и развивая ихъ до большей и большей свободы и полноты. И, насколько въ насъ созрѣетъ мысль, настолько и озарится передъ нами исторія; ибо объ ней конечно гораздо вѣрнѣе, чѣмъ объ Гомерѣ, можно сказать, что она дастъ всякому столько, сколько кто можетъ взять.
Но, если мы ничего взять не можемъ и не хотимъ, то есть, если мы не вѣримъ ни въ разумъ, ни въ человѣка, ни въ религію, – вообще не имѣемъ никакихъ точекъ опоры для сужденій, никакого зерна для развитія убѣжденій, если мы приступаемъ въ исторіи, такъ сказать, съ пустыми руками, то мы съ пустыми руками и отойдемъ. Мы можемъ написать какую-нибудь хронологію, перечень событій, собраніе замѣтокъ, но исторіи у насъ не выйдетъ. Или, если мы очень будемъ стараться, то у насъ пожалуй выйдетъ исторія, но только такая, которая, какъ въ зеркалѣ, отразитъ насъ самихъ, то есть будетъ доказывать, что вѣрованія людей всегда были заблужденіями, что цѣпь событій не имѣетъ смысла, что въ человѣчествѣ вѣчно происходитъ безплодное вращеніе тѣхъ-же страстей и увлеченій, словомъ, что вся исторія пустяки, и поучительна только потому, что доказываетъ справедливость нашего равнодушія и сомнѣнія, нашей пустоты.
Этотъ результатъ можетъ быть высказанъ конечно въ различномъ тонѣ. Онъ можетъ быть выраженъ съ горечью, показывающею, что человѣкъ жадно искалъ истины, томился по ней, но не успѣлъ ея найти. Taкое чувство естественно и правильно. Но, когда въ тонѣ подобной исторіи мы слышимъ самодовольство ученаго, думающаго, что онъ исполняетъ прекрасный научный трудъ, то это будетъ уродливость, въ сущности весьма печальная.
IX
Сентъ-Бёвъ
Взгляды Ренана на дѣло исторіи очевидно вполнѣ совпадаютъ съ мыслями Сентъ-Бёва о томъ-же дѣлѣ. Сентъ-Бёвъ написалъ исторію французскихъ янсенистовъ, которыхъ называетъ людьми благочестивыми, «святымъ племенемъ». Кончивъ эту исторію (пять томовъ, подъ заглавіемъ Port Royal), онъ оглянулся на свой двадцатилѣтній трудъ и искренно высказалъ нѣсколько мыслей, которыя съ радостію приводитъ Ренанъ.
«Какъ я ни старался», говоритъ Сентъ-Бёвъ, «я былъ и остаюсь только изслѣдователемъ, только искреннимъ, внимательнымъ и взыскательнымъ наблюдателемъ. И даже, по мѣрѣ того, какъ я подвигался впередъ, когда очарованіе исчезло, я и не хотѣлъ бытъ ничѣмъ инымъ. Мнѣ казалось, что за отсутствіемъ поэтическаго пламени, которое раскрашиваетъ, но и обольщаетъ, нѣтъ болѣе законнаго и болѣе почтеннаго употребленія ума, какъ видѣть вещи и людей какъ они есть, и изображать ихъ такъ, какъ ихъ видишь, описывать вокругъ себя, по долгу служителя науки, разновидности рода человѣческаго, различныя формы человѣческой организаціи, странно видоизмѣняемой, съ нравственной стороны, въ обществѣ и въ искусственномъ дедалѣ ученій. А какое ученіе болѣе искусственно, чѣмъ ваше! Вы (т. е. янсенисты) вѣчно говорите объ истинѣ и вы всѣмъ пожертвовали тому, что явилось вамъ подъ этимъ именемъ: я былъ на свой ладъ человѣкомъ истины, былъ такъ далеко, какъ только могъ ея достигнуть».
«Но вѣдь и это – какъ это мало! Какъ нашъ взглядъ ограниченъ! какъ скоро останавливается! какъ онъ похожъ на свѣточъ, зажженный на минуту среди безмѣрной ночи! И какъ тотъ, кто всего ближе принималъ въ сердцу познаніе своего предмета, для кого было высшею наградою – уловить его, и высшею гордостью – изобразить его, чувствуетъ себя безсильнымъ и ниже своей задачи въ тотъ день, когда, видя ее почти оконченною и результатъ добытымъ, онъ сознаетъ, что въ немъ затихаетъ охмѣленіе силы, и что имъ овладѣваетъ окончательная слабость и неизбѣжное отвращеніе, и когда онъ замѣчаетъ въ свою очередь, что и самъ онъ есть лишь одна изъ мимолетнѣйшихъ иллюзій въ нѣдрахъ безконечной иллюзіи».
Слова эти прекрасны по чувству боли, глубокой тоски, которыми проникнуты. Вотъ умное и точное выраженіе того душевнаго состоянія, въ которое необходимо придетъ историкъ безъ всякихъ принциповъ, если онъ не риторъ, а серьезный человѣкъ.
Но Ренанъ нимало не думаетъ тосковать. Выписавши это грустное размышленіе, онъ весело выражаетъ свое сочувствіе Сентъ-Бёву.
«Можно-ли быть», говоритъ онъ, «лучшаго свойства мудрецомъ изъ этой милой и кроткой школы Экклезіаста, который, не по скептицизму, а въ силу опыта и зрѣлости, любилъ повторять безпрестанно: все суета!» (Nouvelles études, p. 498).
Справедливо замѣтилъ какъ-то Шеллингъ, что для того, чтобы быть скептикомъ, нужно обладать легконравностію, хорошимъ настроеніемъ духа; таковы и были Юмъ и Кантъ. Можетъ быть, веселый Ренанъ есть новое подтвержденіе этого замѣчанія. Но очень дурно и вредно, когда скептицизмъ выдается за глубину и истинную науку.
X
Истина въ исторіи
Ложное понятіе объ исторіи происходитъ отъ того-же, отъ чего вообще міръ человѣческій есть поприще всякаго рода лжи. Человѣкъ живетъ двойною жизнью, потому что, кромѣ дѣйствительности, у него есть область мысли, допускающая всевозможныя искаженія. Такъ, напримѣръ, дѣйствительное знаніе, какой-бы степени и вида оно ни было. всегда содержитъ въ себѣ истину. Но, такъ-какъ мы, въ нашей мысли, можемъ принимать неполное знаніе за полное, частное за общее, внѣшнее за внутреннее, то и раждаются безконечныя заблужденія.
Если я понялъ какую-нибудь теорему геометріи, убѣдился въ ея истинѣ, то я уже не могу смотрѣть на нее иначе, какъ на истину, не могу говорить, что это было только мнѣніе нѣкотораго Эвклида, жившаго за триста лѣтъ до Р. X. Эту точку зрѣнія, столь ясную для математики, необходимо прилагать и во всякимъ другимъ, когда-либо высказаннымъ мыслямъ и ученіямъ, хотя такое приложеніе и несравненно труднѣе, чѣмъ для геометріи. Въ сущности, понимать исторію, которая вѣдь, прежде всего, есть изложеніе чувствъ, образа мыслей и дѣйствій минувшихъ поколѣній, есть самая трудная и высокая задача для ума. Тутъ требуется безграничное расширеніе нашихъ понятій; при полной строгости пріемовъ, тутъ, очевидна, должно оказаться неизмѣрино больше вопросовъ, чѣмъ понятыхъ явленій.
Возьмемъ нравственныя ученія, которыя обыкновенно считаются дѣломъ самымъ простымъ, не требующимъ усилій и подготовленій для своего постиженія. Въ дѣйствительности, только тотъ можетъ нѣсколько понимать ихъ силу и различныя степени, кто самъ высоко поднялся въ нравственной жизни; иначе они останутся въ его глазахъ мертвою буквою. Дана, положимъ, заповѣдь: «любите враговъ своихъ». Тогда одно изъ двухъ. Или мы ее уразумѣемъ въ ея истинномъ смыслѣ и истинныхъ основаніяхъ, и тогда непремѣнно признаемъ ее и своею заповѣдью, будемъ всею душею стремиться исполнять ее, и не будемъ говорить, что это есть лишь историческій фактъ, что такъ училъ двѣ тысячи лѣтъ назадъ нѣкоторый раввинъ. Или-же мы не уразумѣемъ заповѣди, найденной нами въ древней книгѣ, и тоща, что бы мы объ ней не говорили, мы напишемъ такую-же исторію, какъ тотъ, кто сталъ-бы писать исторію математики, не понимая математическихъ теоремъ.
Каждый человѣкъ судитъ о другихъ по себѣ; каждый поэтъ создаетъ образы по своему образу и подобію. И если гибкость ума и таланта даетъ возможность постигать жизнь далеко не похожую на нашу, то, во всякомъ случаѣ, высота общаго уровня, до котораго мы можемъ подняться въ пониманіи чужой жизни, опредѣляется нашею собственною высотою.
И такъ, изучая столь высокую жизнь, какъ жизнь основателей христіанства, стремясь истолковать вовнѣ духъ и новое ученіе, нѣкогда возродившее міръ, мы. насколько поймемъ христіанство, настолько станемъ его ревностными исповѣдниками, и наше изслѣдованіе будетъ мѣриломъ нашей нравственности и нашего пониманія религіи.
Не будемъ несправедливы къ Ренану. Несмотря на отсутствіе ясныхъ принциповъ и вопреки дурнымъ правиламъ, ясно имъ выставляемымъ, онъ на дѣлѣ, какъ человѣкъ съ чуткимъ умомъ я сердцемъ, менѣе многимъ другихъ ушелъ отъ положительныхъ требованій, лежащихъ на историкѣ. Знаменитый профессоръ-богословъ старикъ Газе пишетъ объ этомъ слѣдующее: «меня увѣряли, что именно эта книга (т. е. Vie de Jésus Peнана), которая въ глазахъ строго настроенныхъ христіанъ является легкомысленною, пробудила христіанскіе интересы въ другихъ людяхъ, бывшихъ дотолѣ равнодушными. Да въ ней и есть поэзія, есть благоговѣніе» (Geschichte Jesn. Leipz. 1876, S. 154).
Вотъ то дѣйствіе, которое должна производить исторія; и если Ренанъ, воображая себя какимъ-то научно безстрастнымъ изслѣдователемъ, достигъ однако нѣкоторой доли этого дѣйствія, то онъ, значитъ, на дѣлѣ впалъ въ противорѣчіе съ самимъ собою. Впрочемъ, какъ мы видѣли, онъ лично ничуть не боится упрековъ въ противорѣчіи; но для утѣшенія другихъ, менѣе безстрашныхъ, необходимо твердо заявить, что и впадать въ противорѣчіе иногда вѣдь вовсе не бываетъ надобности.
XI
Философія Ренана
Какъ-бы ни противорѣчилъ самъ себѣ писатель, какіе-бы виды ни принималъ на себя, прикидываясь и пуская пыль въ глаза, дѣйствительная его душа, истинный образъ мыслей и чувствъ не можетъ вполнѣ укрыться, а только яснѣе обнаружится для того, кто умѣетъ понимать душевныя проявленія. Такъ и относительно Ренана нужно сказать, что, какъ ни усердно онъ забавляетъ читателей и себя самого, какъ ни искусно онъ прячется за блестящей мыльной пѣной, которую взбиваетъ вокругъ себя, но для спокойнаго и пристальнаго взгляда никакъ не могутъ остаться тайною его основные вкусы и понятія. Кто сумѣетъ осадить эту пѣну, для того въ остаткѣ иногда получится только немножко мутной и малосодержательной жидкости.
Въ отношеніи въ философіи, очевидно, что у Ренана нѣтъ ничего твердаго и яснаго, а что всего хуже, – нѣтъ сознанія этого недостатка, нѣтъ тоски по твердомъ и ясномъ. Его разсужденія о томъ, почему онъ отвергаетъ чудеса, его исповѣданіе эмпиризма, опредѣленіе сверхъестественнаго и пр., – словомъ, всѣ случаи, гдѣ онъ пытается логически опредѣлить и связать свои мысли, – ниже всякой критики. Совершенно ясно, что въ своихъ взглядахъ онъ руководится не послѣдовательнымъ развитіемъ извѣстныхъ началъ, а смутными и перекрещивающимися симпатіями. Симпатіи эти указать вовсе не трудно. Въ Ренанѣ, какъ онъ самъ признается, очень сильно говоритъ чувство человѣка, вышедшаго изъ подземелья на свѣтъ яркаго дня. Отсюда у него то, что Пушкинъ однажды назвалъ слабоумныхъ изумленіенъ передъ своимъ вѣкомъ. Мы говоримъ здѣсь объ умственномъ движеніи, а не о нравственности. Въ нравственномъ и политическомъ отношеніи Ренанъ судитъ о современности самостоятельно, и часто строго и вѣрно. Но умственными явленіями нашего времени онъ совершенно ослѣпленъ и старается только не отстать отъ просвѣщенія. Онъ раздѣляетъ обыкновенное предубѣжденіе въ пользу естественныхъ наукъ, ожидаетъ отъ нихъ познанія самой сущности вещей, видитъ въ нихъ всю силу и все спасеніе. Свои общія философскія убѣжденія онъ однажды выразилъ слѣдующимъ образомъ:
«Живое увлеченіе, которое я питалъ къ философіи, не ослѣпляло меня относительно достовѣрности ея результатовъ. Я очень скоро потерялъ всякое довѣріе къ этой отвлеченной метафизикѣ, имѣющей притязаніе быть наукою внѣ другихъ наукъ и независимо разрѣшать высочайшія проблемы человѣчества. Положительная наука осталась для меня единымъ источникомъ истины. Впослѣдствіи, я испытывалъ нѣкоторое раздраженіе при видѣ преувеличенной репутаціи Огюста Конта, возведеннаго на степень перворазряднаго великаго человѣка за то, что онъ сказалъ, дурнымъ слогомъ, то, что всѣ научные умы, въ теченіе двухъ сотъ лѣтъ, видѣли такъ-же ясно, какъ и онъ. Научный духъ лежалъ въ самой основѣ моей природы» (Souvenirs, p. 250).
Изъ этого исповѣданія всего скорѣе видно, что Ренанъ влюбленъ въ научный духъ чисто платонически. Контъ высказалъ интересную мысль, что положительныя науки (оставимъ имъ это названіе) не разрѣшаютъ высочайшихъ проблемъ человѣчества. Ренанъ, очевидно, не въ силахъ сообразить эту точну зрѣнія; для него познаніе все сливается въ одно общее поприще. Поэтому, онъ не видитъ своеобразія Конта, приписываетъ всякимъ научнымъ умамъ стремленіе и надежду разрѣшать высочайшіе вопросы и отвергаетъ философію лишь потому, что она независимо (à elle seule) берется за ихъ разрѣшеніе. Во всемъ этомъ нѣтъ яснаго понятія ни о философіи, ни о наукахъ, и видно только одно – слѣпая вѣра въ какія-то познанія, которыя должны восполнить и замѣнить философію и, вообще, удовлетворить всякимъ запросамъ ума. Если мы вспомнимъ, что этотъ несознательный позитивистъ есть въ то же время поклонникъ нѣмецкаго идеализма, что онъ съ любовью ссылается на Канта и Гегеля, что онъ пишетъ исторію христіанства, руководясь духомъ и трудами нѣмецкихъ экзегетовъ, то мы увидимъ, какую разнообразную и несвязную смѣсь образуютъ взгляды Ренана.
Противорѣчія, въ которыя попалъ человѣкъ, не составляютъ для него укора, если онъ сознаетъ ихъ и старается изъ нихъ выбиться. Обыкновенно, очень разнородныя симпатіи живутъ въ душѣ человѣка, не находя себѣ примиренія и высшаго единства. Но нехорошо, если эти противорѣчія выдаются за какую-то мудрость, если непослѣдовательность и несообразность признаются за тонкость и глубину мысли. Ренанъ пишетъ всегда такъ, какъ будто не вполнѣ открываетъ свою мысль, какъ будто у него въ запасѣ, про себя, имѣется особая философія, разрѣшающая всѣ его загадки и капризы. Такъ пишетъ онъ конечно для обольщенія читателей; но вѣроятно тутъ есть доля и самообольщенія. Въ дѣйствительности, у него нѣтъ никакой философіи, и даже, говоря по-французски, нѣтъ того, изъ чего дѣлается философія.
XII
Пониманіе христіанства и буддизма
Пониманіе религіи – вотъ главный вопросъ въ отношеніи съ Ренану. Тутъ онъ имѣетъ безъ сомнѣнія большія заслуги, и, если-бы не портилъ самъ своего дѣла, если-бы не писалъ, ради ослѣпленія читателей, такимъ догматическимъ тономъ, какъ будто онъ. насквозь понимаетъ всякій предметъ, о которомъ пишетъ, то поворотъ къ лучшему, произведенный его писаніями о религіи, имѣлъ-бы очень серьезное значеніе. Извѣстно, что на фанатизмъ защитниковъ религіи противники ея отвѣчаютъ не меньшимъ фанатизмомъ. До Ренана, во французской литературѣ, значитъ отчасти и въ литературѣ всего міра, люди, отказывавшіеся отъ религіи, были ярыми ея порицателями. Ренанъ первый заговорилъ тономъ не только чуждымъ фанатизма, но уважительнымъ; его живое и пристальное любопытство дышало чувствомъ высокой важности, которую онъ придаетъ предметамъ своего изслѣдованія. Стоитъ сравнить въ этомъ отношеніи Ренана не только съ вольнодумными французами, но и съ нѣмцами, его учителями. Онъ сталъ, напримѣръ, неизмѣримо выше Штрауса, потому что, какъ ни слабы и неправильны его очерки, все-таки онъ уловилъ иныя живыя черты лицъ и событій первобытной исторіи христіанства, онъ даетъ намъ если не ясную картину, то какое-то мерцаніе той дѣйствительности, на которую устремлялъ свое жадное вниманіе. Между тѣмъ Штраусъ съ своими тяжелыми и сухими пріемами приходилъ все больше и больше въ однимъ отрицательнымъ результатамъ; онъ все хотѣлъ быть строго научнымъ и кончилъ совершеннымъ непониманіемъ христіанства и его исторіи.
Настоящаго пониманія религіи нельзя однако-же приписать Ренану. Многое онъ чувствуетъ вѣрно, вслѣдствіе своего церковнаго воспитанія, но цѣлаго онъ обнять не можетъ, и корень всего дѣла ему не доступенъ.
Какъ образчикъ неясности его мыслей, мы приведемъ здѣсь сужденіе о буддизмѣ, о той религіи, которая, конечно, представляетъ односторонній, но за то самый поразительный и отчетливый примѣръ религіознаго стремленія.
Ренанъ не находитъ словъ для порицанія буддистской философіи, ея нигилизма, и затѣмъ продолжаетъ:
«Говоря о буддизмѣ, все кажется, будто мы умышленно подыскиваемъ парадоксы, тогда какъ мы только сближаемъ самые несомнѣнные тексты. Этотъ ужасный нигилизмъ, который у насъ показался-бы верхомъ нечестія, – завершается очень возвышенною моралью».
«Апостолы Сакья-Муни были убѣждены, что весь міръ долженъ стать буддистскимъ. И они ошиблись только на-половину. Самое неудовлетворительное ученіе, какое только когда нибудь грезилось человѣку, увлекло весьма различныя страны. Религія, созданная казалось-бы лишь для утонченныхъ скептиковъ, наименѣе ясная, наименѣе утѣшительная изъ всѣхъ религій, сдѣлалась культомъ племенъ до того времени очень грубыхъ. Кротость нравовъ этихъ благочестивыхъ безбожниковъ, и общій характеръ благодушія ихъ проповѣди – вотъ что сдѣлало ихъ популярными. Веды, строгія и аристократическія, никакъ не могли-бы сдѣлать подобныхъ чудесъ. Народъ принимаетъ религію только съ внѣшней ея стороны. Не отъ религіозной метафизики пропаганда получаетъ свою силу. Умиленіе, благожелательность этихъ добрыхъ монаховъ набросили покровъ на ихъ философію, о которой сами они можетъ быть вовсе и не думали» (Nouv. et. p. 85–87).
Какое неясное и, очевидно, превратное пониманіе дѣла! Ренанъ не только не задумывается надъ вопросомъ, но даже всячески старается выставить его неразрѣшимымъ парадоксомъ, и въ этомъ стараніи находитъ свое полное удовлетвореніе. По его словамъ, самая возвышенная мораль, ни съ того ни съ сего, соединилась неразрывно съ самымъ несостоятельнымъ и неутѣшительнымъ метафизическимъ ученіемъ. Онъ не только не желаетъ объяснить связь между нравственностію и философіею данной религіи, а даже прямо утверждаетъ, что тутъ этой связи нѣтъ, что существуетъ даже непримиримое противорѣчіе, на которое набросила покровъ лишь кротость добрыхъ монаховъ. Отчего они стали такими добрыми, неизвѣстно; но для этого имъ непремѣнно нужно было даже не думать о метафизическомъ ученіи, которое они исповѣдывали.
Вотъ образчикъ Ренановскаго пониманія. Въ предисловіи онъ съ насмѣшкою разсказываетъ, что Бюлозъ отказался напечатать эту его статью въ «Revue de deux mondes», потому что не могъ повѣрить въ существованіе такихъ буддистовъ. Бюловъ былъ правъ, отказываясь вѣрить, что фактъ, обнимающій если не половину, то навѣрно треть рода человѣческаго, въ сущности есть безсмысленный парадоксъ.
XIII
Коренной недостатокъ
Обо всей «Исторіи происхожденія христіанства» можно сказать. что она страдаетъ непониманіемъ самой сущности предмета, и потому, въ цѣломъ, есть произведеніе неудачное. Внутреннее развитіе христіанскаго духа и христіанской мысли представляетъ самую слабую, сухую и безсвязную сторону въ этой книгѣ. За то внѣшнія подробности, побочные предметы изображены иногда съ истиннымъ мастерствомъ, со всею тонкостію нюансовъ. Лучшія главы, конечно, не тѣ, гдѣ говорится о христіанахъ, а тѣ, гдѣ разсказывается о языческомъ мірѣ и о римскихъ императорахъ. Тутъ авторъ замѣтно оживляется и становится интересенъ необыкновенно-проницательными замѣчаніями. Какъ монахъ, глядящій съ жадностью и любопытствомъ на свѣтскую жизнь, онъ видитъ блескъ и прелесть въ томъ, что уже ускользаетъ отъ притупленнаго вниманія свѣтскихъ людей. Такъ, онъ тонко цѣнитъ удовольствія Нерона и чуть не таетъ, когда говоритъ о женщинахъ, и даже объ ихъ притираньяхъ и перчаткахъ.
Между тѣмъ, внутренній ходъ всей исторіи, глубокій переворотъ, совершившійся въ умахъ и сердцахъ человѣчества, изображенъ и не ясно и не полно. Часто съ чудесною отчетливостью указываются отдѣльныя черты того контраста, который обнаружился между нравами и понятіями античнаго міра и новымъ духомъ христіанства; но цѣлости нѣтъ въ этой картинѣ, и нѣтъ той послѣдовательности и ясности, при которой видно было-бы, какъ этотъ контрастъ становился рѣзче и опредѣленнѣе, и какъ сила жизни все больше и больше покидала язычество и переходила на сторону христіанства. Мало того, что этого не показано; Ренанъ кончилъ тѣмъ, что чуть не утверждаетъ противоположнаго. Въ послѣднемъ томѣ, чтобы позабавить и поразить читателей, онъ изображаетъ дѣло такъ, какъ будто побѣда христіанства есть совершенная загадка. Онъ противополагаетъ христіанству стоицизмъ и знаменитаго его представителя Марка-Аврелія. Міръ тогда нуждался въ возрожденіи и искалъ возрожденія. Въ отвѣтъ на такое исканіе явилось два пути, христіанство и стоическая философія, этотъ цвѣтъ всей древней мудрости; но, удивительнымъ образомъ, стоицизмъ, не смотря на всѣ благопріятныя обстоятельства, не имѣлъ успѣха, тогда какъ «религія, имѣвшая цѣлью внутреннее утѣшеніе маленькой кучки людей, по неслыханной удачѣ (par une fortune inouie), стала религіею милліоновъ, составляющихъ самую дѣятельную часть человѣчества [1]1
Marc-Aurèle, р. 626.
[Закрыть].
Мысль, которая тутъ сказывается, конечно, очень проста, именно, что мудрость и наука не имѣютъ въ человѣческомъ мірѣ и его исторіи той роли. какую имъ слѣдовало-бы имѣть. Къ несчастію, очень ужъ трудны тѣ натяжки, къ которымъ пришлось прибѣгать Ренану, чтобы доказать такую, казалось-бы, не трудную тему. Онъ превозноситъ Марка-Аврелія сколько можетъ, и какъ мыслителя, и какъ человѣка и дѣятеля. Напрасныя усилія! Христіанскіе писатели и читатели всегда любили книгу Марка-Аврелія, еще больше любили Сенеку, и еще больше Эпиктета. Немножко поздно и хвалить этихъ философовъ, и обращать самаго слабагоизъ нихъ въ какое-то диво. Но, пока дѣло идетъ о книгахъ, невѣрность въ оцѣнкѣ еще не бросается въ глаза. Всего яснѣе преувеличеніе Ренана видно изъ самаго его разсказа о жизни и царствованіи Марка-Аврелія. Гдѣ тутъ плоды стоической мудрости? Этотъ всесильный кесарь не только не внесъ въ жизнь людей никакого новаго принципа, но не сдѣлалъ и никакого существеннаго преобразованія въ своей имперіи; онъ даже ни на кого не имѣлъ вліянія, не пріобрѣлъ ни приверженцевъ, ни послѣдователей, и подчинялся всѣмъ нравственнымъ и религіознымъ движеніямъ языческой среды своего времени. Какъ-же можно въ такомъ человѣкѣ, хотя и очень добромъ и добросовѣстномъ, видѣть одного изъ людей, способныхъ возрождать человѣчество?
Вотъ какимъ парадоксомъ, искажающимъ смыслъ всего дѣла, кончилъ Ренанъ свое сочиненіе. Онъ хотѣлъ быть безпристрастнымъ, а потому и поддался большому пристрастію въ противную сторону.
* * *
Эта шаткость ума представляетъ нѣчто поразительное. Она, можетъ быть, свидѣтельствуетъ намъ о какомъ-то глубокомъ недостаткѣ, свойственномъ тому клерикальному образованію, которое получилъ Ренанъ. Онъ потомъ отказался отъ вѣрованій, но у него, кажется, остались всѣ прежнія привычки мышленія, недовѣріе въ уму, предъубѣжденіе противъ твердости и ясности знанія, расположеніе подкапываться подъ самую очевидность и умѣнье изъ однихъ и тѣхъ-же посылокъ выводить неодинаковыя заключенія. Ученые, которые трудятся съ нимъ на одномъ поприщѣ экзегетики, часто изумлялись, что, при чрезвычайномъ обиліи и остроуміи своихъ соображеній, Ренанъ выработалъ себѣ такъ мало какихъ-нибудь цѣльныхъ и ясныхъ взглядовъ. Тутъ, можетъ быть, дѣйствуетъ правило: ignoti nulla cupido. Кто никогда въ юности не испытывалъ твердаго умственнаго убѣжденія, для того строгое научное познаніе никогда не открывалось въ полной своей силѣ и прелести, тотъ и не имѣетъ понятія объ этихъ вещахъ, тотъ и не чувствуетъ къ нимъ живаго стремленія, для того умъ и мышленіе навсегда останутся не серіознымъ дѣломъ души, а лишь какою-то забавою. Нельзя безнаказанно проходитъ школу вражды противъ разума и долгіе годы упражняться въ софистикѣ, какъ въ полезномъ умственномъ трудѣ. Говорятъ обыкновенно, что Ренанъ увлекается краснорѣчіемъ, фразою; но возможность этихъ увлеченій имѣетъ, конечно, причину болѣе глубокую и истинно печальную.
(„Русь“ 1886, № 8 и 9).