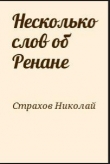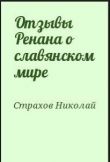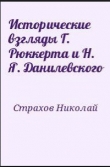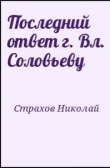Текст книги "Историки без принципов"
Автор книги: Николай Страхов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Н. Страховъ
Историки безъ принциповъ
(Замѣтки объ Ренанѣ и Тэнѣ)
I
Превосходство французовъ въ литературѣ
Французы по прежнему господствуютъ во всемірной литературѣ, то есть больше всего читаются и обладаютъ самыми громкими именами. Политическое значеніе Франціи упало, и французскія дѣла уже не имѣютъ такого первенствующаго интереса для всего міра, какъ прежде; но въ литературѣ не. гикая нація удержала и, вѣроятно, еще очень долго сохранитъ свое первое мѣсто. Въ этомъ отношеніи правъ Ренанъ, когда сравнивалъ роль Франціи съ ролью Греціи «въ древнемъ мірѣ, съ тогдашнимъ долгимъ преобладаніемъ греческой культуры.
Писанія французовъ прежде всего отличаются высокими достоинствами своей формы, внѣшнихъ пріемовъ. „Нигдѣ не пишутъ лучше, чѣмъ во Франціи“, говоритъ Эдмондъ Шереръ, и даже „только во Франціи хорошо пишутъ“. И дѣйствительно, эти писанія представляютъ безъ сомнѣнія самую зрѣлую форму, какая выработана европейскою литературою. Дѣло тутъ не въ одномъ языкѣ, точномъ, ясномъ и гибкомъ, не въ одной легкости, живости и быстротѣ разсказа или изложенія; дѣло въ томъ, что хорошій французскій писатель всегда вполнѣ владѣетъ своимъ предметомъ, знаетъ съ чего начать, чѣмъ продолжать и чѣмъ кончить, и даетъ читателю свою мысль въ порядкѣ и полнотѣ, избѣгая всего лишняго и никогда не упуская изъ виду своей опредѣленной цѣли. Отсюда происходятъ та простота и краткость (разумѣется относительная), которыя такъ любезны каждому читателю.
Какая разница съ нѣмцами и англичанами! Нѣмецкая мысль расплывается въ своей многосторонности и въ той безконечной эрудиціи, которая составляетъ ея неизбѣжную принадлежность, ея стихію. Поэтому, нѣмецъ, чтобы написать книгу, принужденъ такъ-сказать прессовать свои мысли и свѣдѣнія. Часто наивные авторы занимаются не собственно писаніемъ, а только компиляціею чужихъ писаній, и доходятъ до замѣчательнаго искусства въ дѣлѣ прессованія;. тогда книга представляетъ удивительно вѣрный и полный экстрактъ изъ сотни другихъ книгъ, но въ такомъ сухомъ и сжатомъ видѣ, что ее могутъ взять только очень крѣпкіе зубы. Если-же авторъ излагаетъ и свои мысли, то однако-же считаетъ долгомъ ссылаться на все, что онъ прочиталъ, и даже на все, что онъ только желалъ-бы прочитать. При этомъ забывается, что плохая и ненужная ссылка есть настоящій грѣхъ передъ читателемъ, и что хороши только ссылки, которыя основаны на строгомъ выборѣ, и глубокомъ пониманіи чужихъ писаній, и которыхъ поэтому много быть не можетъ. Какъ-бы то ни было, множество нѣмецкихъ книгъ не годятся для чтенія, а годятся только для справокъ.
Англичане пишутъ лучше нѣмцевъ, проще, естественнѣе. За то у нихъ нѣтъ ни порядка, ни живости; мысль чаще всего узка и низменна, но авторъ развиваетъ ее настойчиво и многословно. Такъ писали Бокль, Милль, Дарвинъ; все это скептики и эмпирики, холодные и пространные. Если-же авторъ обладаетъ воображеніемъ и жаромъ, то онъ вдается въ англійскую блестящую манеру. Являются непрерывныя гиперболы, неожиданныя сближенія и скачки; всему дается видъ яркій и поразительный; словомъ – это та манера, которая такъ насъ восхищаетъ въ Шекспирѣ и Карлейлѣ, но которая приводитъ читателя въ большому разочарованію, когда у автора недостаетъ для нея внутренняго содержанія.
Одни французы отличаются тактомъ, мѣрою; умѣютъ быть простыми, не впадая въ монотонное бормотанье, и краснорѣчивыми безъ напряженія и напыщенности.
II
Англичане и Нѣмцы
Но иное будетъ дѣло, если мы станемъ судить о писателяхъ не по формѣ, а по внутренней силѣ ихъ писаній. Тогда окажется, что нѣмцы и англичане имѣютъ большой перевѣсъ надъ французами. Англійская мысль упорно работаетъ въ одномъ направленіи, скептически разлагая явленія, сводя всѣ высокіе предметы къ самому простому и низкому уровню. Въ послѣднія десятилѣтія достигнуты на этомъ пути огромные результаты. Несомнѣнно доказано, что наша планета получила свой нынѣшній видъ медленно и постепенно, что все ея устройство совершено тѣми самыми силами и дѣйствіями, среди которыхъ мы живемъ теперь. Доказано также, что древность человѣка теряется въ сотняхъ тысячелѣтій, предшествовавшихъ тому, что мы называемъ историческими временами. Вмѣстѣ съ тѣмъ, зачатки нашей культуры разысканы въ ихъ простѣйшей формѣ, и ихъ возникновеніе отнесено къ незапамятной жизни еще вполнѣ дикихъ человѣческихъ племенъ. Но, если вѣрить приверженцамъ англійской науки, которыхъ такое множество между континентальными учеными, то англичане сдѣлали еще больше. Если слѣдовать Боклю, то весь ходъ исторіи объясняется будто-бы однимъ нарастаніемъ знаній, то все развитіе человѣчества вполнѣ заправляется постепеннымъ накопленіемъ опытовъ и наблюденій. Если признать Дарвина, то организмы будто-бы возникли какъ игра случайностей, то ихъ удивительное устройство доказываетъ не присутствіе внутренняго закона, а только то, что все нелѣпое и дурно устроенное погибло и погибаетъ. Если наконецъ вѣрить Бену, Миляю, то наша душевная жизнь есть нѣкоторая механика ощущеній, и самое мышленіе – не болѣе какъ аббревіатура, сокращенное обозначеніе испытываемыхъ нами внутреннихъ и внѣшнихъ воспріятій.
Эти мысли имѣютъ нынѣ огромное вліяніе, и Германія, учительница Европы, не нашла въ себѣ силъ, чтобы противостать этому потоку эмпиризма и анализа. Между нѣмцами нашлись даже писатели, которые далеко превзошли въ этомъ направленіи осторожныхъ и сдержанныхъ англичанъ и, съ чисто-нѣмецкою наивностію, до конца и наголо высказали слѣдствія принятыхъ ими идей. Но эти крайности свидѣтельствуютъ намъ только о томъ, что въ Германіи мыслящіе привыкли искренно отдаваться своей мысли, и что тамъ мысль дѣйствительно свободна, дѣйствительно уважается. Нѣмецкіе писатели сами не сомнѣваются въ своемъ дѣлѣ, и нужно согласиться, что они вполнѣ заслужили, чтобы и со стороны никто не сомнѣвался въ важности ихъ трудовъ. Какія-бы безобразныя явленія ни попадались въ нѣмецкой умственной жизни, какія-бы колебанія и пониженія духовнаго уровня ни случались въ ней по мѣстамъ и по временамъ, никогда нельзя забывать, что все-таки тутъ, въ Германіи, центръ внутренняго развитія Европы, что германскій духъ уже успѣлъ глубоко и широко раскрыть свои силы, и потому его стремленія едва-ли могутъ заглохнуть отъ частныхъ вліяній и обстоятельствъ. Лѣтъ двадцать, или нѣсколько болѣе, назадъ, Тэнъ выставилъ относительно Германіи формулу, съ которою слѣдуетъ и теперь согласиться. Тэнъ говоритъ:
«Съ 1780 по 1830 Германія породила всѣ идеи той исторической эпохи, въ которую мы живемъ, и теперь, въ продолженіи полувѣка, или пожалуй цѣлаго вѣка, наше главное дѣло будетъ состоять въ томъ, чтобы перемыслить эти идеи.
„Нѣмецкій философскій геній, проявившійся въ концѣ прошлаго столѣтія, породилъ новую метафизику, новую теологію, поэзію, литературу, лингвистику, экзегезу, эрудицію, и въ настоящую минуту проникаетъ въ науки и продолжаетъ свое развитіе. Въ послѣднія три столѣтія не показывалось еще духа болѣе оригинальнаго, болѣе общаго, болѣе обильнаго слѣдствіями всякаго рода и значенія, болѣе способнаго все преобразовать и все пересоздать. Духъ этотъ такого-же разряда, какъ духъ Возрожденія и духъ классической эпохи“. (Histoire de la littérature Anglaise, t. iv, p. 277, 279).
Слова эти вообще очень справедливы, и развѣ въ частностяхъ требуютъ можетъ-быть поправки. Сдѣлаемъ только одно замѣчаніе. Сто-ли, или меньше лѣтъ суждено господствовать этому духу, но для насъ всего важнѣе думать, что онъ представляетъ раскрытіе и такихъ человѣческихъ силъ, которыя уже не перестанутъ проявляться, что въ немъ есть нѣкоторый всегдашній, вѣчный элементъ. Тэнъ, по складу своихъ убѣжденій, не обращаетъ вниманія на эту сторону дѣла. Для него жизнь человѣка есть собственно не развитіе, а простая цѣпь смѣняющихся состояній.
III
Ренанъ и Тэнъ
Если теперь обратимся въ Франціи, то увидимъ, что она въ настоящее время не можетъ похвалиться своими успѣхами на поприщѣ ума. Ренанъ и Тэнъ конечно теперь лучшіе французскіе писатели, и мастерство, съ которымъ они владѣютъ мыслію и словомъ, таково, что никогда, кажется, подобные имъ серьозные ученые не имѣли еще столько читателей. Между тѣмъ, если взять главное направленіе ихъ мыслей, то мы не много найдемъ оригинальнаго. Тэнъ, не смотря на всѣ его попытки расширитъ свой взглядъ, въ сущности держится началъ англійской психологіи, на которыхъ прямо построена его книга De l'intelligence; а Ренанъ есть послѣдователь и проповѣдникъ тѣхъ экзегетическихъ изысканій, которыя занимали въ Германіи не одно поколѣніе и образовали тамъ цѣлыя школы.
Но, разумѣется, нельзя говорить, что въ нихъ вовсе нѣтъ оригинальности. Все, что они пишутъ, блещетъ такою свѣжестію, такою живостью мысли, что здѣсь произошло очевидно не простое усвоеніе, а полное претвореніе чужихъ мыслей. Всякое глубокое воззрѣніе измѣняетъ свою форму и направленіе, когда переходитъ въ чужую страну, когда привилось и развивается въ умахъ другой народности. И такъ, что же вышло? Что намъ представляютъ Тэнъ и Ренанъ? Не беремъ вопроса во всей ширинѣ, но представимъ читателямъ нѣсколько замѣтокъ. Теперь, кажется, уже ясно, что эти два писателя, возбуждавшіе такія надежды, высказались вполнѣ, и можетъ-быть не мы одни испытываемъ чувство разочарованія. Но дѣло не въ однихъ несбывшихся надеждахъ. Нѣкоторыя мысли, нѣкоторыя направленія этихъ двухъ лучшихъ писателей Франціи могутъ внушить, какъ мы думаемъ, болѣе горькія чувства, иногда даже ужасъ передъ паденіемъ человѣческихъ понятій.
IV
Прелесть Ренана
Ренанъ есть, конечно, одинъ изъ превосходнѣйшихъ писателей, и трудно защититься отъ очарованія, которое онъ производитъ. Въ изложеніи его удивительно соединяется художественная живость и яркость съ чисто ученою точностью языка. Вы постоянно чувствуете одушевленіе, съ которымъ онъ пишетъ, и вмѣстѣ стараніе выразить это одушевленіе какъ можно проще и отчетливѣе, – такъ, какъ излагаютъ свой предметъ ученые. Притомъ, искренность слышится въ каждомъ словѣ, и иногда можно подумать, что передъ вами писатель достигшій совершенства. Совершенный писатель, вѣдь, не значитъ непремѣнно тотъ, кто въ высшей степени глубокъ, остроуменъ, чувствителенъ и т. п. Тутъ трудно поставить предѣлъ, и люди съ подобными качествами иногда дурно пишутъ, или вовсе не пишутъ. Но, если кто пишетъ не по подражанію, а по внутреннему влеченію, если говоритъ только то, что думаетъ, если не употребляетъ ни трафаретовъ, ни бѣлыхъ нитокъ, никакихъ готовыхъ пріемовъ, чтобы ослѣпить и провести читателя, а старается только объ одномъ, объ ясномъ и полномъ выраженіи своихъ мыслей, то такого писателя можно назвать совершеннымъ. Ренанъ, какъ отлично образованный человѣкъ, хорошо знаетъ всякую реторику и всякія общія мѣста, и никогда въ нихъ не впадаетъ. Онъ старательно выдерживаетъ индивидуальное свойство своихъ мыслей, и это одно уже даетъ его писаніямъ чрезвычайную прелесть, не говоря объ обиліи и важности самыхъ мыслей.
По кругозору, по ширинѣ области, въ которой движется его мысль, Ренанъ тоже необыкновенно привлекателенъ. Тутъ отразилось, кажется намъ, его религіозное обученіе и воспитаніе. Въ самомъ дѣлѣ, богословская литература имѣетъ, очевидно, захватъ несравненно болѣе широкій, чѣмъ чисто свѣтская. Богословіе стремится разсматривать міръ и человѣка со всѣхъ сторонъ, отъ глубочайшихъ вопросовъ до послѣднихъ житейскихъ мелочей. Поэтому, Ренану привычны самыя разнообразныя категоріи; онъ умѣетъ носиться мыслью между небомъ и землею, тогда какъ обыкновенные прозаики или вовсе не подымаются высоко, или, когда вздумаютъ подняться, теряютъ способность сказать что нибудь опредѣленное. Кто-то замѣтилъ, что и самые предметы, постоянно занимающіе Ренана, указываютъ на его духовное воспитаніе. То, чему онъ учился, навсегда приковало въ себѣ его вниманіе, и, такъ-какъ онъ учился вещамъ, имѣющимъ для человѣка высочайшій интересъ, то и съ этой стороны онъ необыкновенно занимателенъ. Онъ хорошо понимаетъ важность того, о чемъ пишетъ. и только потому и выбираетъ постоянно этотъ предметъ; не такъ, какъ ординарные вольнодумцы, которые говорятъ о религіи только для того, чтобы обстоятельно показать, что они ея не понимаютъ, а имѣютъ совершенно другія влеченія и вкусы.
V
Исторія христіанства
Главную книгу Ренана, семь томовъ подъ названіемъ «Les origines du Christianisme», можно читать съ большою пользою, съ большимъ поученіемъ. Если вы представите себѣ, что авторъ съ чрезвычайнымъ стараніемъ и напряженіемъ мысли вникаетъ въ свой предметъ, то, хотя-бы вы были недовольны тѣмъ, что онъ не довольно глубоко въ него проникаетъ, вы все-таки съ великимъ интересомъ будете слѣдить за его работою. Передъ вами художникъ, который со всею зоркостію, какая ему только дана, старается уловить картину, закрытую туманомъ древности. Онъ осторожно проводитъ каждую черту, которую успѣлъ разглядѣть; неясное, неуловимое онъ и означаетъ неясными, расплывающимися чертами. Мало по малу выступаютъ образы, показываются формы предметовъ. Но тутъ онъ принужденъ остановить работу; у него нѣтъ больше средствъ, нѣтъ силъ дать картинѣ полную живость.
Очевидно, какого-бы понятія о христіанствѣ мы сами ни держались, подобная работа будетъ для насъ все-таки чрезвычайно интересна; когда она производится совершенно добросовѣстно, то будетъ служить только для уясненія и повѣрки предмета; истинѣ-же она повредить не можетъ.
Такое впечатлѣніе часто производитъ книга Ренана; онъ вѣрно понялъ, что исторія въ сущности требуетъ художественныхъ пріемовъ; онъ это называетъ – власть оттѣнки, nuances, а это, вѣдь, и значитъ – стремиться въ конкретнымъ, индивидуальнымъ образамъ, какъ это дѣлаютъ художники.
Къ несчастію, есть что-то, что портитъ всѣ эти достоинства Ренанова сочиненія. Читатель, безпрестанно чувствующій жадное любопытство, мало по малу начинаетъ вмѣстѣ чувствовать раздраженіе и досаду, которая въ концу седьмаго тома можетъ возрасти до очень большой степени. Дѣло въ томъ, что авторъ слишкомъ догматиченъ и самоувѣренъ; въ немъ нѣтъ тоски по недостижимой цѣли, нѣтъ сознанія незначительности полученныхъ результатовъ. Никогда онъ не скажетъ: этого я не знаю, этого не могу понять; никогда не укажетъ на глубину предмета, превосходящую его силы. Онъ кладетъ свои нюансы почти играя и забавляясь. Очень скоро читатель начинаетъ видѣть, въ чемъ состоитъ существенный пріемъ этой забавы. Краски свои Ренанъ беретъ изъ современной жизни, что конечно и слѣдуетъ дѣлать, такъ-какъ только эти краски находится въ нашемъ дѣйствительномъ распоряженіи. Но тутъ-то онъ и не выдерживаетъ того искусства нюансовъ, которымъ самъ столько хвалится. Онъ безпрестанно увлекается тѣмъ контрастомъ, который получается, когда на традиціонные предметы мы наложимъ современныя краски. Пикантность этого контраста заставляетъ его постоянно фальшивить въ эту сторону; можетъ быть, онъ это дѣлаетъ безсознательно, но дѣлаетъ, очевидно, съ наслажденіемъ, которое читатель мало-по-малу находитъ непростительнымъ. Назвать Іисуса Христа charmant docteur, une personne supérieure – на первый взглядъ не значитъ ничего особеннаго, но въ сущности есть глубочайшая фальшъ, даже и для того, кто разсматриваетъ Христа только какъ человѣка. А Ренанъ доходитъ даже до того, что приписываетъ ему возможностъ думать о jeunes filles qui auraient peut-être consenti à l'aimer! Эти пріемы, – въ силу которыхъ древніе предметы получаютъ слишкомъ опредѣленный и слишкомъ современный видъ и священное дѣлается не только свѣтскимъ, но и пошлымъ, – чрезвычайно странны у такого ученаго и многопонимающаго человѣка, какъ Ренанъ. Они указываютъ на глубокій недостатокъ въ этомъ умѣ, недостатокъ, испортившій его историческіе труды и проистекающій изъ самой его натуры и всего его развитія.
VI
Два элемента
Въ Souvenirs d'enfance et de jeunesse Ренанъ много говоритъ о томъ, какъ въ немъ отразились свойства племени, въ которому онъ принадлежитъ по рожденію. Его отецъ былъ Бретонецъ, а «характеристическая черта бретонской расы, во всѣхъ ея степеняхъ, есть идеализмъ, стремленіе въ какой нибудь нравственной или умственной цѣли, часто ошибочной, но всегда безкорыстной» (р. 75). При такихъ свойствахъ, какъ онъ самъ даетъ понять, онъ могъ-бы навсегда сохранить религіозность, внушенную ему съ дѣтства, и остаться въ званіи, въ которому готовился. Но въ его натурѣ были еще другіе элементы, именно – въ матери его была часть гасконской крови. Что такое Гасконцы и гасконады, всѣмъ извѣстно. И вотъ, «вслѣдствіе моего происхожденія», пишетъ Ренанъ, «я былъ раздѣленъ и какъ-бы разорванъ между противоположными силами». «Гасконецъ, безъ моего вѣдома игралъ во мнѣ невѣроятныя штуки съ Бретонцемъ и строилъ ему обезьяньи гримасы»… (р. 141). Такъ объясняетъ самъ Ренанъ колебаніе своихъ мыслей, тотъ внутренній разладъ, который такъ замѣтенъ въ его писаніяхъ и не есть лишь одинъ отвлеченный скептицизмъ. «Это сложное происхожденіе», говоритъ онъ, «составляетъ, я думаю, главную причину моихъ видимыхъ противорѣчій. Я двойное существо; иногда одна моя часть смѣется, когда другая плачетъ» (р. 145).
Но еще яснѣе и опредѣленнѣе тѣ два разнородные элемента въ умственномъ мірѣ Ренана, которые зависѣли не отъ прирожденныхъ свойствъ, а отъ двухъ различныхъ сферъ, въ которыхъ совершилось его развитіе. Первая и начальная сфера было клерикальное воспитаніе и обученіе, сперва на родинѣ въ Третъе, а потомъ подъ Парижемъ, въ семинаріяхъ Исси и Святаго Сульпиція. Ренанъ подробно описываетъ духъ и пріемы этихъ школъ; въ нихъ сохранилась очень давняя. почти схоластическая наука, и Ренанъ точно и картинно изображаетъ, какъ онѣ были совершенно разобщены отъ современнаго умственнаго движенія. «Уже послѣ того, какъ совершилась революція 1830 года», пишетъ онъ, «я получилъ то самое воспитаніе, какое давалось двѣсти лѣтъ тому назадъ въ самыхъ строгихъ религіозныхъ обществахъ» (р. 122). Съ очень теплымъ чувствомъ вспоминаетъ онъ о добросовѣстныхъ. любящихъ, добродѣтельныхъ и даже чрезвычайно ученыхъ своихъ наставникахъ и имъ приписываетъ главное развитіе своихъ силъ.
Но онъ, по неодолимому теченію своихъ мыслей, вышелъ изъ этой умственной сферы. Первый толчекъ къ выходу дало изученіе нѣмецкаго языка, за которое онъ, по своей чрезвычайной жаждѣ къ познаніямъ, принялся ради экзегезы и семитической филологіи. «Я почуялъ», говоритъ онъ, «какой-то новый геній, далеко не похожій на геній нашего XVII вѣка. Своебразный духъ Германіи, въ концѣ прошлаго вѣка и въ началѣ нынѣшняго, поразилъ меня; мнѣ казалось, что я вхожу въ какой-то храмъ. Тутъ было то самое, чего я искалъ, соглашеніе высокаго религіознаго духа съ духомъ критическимъ. По временамъ я жалѣлъ, что я не протестантъ, такъ что не могу быть философомъ, не переставши быть христіаниномъ» (р. 203).
Мы не станемъ слѣдить за всею борьбою, которая совершалась въ Ренанѣ. Скажемъ только вообще, что онъ не просто поколебался въ старыхъ своихъ убѣжденіяхъ, а былъ, очевидно, покоренъ, плѣненъ умственнымъ строемъ новаго времени. Онъ какъ будто вдругъ перескочилъ черезъ два столѣтія, и новое зрѣлище ослѣпило его своимъ блескомъ и перетянуло на свою сторону.
Но, такъ-какъ скачекъ былъ слишкомъ великъ и такъ-какъ только поверхностные люди выбрасываютъ за бортъ цѣликомъ свои старыя мысли, въ умахъ-же глубокихъ всѣ элементы развитія сохраняются, то умъ Ренана, можно сказать, навсегда лишился цѣльности и потерялъ возможность крѣпко держаться за что-нибудь, все равно за старое, или за новое. Онъ находится въ безпрестанномъ колебаніи и часто выражаетъ это колебаніе съ чрезвычайной живостью и искренностью.
Для насъ здѣсь важно то, что мы можемъ видѣть, съ одной стороны, какого свойства тотъ старый католическій духъ, которымъ съ дѣтства былъ проникнутъ Ренанъ, а съ другой, въ чемъ сила той новой мудрости, которая впослѣдствіи увлекла его. Едва-ли есть вольнодумецъ-писатель, который былъ-бы, поэтому, интереснѣе Ренана. Но, въ то же время, ничего нѣтъ досаднѣе писателя, который какъ будто любуется своимъ внутреннимъ раздвоеніемъ, всячески имъ пользуется, чтобы дразнить и забавлять читателя, кокетничаетъ своими гасконадами, хорошо понимая, что говоритъ о предметахъ, въ которымъ ни одинъ человѣкъ съ умомъ и чувствомъ не можетъ относиться равнодушно.
VII
Реторика
Всякій писатель долженъ избѣгать реторики, то есть не подражать чужимъ мыслямъ, чужимъ теченіямъ рѣчи, не писать того, чего нѣтъ въ немъ самомъ. Но есть въ писательствѣ опасность болѣе тонкая и требованіе болѣе трудное. Не подражая другимъ, можно однако легко и незамѣтно впасть въ подражаніе самому себѣ. У каждаго писателя со временемъ можетъ образоваться своя реторика; не имѣя новой мысли, онъ станетъ дѣлать варіаціи своихъ старыхъ мыслей; не имѣя чувства, будетъ поддѣлываться подъ свои бывалыя чувства.
У писателей очень высокаго разряда этого самоподражанія иногда вовсе не бываетъ. Таковъ былъ нашъ Гоголь, безподобно оригинальный въ каждомъ своемъ новомъ произведеніи. Но не таковъ былъ, напримѣръ, Викторъ Гюго, безъ конца повторявшійся со всѣми своими характерными достоинствами и недостатками. У насъ. какъ на крупный образчикъ, можно указать на г. Щедрина, очень плодовитаго, но вовсе не обновляющагося. Обыкновенно думаютъ, что реторика вообще заключается въ фальшивой высокопарности, въ напыщенности; но и рутинный цинизмъ, безсодержательное зубоскальство есть также несомнѣнная реторика.
Генанъ, особенно въ послѣдніе годы, очень провинился въ подражаніи. То, что сначала было искренно, полно чувства и сдержанности, онъ повторяетъ теперь съ холоднымъ разсчетомъ и съ преувеличенной рѣзкостію, ради эффекта. Таково, напримѣръ, его предисловіе къ Nouvelles études d'histoire religieuse.
Для привычныхъ читателей, своеобразная реторика хорошаго писателя можетъ быть очень любезна; ибо, читатели еще менѣе, чѣмъ авторы, развиваются, и потому любятъ повтореніе одного и того-же. Но есть писанія, задающіяся такими предметами и цѣлями, при которыхъ требованія неминуемо возвышаются. Можно долго писать безпритязательные фельетоны, не обновляя своихъ мыслей и не углубляя своихъ пріемовъ. Но Ренанъ взялся за важнѣйшіе предметы и имѣетъ великія притязанія. «Въ моемъ вѣкѣ», говоритъ онъ, «одинъ я могъ понять Іисуса и Франциска Ассизскаго» (Souvenirs, p. 146). Онъ написалъ исторію первоначальнаго христіанства и употребилъ на ея писаніе двадцать лѣтъ. Что же оказывается? Мысль автора не только не углублялась, а мелѣла по мѣрѣ писанія. Читатель, плѣнившійся остроумными сближеніями, кажущеюся шириною чувства и взгляда въ первомъ томѣ, съ каждымъ новымъ томомъ все больше обманывался въ своихъ надеждахъ. Седьмой и послѣдній томъ, при всей наружной яркости, отзывается уже очень сильно фразою и реторикою, хотя и самобытною. А въ концѣ концовъ, читатель ясно видѣлъ, что эти семь томовъ очень мало подвинули его въ пониманіи сущности христіанства и того великаго переворота, который оно произвело въ человѣчествѣ.