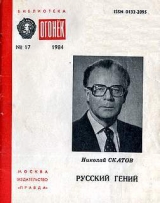
Текст книги "Русский гений"
Автор книги: Николай Скатов
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Детство и отрочество
Детство и отрочество Пушкина – литературные, поэтические детство и отрочество (вполне, впрочем, соответствовавшие и реальным, возрастным) – совпали, в общем, все-таки с еще незрелым «детским» периодом в самой новой русской литературе. Естественно, по отношению ко всему послепушкинскому развитию его. И дело, конечно, не только в хронологии.
Достаточно сопоставить любого допушкинского писателя хотя бы с Лермонтовым или Гоголем или, с другой стороны, Гоголя или Лермонтова с любым последующим писателем, чтобы стало ясно, о чем идет речь. Во втором случае уже сами квалификации, сами эти возрастные категории «зрелая», «незрелая» выглядят нелепыми. В первом случае они такими совсем не выглядят. «Детский» характер такой литературы предстал еще в Пушкине-ребенке. Его детские стихи выглядят как вполне взрослые стихи или – иначе – взрослые стихи той поры были во многом еще детскими, что, собственно, Пушкин-отрок и продемонстрировал. В первый и единственный раз Пушкин оказался на уровне современной литературы, то есть был современен в самом буквальном смысле. Очень скоро разрыв начнет определяться, углубляясь все более, все более Пушкин будет с нарастающей стремительностью работать на будущее.
Пушкин – отрок, почти дитя и в литературе еще ученик. Хотя уже и на уровне учителей. Потому-то здесь еще казались возможными соперничества, как думалось, равных, допустимы были сравнения. Короткая схватка с учителями закончится очень быстро. Батюшков, как известно, отреагировал на пушкинское «Послание Юрьеву» словами: «О, как стал писать этот злодей!». Жуковский в надписи на своем подаренном Пушкину портрете назвал себя учителем побежденным.
В пушкинском литературном детстве проявилась, может быть, главная особенность поэта – поразительная широта его литературных интересов и ориентиров. В обращенности к западной литературе он еще достаточно односторонен – французы. И не случайно именно французы. Конечно, здесь удачно прислужились внешние обстоятельства: всеобщая галломания, особенности семейного «французского» воспитания (правда, хорошо уравновешенного и скорректированного его русской няней), доступ к прекрасным библиотекам отца, дяди, Бутурлиных.
Пушкин проходит школу первоклассную и разнообразную: классическая трагедия, Вольтер, легкая поэзия... Белинский называл Пушкина прежде всего поэтом формы. Как общая характеристика такое определение, конечно, спорно. Но здесь хорошо определяется пора пушкинского детства в ее отношении к французской литературе. Пушкин проходил там единственнную в своем роде в целой европейской литературе школу абсолютного, законченного, доведенного до предела стиля. Грубо говоря, во французской литературе им тогда осваивалась «форма». «Содержание» черпалось прежде всего в отечественной словесности. Пристальное частное исследование, конечно, отмечает здесь свою эволюцию, смену пристрастий, когда, скажем, в конце лицейского пребывания, Жуковский потеснит Батюшкова, но общий взгляд увидит именно всеохватность почти одновременного освоения Державина, и Фонвизина, и Карамзина, и Батюшкова, и Жуковского. Важно отметить здесь присутствие Радищева.
Детство Пушкина явило именно одновременность многих таких замыслов и намерений, большинство из которых Пушкин реализует последовательно лишь в процессе всего своего развития. Здесь в зародыше, в первом, подчас торопливом, конспекте, иной раз в наброске уже есть весь Пушкин. Отсюда и такая многожанровость, подобную которой не представит потом, пожалуй, ни один из этапов его позднейшего развития: и легкое стихотворение («Рассудок и любовь», «Блаженство», первое напечатанное пушкинское стихотворение «К другу стихотворцу»), и полемическая литературная пародия («Тень Фонвизина»), и политическая гражданская инвектива («Лицинию»), и большая поэма («Монах» – неоконченная поэма, самое раннее из известных нам стихотворений Пушкина), и даже «мещанский» романс («Под вечер осенью ненастной»). По отношению к каждому из своих образцов Пушкин еще вторичен, но уже по самой способности повторить любого и каждого, то есть по отношению ко всем им, вместе взятым, он уже оригинален и неповторим.
Пушкин-отрок побывал Жуковским и Батюшковым, Фонвизиным и Державиным, Радищевым и Карамзиным. Каждый из них, наверное, мог бы увидеть в нем своего восприемника. Его благословил Державин и назвал учеником Жуковский. Но Пушкин не стал ни старым Державиным, ни новым Жуковским. Литературное детство Пушкина было лишь подведением итогов всего предшествующего «взрослого» развития, многообразной, но все-таки еще школой.
Обычно поэты стыдливо отрекаются от большинства своих ранних стихов, в лучшем случае относя некоторые из них в приложения, выделяя лишь те или иные, достаточно редкие, удачи. Общее читательское ощущение поэзии Некрасова, например, вполне может обходиться без его первой книги «Мечты и звуки». Эта книга, по сути, не входит в понятие «Некрасов», хотя историками литературы и биографами она, естественно, исследуется в своей неслучайности. «Детские» «Мечты и звуки» в общем даже искажают образ поэта Некрасова. Полный образ Пушкина невозможно представить без его детских лицейских стихотворений. Маркс говорил о древних греках как прекрасной поре человеческого детства, потому-то и вызывающей наше восхищение, и называл греков нормальными детьми.
Подобно этому мы восхищаемся литературным детством Пушкина как единственной в своем роде порой прекрасного литературного детства, пристрастно и нежно опекаем Лицей, а самую колыбель – Царское Село – назвали именем Пушкина. Разве не уникально для нас это понятие «Лицей», разве повторимо и не единственно это место? А сам Пушкин, в общем, никогда от своих лицейских стихов не отрекался и, став взрослым, уже в 1825 году готовил их к печати, шлифуя и отделывая. Они закономерный этап, без которого нарушается цельность – Пушкин во всех своих стадиях.
Ко времени окончания Лицея и относится первый кризис с пересмотром многих мотивов, характерных для его поэзии 1814—1815 годов, с углублением во внутренний мир. Стихотворение «Певец» в этом смысле программно:
Вздохнули ль вы, внимая тихий глас
Певца любви, певца своей печали?
Когда в лесах вы юношу видали,
Встречая взор его потухших глаз.
Вздохнули ль вы?
Через первый свой кризис, через переживание перехода от отрочества к юности с настроениями тоски, печали и разочарованности Пушкин вступал на самостоятельный путь. Окончание Лицея совпало с окончанием литературной школы.
Юность
Уже в 1818 году Пушкин пишет совсем иные стихи. Это поэзия не «потухших», а горящих восторгом глаз:
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Так пишет юноша, впервые ощутивший свою взрослость, хотящий быть взрослым и приобщающий себя к миру занятых настоящим и единственно достойным делом взрослых людей: стихи обращены к Чаадаеву. «Исчезли юные (читай – детские) забавы», пришел юный порыв к свободе, чтобы остаться и усилиться. Прекрасные благородные, порывы юности как нельзя лучше совпали с первыми порывами к свободе в молодом русском обществе:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
1817—1820 годы, так называемый петербургский период, наиболее вольнолюбивый, собственно гражданский, самый «политический» в развитии поэта.
Идеи гражданской свободы, политического радикализма как никогда более и как нельзя лучше отвечали «прекрасным» – благородным порывам юности. Непосредственное восприятие противоречий русской социальной и политической жизни, все сильнее обнажавшихся в конце десятых годов, находило немедленный отклик в многочисленных пушкинских эпиграммах и стихах, проникнутых юным негодованием и нетерпением («нетерпеливою душой»,– сказал сам Пушкин). Возмущенная юная душа находила выражение в «возмутительных», по характеристике императора, стихах, которыми Пушкин «наводнил Россию». И дело не в идеях свободы как декларациях, лозунгах и провозглашениях, а именно в выражении ее духа. Поэтому он всегда оставался в подозрении у «жестокого» века, и даже тогда, когда не создавал крамольных, «возмутительных» стихов. Какое преодоление ограниченности, какая освобожденность от эгоизма в этом позднейшем признании:
Я вас любил; любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно.
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
В стихах Пушкина обычно нет сентенций и нравоучений, перета указующего, но, как сказал Белинский, «...мы не знаем на Руси более нравственного,при великости таланта, поэта, как Пушкин». Пушкин не просто писал о свободе, он ее воплощал. Пушкинская свобода – это свобода абсолютная или, точнее, идеальная. Именно эта и в «политических», в «гражданских» стихах проявляющаяся степень свободного отношения к миру определила громадную агитационную роль пушкинских стихов и место их в декабрьском движении сравнительно с собственно агитационными и очень в этом качестве популярными стихами-прокламациями. Такие стихи, как, скажем, стихи Рылеева или А.Бестужева, говорили о свободе, но не прямо всем своим строем (и литературным тоже) ее обязательно выражали. Пушкин скажет позднее о заданности дум Рылеева: «Думы Рылеева и целят, и всё невпопад». Пушкин-поэт сам был демонстрацией свободы, живым ее выражением.
«Вольность» не только заглавие первого самого значительного стихотворения Пушкина, написанного после лицея. Это как бы оглавление и всех послелицейских его стихов.
В 1821 году в связи с цензурными преследованиями Пушкин посетует: «Жаль мне, что слово вольнолюбивыйей не нравится; оно так хорошо выражает нынешнее liberale: оно прямо русское...»
Пушкин не обольстился громким иноземным словом «либеральность». И каким это оказалось приговором слову и прогнозом его судьбы – двусмысленности его существования в русской жизни. Пушкинская лирика не либеральная, она именно вольнолюбивая: всем строем своим несет она дух вольности и никогда – своеволия.
«Вольность» Пушкина часто сопоставляют с радищевской «Вольностью» и справедливо указывают на определенность, категоричность и, так сказать, четкую политическую программность «взрослого» радищевского произведения сравнительно с «юной» пушкинской «Вольностью». Сам Пушкин в конце жизни отметит эту связь («вслед Радищеву») в черновом варианте «Памятника», но откажется от него, может быть, не только из-за цензуры. Он восславил свободу «вслед Радищеву», но не так, как Радищев. Хотя «не так» еще не означает, что восславил слабее или меньше. Он восславил свободу уже по-пушкински, то есть в известном смысле больше и сильнее. Не случайно ключевое место в пушкинской оде в отличие от радищевской занял образ поэта, истинное значение которого, в свою очередь, раскрывается в соотнесенности с образом «возвышенного галла» (Андрея Шенье) – носителя подлинного, лишенного односторонности духа свободы.
Но и в оде «Вольность», как и в любом из его так называемых вольнолюбивых стихотворений, свобода – потому-то она и пушкинская – никогда не довлеет сама себе. Здесь, например, над всем царит дух Закона, образ его. Как и любой пушкинский образ, образ Закона вырастает в контексте времени, и, как любой пушкинский образ, немедленно это время перерастает, приобретая всеобщую значимость. Конечно, образ Закона вместил у Пушкина и представление об естественном праве, вынесенное им, скажем, из лицейских лекций профессора Куницына, и надежды на осуществление какого-то позитивного правового устройства, допустим, в духе Николая Тургенева, по английскому образцу. Но все это лишь комментирует и даже не стихотворение, а обстановку и время создания его.
Само же стихотворение провозглашает закон как необходимость некоего высшего принципа, самая человечность которого определена уже внеличным и внечеловеческим, и потому же не принимает никаких противозаконных, кровавых человеческих решений. И разве Пушкин сам, возвращаясь к державинско-радищевской традиции оды, с ее строгой подчиненностью вовне располагающимся, как бы высшим требованиям и принципам, не склонился перед законом, не подчинился высшей целесообразности, не продемонстрировал всем художественным строем произведения необходимость ее?
А если попытаться определить одним словом, как говорил Белинский, «пафос» другого характернейшего стихотворения этой поры – «Деревня», то опять-таки разве это не будет юность?
«Приветствую тебя, пустынный уголок...». Сколько открытости, молодого восторга, приятия несет уже первое восклицание. И в «Деревне» еще явно прослеживается традиция, связанная с литературой XVIII века: в категоричности суждений, в предельности оценок, в четком делении на белое и черное, на доброе и злое. Однако выступает все это уже в ином качестве: такая категоричность не столько выражение рационалистических представлений с их тягой к строгой нормативности, сколько результат юного страстного чувства, не признающего полутонов, знающего только «да» или «нет», безоглядно приветствующего и столь же безоглядно отрицающего.
Все его творчество этой поры от первой до последней строки есть восславление свободы: антикрепостническая «Деревня», но и фантастический сказочный «Руслан» – свободная игра духовных сил свободного человека, предчувствие, по слову Белинского, нового мира творчества. Что же, в этом смысле «Руслана и Людмилу» можно назвать и называли «декабристской поэмой».
«Руслан и Людмила» оказалось произведением, в котором с наибольшей полнотой выразился дух юного Пушкина. «Юноши двадцатых годов,– писал Белинский, точно указав на истинного адресата пушкинской поэмы, – ...были правы в энтузиазме, с которым они встретили «Руслана и Людмилу». Сам Пушкин шутливо определил юношеский пафос «Руслана и Людмилы» словами: «Руслан – молокосос». В то же время он, по сути, указал на его значение уже в первых строках своего стихотворного романа, обозначив через голову «южных» поэм прямую преемственную связь «Онегина» с этой юной поэмой: «Друзья Людмилы и Руслана! С героем моего романа Без предисловий, сей же час Позвольте познакомить вас».
«Руслан и Людмила» – самое большое поэтическое произведение Пушкина, не считая «Евгения Онегина», произведение, над которым Пушкин работал так долго, как ни над каким другим, опять-таки за исключением «Онегина». «Руслан» сопоставим с «Онегиным», как сопоставимы юность и зрелость. Это столь же законченное, полное и идеальное выражение юности, как «Онегин» – выражение взрослости. Это не воспоминание о юности и не воссоздание ее, пусть и во всей непосредственности, как то будет у Льва Толстого. Это сама юность, абсолютно совершенное произведение в качестве выражения игры юных сил. Потому-то буйная юная фантазия смогла построить необычный мир, сказочный, условно сказочный, и позднее, уже в 1828 году, Пушкин введет пролог, корректируя такую сказку. Поэма «Руслан и Людмила» родилась в процессе соревнования с Жуковским (поэма «Владимир») за создание сказочной поэмы. Но в жанре юной сказочной поэмы Жуковский был обречен на поражение не только гением Пушкина, но и юностью, незрелостью этого гения.
Потому же энциклопедизм Пушкина принял здесь, будучи связан с разнообразной традицией, русской (ироикомическая поэма) и западной (скажем, «Орлеанская девственница» Вольтера), прежде всего особое направление – романическое или, даже точнее, романное. Рыцарский роман (в данном случае «Неистовый Роланд» Ариосто) нашел с юностью Пушкина в своем роде идеальную ситуацию творческого восприятия и интерпретации. Уже здесь Пушкин так объединил в своей всечеловечности западный (романный) и русский (сказочный) элементы, что их невозможно разъединить: поэма столько же сказка, сколько и роман – и наоборот, а в роли синтезирующего и разрешающего начала выступил сам поэт. Он же снял и многовековую дистанцию времени. «...Поэт,– писал в 1820 году критик «Невского зрителя»,– очень часто любит говорить о себе и обращаться то к красавицам, то к наставникам, то к артистам и проч.– вот что замедляет и останавливает шествие его действия и препятствует единству. Я желал бы быть очарован, забыться – и в то же время Поэт останавливает мои восторги, и – вместо древности – я узнаю, что живу в настоящие времена: несообразность делается видимою...»
Критик видит нарушение того, что обеспечивало единство старой поэмы, но не видит единства нового, которое именно поэт-то и обеспечивает. Вообще ошибки современной критики – а поэма «Руслан и Людмила» вызвала столько критических статей, сколько не вызывало еще ни одно произведение русской литературы до нее,– почти безоговорочно указывают именно на те стороны поэмы, которые прежде всего и определяли ее новизну и необычность.
Юность определила и легкое (при невероятно тяжелом, напряженном и продолжительном – около 3 лет – поэтическом труде) свободное отношение к роману, к сказке, к преданию, к истории. Но то, что все это предстало без отделяющего пиетета, как бы домашним образом (древнее славянство, героический Киев, святой (!) Владимир), означало не снижение, а приятие. История и легенда впервые юным Пушкиным были освоены так внутренне, столь непосредственно и задушевно. Недаром на основе юного пушкинского «Руслана» возникла подлинно национальная опера Глинки.
Наконец, именно пушкинская юность определила характер смеха в поэме. О нем немало написано и с неизменным употреблением слова «ирония». Между тем смех в поэме отнюдь не ироничен. Ирония предполагает некую скрытность, она язвительна и оговорочна. Юмор поэмы открыт и безусловен. Поэт может посмеяться над Русланом, но отнюдь не иронизирует над ним. И самое комическое сравнение: богатырь, рыцарь – «султан курятника спесивый», то есть петух,– ничуть не мешает в поэме богатырю быть подлинным богатырем. И не есть ли это одновременно проникновение в самую глубь народно-поэтического сознания, не боящегося никогда посмеяться и над славнейшими своими богатырями? Ирония отвергает, пушкинский юмор означает приятие. Ирония незавершенна, неопределенна и недостаточна. Шутка Пушкина при всем изяществе пряма, откровенна, внутренне свободна и потому же не иерархична. Людмила, писал критик «Сына отечества» о героине поэмы, «веселонравна, резва, верна любви своей; нежна и сильна душа ее, непорочно сердце. Жаль только, что автор некстати шутит над ее чувствительностью... Богданович иначе поступил в подобном случае».
Критика, за немногими исключениями, не понимала и не принимала не смех как таковой, не шутку, не юмор, а именно свободную, нескованную природу пушкинского смеха, шутки, юмора, впервые заявленную в русской литературе «Русланом и Людмилой».
Таким образом, с юностью Пушкина и благодаря юности Пушкина русская литература выходила к важнейшим художественным открытиям. По мере работы Пушкина над поэмой углублялся ее историзм, но не настолько, чтобы разрушить сказочный, фантастический мир «Руслана и Людмилы», оставшийся во всей цельности и непосредственности ее юношеского выражения. Это подчеркнуто в самой поэме и «зрелостью» эпического пролога 1828 года и «молодостью» лирического эпилога года 1820-го. Литературная юность кончилась, пришла молодость. Эпилогом Пушкин засвидетельствовал эту переходность:
Она прошла, пора стихов,
Пора любви, веселых снов,
Пора сердечных вдохновений!
Восторгов краткий день протек -
И скрылась от меня навек
Богиня тихих песнопений...
Действительно, уже никогда более у поэта не будет столь легкой, столь свободной игры юных сил.
Переход к молодости у Пушкина отмечен новым кризисом, психологической формой которого было разочарование, литературной – романтизм. Разочарование в любви, в дружбе, в свете, разочарование, если не вызванное, то сопровожденное политической ссылкой, в которую Пушкин отправился летом 1820 года.
Молодость
Романтизм, «байронизм» Пушкина не был только литературным явлением. Любопытно, что причину появления в «Бахчисарайском фонтане» вроде бы предельно романтических стихов сам Пушкин увидит именно в молодости:
«Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю – и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг
Бледнеет etc.
Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч.»
Повзрослев, Пушкин даст совершенно иное изображение сильнейшего движения души Алеко в «Цыганах», а Белинский так его прокомментирует: «Убитая чета уже в земле.
...Когда же их зарыли
Последней горстию земной,
Он молча, медленно склонился
И с камня на траву свалился.
Какое простое и сильное в благородной простоте своей изображение самой лютой, самой безотрадной муки! Как хороши в нем два последние стиха, на которые так нападали критики того времени, как на стихи вялые и прозаические! Где-то было даже напечатано, что раз Пушкин имел горячий спор с кем-то из своих друзей за эти два стиха и, наконец, вскричал: Я должен был так выразиться; я не мог иначе выразиться!Черта, обличающая великого художника!»
Романтизм соответствовал естественной романтической поре становления молодого человека, Пушкина. Потому же он оказался только этапом и в самом его литературном развитии, сопроводил его молодость и ушел вместе с нею: романтизм молодого Пушкина – не романтизм молодого Шиллера, не романтизм зрелого Байрона, не романтизм старого Гюго. Он никогда не составлял его сути. Недаром позднее Пушкин скажет о Байроне: «Постепенности в нем не было». Давно замечено, что вроде бы такой ультраромантической формуле из первого пушкинского «байронического» южного стихотворения, как «На море синее вечерний пал туман», можно легко вернуть ее глубинный народный смысл и вид: «Уж как пал туман на сине море». Так продолжала жить исконно русская суть в Пушкине, пребывавшем в романтической, байронической поре своего развития.
Молодость естественно и неизбежно выводила Пушкина к романтизму, однако тот факт, что это была молодость именно пушкинская, определил ряд важнейших открытий в истории не только русского, но и мирового романтизма. Пушкин не случайно обращается именно к Байрону, то есть к сути сутей романтического мироощущения. Белинский позднее заметил, что Байрон владел Пушкиным не как образец для подражания, а как явление. Может быть, следует уточнить: сначала в известной мере Байрон владел Пушкиным как образец для подражания, но лишь с тем, чтобы Пушкин вполне овладел Байроном как явлением. И овладел, не выходя за рамки романтизма, внутри его самого, не нарушая правил романтической игры.
Романтизм Пушкина вырастал из жизни: романтика молодости как нормального этапа в жизни человека была у Пушкина многосторонне поддержана внешними обстоятельствами. Это и судьба политического ссыльного, скитальца, так естественно взывавшая к поискам романтических соответствий у байроновского Чайлд-Гарольда. Это и романтика самой южной, «удовлетворяющей воображение», как сказал тогда же сам поэт, природы (море, Крым, Кавказ), это и романтика экзотических характеров и целых национальностей (Молдавия с ее цыганами, Кавказ с его борющимися за свободу горцами, татарский Крым), наконец, романтика социально-политического движения декабристов, особенно декабристов-южан.
«Самая его жизнь совершенно русская,– писал Гоголь, чутко уловивший связь времени в общем развитии и становлении Пушкина, молодого поэта и человека, со временем и местом его пребывания на юге.– Тот же разгул и раздолье, к которому иногда, позабывшись, стремится русский и которое всегда нравится свежей русской молодежи, отразились на его первобытных годах вступления в свет. Судьба, как нарочно, забросила его туда, где границы России отличаются резкою, величавой характерностью, где гладкая неизмеримость России перерывается подоблачными горами и обвевается югом. Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин, поразил его; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. Его пленила вольная поэтическая жизнь дерзких горцев, их схватки, их быстрые, неотразимые набеги; и с этих пор кисть его приобрела тот широкий размах, ту быстроту и смелость, которая так дивила и поражала только что начинавшую читать Россию... Может быть, оттого и в своих творениях он жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга. На них он невольно означил всю силу свою, и оттого произведения его, напитанные Кавказом, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имели чудную, магическую силу: им изумлялись даже те, которые не имели столько вкуса и развития душевных способностей, чтобы быть в силах понимать его. Смелое более всего доступно, сильнее и просторнее раздвигает душу, а особливо юности, которая все еще жаждет одного необыкновенного».
Можно было бы сказать, что и героем времени был романтик. Уже о герое первой пушкинской поэмы «Кавказский пленник» Белинский сказал: «Пленник – это герой того времени...Молодые люди особенно были восхищены им, потому что каждый видел в нем, более или менее, свое собственное отражение... И Пушкин был сам этим пленником, но только на ту пору, пока писал его». Потому же герои времени, романтики, молодежь так восторженно встретили пушкинскую поэму. Впрочем, более проницательная критика и вскоре последовавшая авторская самокритика отметили противоречивость героя как невыдержанность характера.
Действительно, глядя от зрелого Пушкина, автора «Цыган» и «Онегина», особенно ясно видишь, сколь характер еще не прояснен и суммарен, лишь намечен, приметы сколь разных психологических, явлений в нем совмещены: если обратиться к позднейшему роману,– Онегин и Ленский – «волна и камень, стихи и проза, лед и пламень», по пушкинскому об этих героях слову. Впрочем, это даже не столько два разных психологических явления, сколько два разных этапа в развитии одного явления, две его стадии, две фазы его становления. Но для того, чтобы их развести, противопоставить и вполне оценить, необходим был рубеж в эволюции самого поэта. Сам Пушкин должен был пройти искус подлинного разочарования и сомнения.
Был кризис перехода от детства к юности, был кризис перехода от юности к молодости, приближался третий – и один из самых драматичных – кризис перехода от молодости к зрелости. Впрочем, взгляд на «Кавказского пленника», брошенный от зрелого пушкинского творчества, позволяет увидеть не только незрелость, молодость этого произведения, но и залоги будущего развития, грядущей зрелости. Они в сравнительной неоднозначности героя романтической поэмы, который, по сути, уже не укладывается в ее рамки. Традиционный романтический герой байроновского типа определялся господствующим и даже всепоглощающим субъективным началом. В пушкинском герое такое начало есть («в нем есть стихи моего сердца»,– заметил сам поэт), но оно не оказалось единственным: «Характер Пленника неудачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения». Изображение героев в романтической поэме у Пушкина уже заключало в себе возможность его изображения в романе. «Характер главного лица (а действующих лиц – всего-то их двое) приличен более роману, нежели поэме»,– писал Пушкин в наброске письма Н.И.Гнедичу в 1822 году, то есть в пору, когда работа над поэмой была далеко позади и приближалась работа над романом. Разрушается в поэме и единодержавие героя и не только потому, что подлинно героичной оказывается не мужчина – пленник, а черкешенка – женщина.
Уже здесь то, что сам Пушкин назвал верностью «местных красок», во многом и определило характер отмеченного четкой печатью историзма эпилога и позволило избежать руссоистских иллюзий и идеализации первобытной вольности при всем внушаемом ею сочувствии.
В целом же вольнолюбивые взгляды юного Пушкина получили у Пушкина молодого продолжение и углубление.
Конечно, вся атмосфера декабристского юга, в которой оказался Пушкин, этому помогала. Тем не менее хронология и характер развития свидетельствуют о самостоятельности Пушкина.
Во-первых, следует говорить об усиливающемся с каждым годом историзме. Недаром к 1822 году относится и первая собственно историческая его работа «Заметки по русской истории 18 века» (название условно – введение в записки, которые были Пушкиным позднее уничтожены). В связи с углублением историзма чувство свободы и вольности впервые, по сути, начинает объединяться с идеей народа, взятого уже отнюдь не в абстрактном его виде: ведь «скованные галлы» в «Вольности» не более французы, чем «измученные рабы» в «Деревне» – русские. В стихотворении 1822 года «Узник» нет народа, но выраженную в нем тоску о воле народное сознание приняло как свою и закрепило это стихотворение в виде народной песни. Симптоматична и попытка создания «Братьев-разбойников». События 1823 года, в частности утверждавшаяся в Европе реакция, помогли осознать драматическое противоречие: разобщение начал свободы и народной жизни. Соединяясь с настроениями глубокой внутренней разочарованности, оно рождало универсальное отрицание – демонизм. Именно такое отрицание представляли стихи 1823-го года «Бывало, в сладком ослепленье», тематически они продолжатся и окончательно оформятся в стихотворении «Свободы сеятель пустынный»:
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
«Демонические» ноты впервые прозвучали у Пушкина еще осенью 1822 года в письме брату Льву: «Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь. С самого начала думай о них всё самое плохое, что только можно вообразить: ты не слишком сильно ошибешься. Не суди о людях по собственному сердцу, которое, я уверен, благородно и отзывчиво и, сверх того, еще молодо; презирай их...» и т.д.
Окончательную формулу отрицания даст стихотворение 1823 года, так и названное – «Демон»:
...Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.
На переходе от молодости к зрелости Пушкин переживал демонизм, переболел им. Позднее он укажет на «Демона» именно как на естественную и неизбежную примету такой переходности и расставания с молодостью: «В лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противуречия существенности рождают в нем сомнения, чувство мучительное, но не продолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические предрассудки души». Но, переживая демонизм как состояние возрастное и потому «непродолжительное», Пушкин вместе с тем открывал «в сжатой картине» совершенно новую социально-философскую сферу для русской литературы, а через два года, указывая на «Фауста», смело соотнес свое стихотворение и с литературой мировой:








