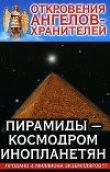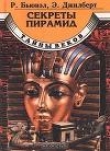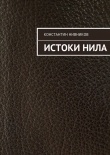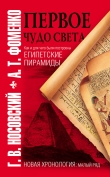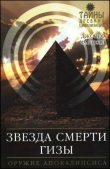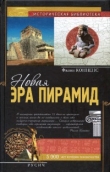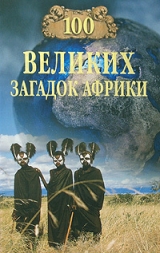
Текст книги "100 великих загадок Африки"
Автор книги: Николай Непомнящий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Не только Плиний, но и другие древние авторы приводят названия племен, живших на побережье Марокко: Canarii, Perois, Pharusiens. Что касается слова «канарии», то ученые выяснили, что Ganar – это родовое имя, данное западноафриканским народом волоф берберским племенам, жившим к северу от реки Сенегал. Именно эти племена и могли дать имя островам.
Ганнон плывет к Колеснице Богов
Древние мореплаватели… Сколько загадок оставили они людям! История ранних плаваний в Атлантике намного туманнее, чем данные о первопроходцах Индийского океана. Из-за отсутствия каких-либо достоверных сведений честь открытия западного побережья Африки целиком приписывают португальцам, так же как испанцам – славу сомнительного «открытия» и покорения Нового Света. Но так ли все было на самом деле? Неужели за века и тысячелетия жизни развития цивилизации Средиземноморья не нашлось смельчаков, отважившихся проникнуть в неведомое? Конечно же, такие люди были, но мы располагаем только обрывками сведений…
«Постановили карфагеняне, чтобы Ганнон плыл за Геракловы столбы и основывал города ливиофиникиян. И он отплыл, ведя шестьдесят пентеконтер (пятидесятивесельных судов. – Н.Н.)и множество мужчин и женщин числом в тридцать тысяч, и везя хлеб и другие припасы».

Карфагенский корабль
Это первые строки из документа на греческом языке известного как «Перипл Ганнона». Так начинается невероятный на первый взгляд рассказ о путешествии карфагенского флотоводца Ганнона к «Колеснице богов». Но почему на греческом языке? До сих пор это остается загадкой. Известно лишь, что запись датируется примерно 350–300 гг. до н. э. и сделана спустя два века после плавания. Полагают также, что текст не имеет конца, да и в середине не хватает отдельных кусков.
О Ганноне упоминали Помпоний Мела, Плиний и другие авторы. Но у Геродота нет о нем ни единого упоминания. Некоторым ученым это кажется странным. «Выходит, что великий географ и историк древности ничего не знал о такой большой экспедиции? В таком случае ее вовсе не было!» Но вспомним, что греческий историк вообще очень мало писал о Карфагене, фокусируя внимание на Персии. Может быть, он не слышал о Ганноне. Во всяком случае, большинство исследователей пришли к единому мнению: флотилия отплыла от берегов Карфагена около 525 г. до н. э., но не позже, так как именно в 525 г. персы захватили Египет и их нашествие угрожало карфагенской державе.
Кое-кто из специалистов даже не хочет выпустить Ганнона из гавани, полагая, что карфагенянам было не до плавания, что у них были другие проблемы, связанные с военными действиями в Сицилии, где в 480 г. до н. э. полегло трехсоттысячное карфагенское войско.
Однако эти исследователи забывают, что экспедиция состоялась задолго до 480 г. до н. э., когда переселенческая политика была в самом разгаре. (Отметим, что Плиний Старший вообще утверждал, будто Ганнон отплыл из Гадеса в Аравию вокруг Африки. Может быть, римский ученый перепутал это плавание с предыдущим, осуществленным по приказу фараона Нехо?)
«Когда, плывя, мы миновали Столбы и за ними проплыли двухдневный морской путь, мы основали первый город, который назвали Фимиатирион, около него имеется большая равнина. Плывя оттуда на запад, мы соединились у Солунта, ливийского мыса, густо поросшего деревьями. Соорудив там храм Посейдона, мы снова двигались на восток в течение полудня, пока не прибыли в залив, густо поросший высоким тростником; там было много слонов и других пасущихся животных».
Далее следует рассказ, который дает представление о первых днях плавания экспедиции. Многие названия населенных пунктов и другие географические наименования, данные древними, не совпадают с современными, и это настораживает некоторых специалистов. Однако французский археолог и историк Ж. Марси, долго проработавший в марокканских архивах, изучив старые описания берегов и карты северо-западного побережья Африки, выяснил, что раньше названия многих населенных пунктов совпадали с названиями, приводимыми Ганноном, они изменились лишь в последние десятилетия. Марси буквально обшарил все марокканское побережье, и большое число неясностей в рассказе Ганнона прояснилось. Результаты своих исследований ученый изложил в статье, опубликованной в марокканском журнале «Гесперис» в 1935 г.
…Все дальше на юг уходила экспедиция. Близ современного Рабата Ганнон взял на борт переводчиков из числа живших там финикийцев и местных жителей. «А оттуда мы поплыли на юг двенадцать дней, проходя вдоль страны, которую целиком населяли эфиопы, убегавшие от нас и не остававшиеся; говорили же они непонятно даже для ликситов (взятых в качестве переводчиков. – Н.Н.), бывших с нами… Плывя от них в течение двух дней, мы оказались на беспредельном морском просторе, против которого на берегу была равнина; там мы видели огни, приносимые отовсюду через определенные промежутки времени; (их было) то больше, то меньше».
Большинство исследователей «Перипла Ганнона» считают, что берег, о котором упоминает Ганнон, – это бухта Бижагош у гвинейских берегов, а огни – костры кочевников. Такие огни (а может быть, это были лесные пожары?) видели много веков спустя европейские путешественники.
«Запасшись водой, мы плыли оттуда вперед вдоль берега пять дней, пока не прибыли в большой залив, который, как сказали переводчики, называется Западным Рогом. В этом заливе есть большой остров, сойдя на который мы ничего не видели, кроме леса, а ночью мы видели много зажигавшихся огней, и игру двух флейт слышали мы, кимвалов и тимпанов бряцание и крик великий. Страх охватил нас, и прорицатели приказали покинуть остров. Быстро отплыв, мы прошли мимо страны горящей, заполненной благовониями; огромные огненные потоки стекают с нее в море».
До сих пор, то есть до «потоков, стекающих с нее в море», текст рассказа более или менее понятен, и наблюдения участников экспедиции Ганнона можно сопоставить с данными европейских путешественников начала XIX в. Вот что писал шотландский врач Мунго Парк, странствовавший по Западной Африке в самом начале XIX в.: «Сжигание травы в стране мандинго приобретает огромные масштабы. Ночью, насколько хватает глаз, видны равнины и горы, охваченные огнем. Огонь отражается даже на небе, делая небеса похожими на пламя. Днем повсюду видны столбы дыма. Звери, птицы, ящерицы бегут от удушья. Но выжженные места скоро зарастают свежей зеленью, местность становится приятной и здоровой…» Подобные огни при сильном ветре могли показаться Ганнону потоками, стекавшими в море. Однако вот что было дальше.
«Но и оттуда, испугавшись, мы быстро отплыли. Проведя в пути четыре дня, ночью мы увидели землю, заполненную огнем; в середине же был некий огромный костер, достигавший, казалось, звезд. Днем оказалось, что это большая гора, называемая Колесницей Богов». Куда же заплыл Ганнон?
На 4070 метров возвышается над Гвинейским заливом гора Камерун. Долгое время считалось, что ее вулкан потух, но вот в 1909 г. он выбросил в небо огненный столб. Извержение повторилось в 1922-м и 1925 гг. Поразителен тот факт, что картина извержения 1922 г., наблюдавшаяся учеными (в географических журналах того времени публиковались снимки и подробные научные отчеты), совпала с описанием Ганнона.
«В глубине залива есть остров… населенный дикими людьми. Очень много было женщин, тело которых поросло шерстью; переводчики называли их гориллами. Преследуя, мы не смогли захватить мужчин, все они убежали, карабкаясь по кручам и защищаясь камнями; трех же женщин мы захватили; они кусали и царапали тех, кто их вел, и не хотели идти за ними. Однако, убив, мы освежевали их и шкуры доставили в Карфаген».
Кого же имел в виду Ганнон, говоря о гориллах? Если абстрагироваться от современного значения этого слова, то оно могло означать когда-то и человека и обезьяну. Голландский врач Я. Бонтиус, впервые обнаружив в середине XVI в. орангутанга в лесах острова Борнео, назвал его «диким человеком». А всемирно известный Карл Линней классифицировал орангутанга как «лесного человека, второго вида человека, также именуемого ночным человеком». Он же считал шимпанзе ближайшими родственниками пигмеев. А это было через две тысячи лет после Ганнона!
Сильная волосатость, упомянутая карфагенским флотоводцем, наводит все же на мысль об обезьянах. Выдающийся немецкий зоолог А. Брем пишет, что название «горилла» произошло, вероятно, от местного африканского слова «нгуяла», которым, обозначались крупные обезьяны; это слово распространено только в Гане, но не севернее. И если бы карфагеняне доплыли только до Гвинеи, как утверждают некоторые исследователи, то не услышали бы там этого слова ни в применении к диким племенам, ни по отношению к человекообразным обезьянам, ибо ни горилл, ни этого слова там не встречается, резонно замечает немецкий историк фон Штехов.
Значит, экспедиция Ганнона все же добралась до Камеруна? Считать это полностью доказанным фактом (как, впрочем, и отрицать его) пока нельзя. Интересно то, что местные жители и сегодня называют гору Камерун «Колесницей Богов».
Скрупулезные ученые, не полагаясь на свой опыт, обратились за помощью к бывалому моряку – немецкому капитану Меру. Ему дали ознакомиться с отчетом Ганнона, и Мер заявил: «Я плаваю в этих местах сорок три года и досконально знаю западноафриканское побережье. Экспедиция Ганнона наверняка состоялась и успешно проходила хотя бы по той причине, что с марта по декабрь в этой части Атлантики дуют благоприятные северо-западные ветры и кораблям помогает течение…»
Кое-кто из тех, кто трактует «Перипл Ганнона», все же сомневается, что карфагенянин доплыл до Камеруна, и полагает, что «Колесницей Богов» могла стать Какулима в Сьерра-Леоне. Но название «Колесница Богов» говорит явно не в пользу Какулимы – скромного «однотысячника». Гора высотой в 1020 метров наверняка не могла заслужить у древних подобного титула. Для того чтобы там жили боги, она должна была уходить под облака.
Совсем недавно внимание специалистов привлек один на первый взгляд незначительный момент в повествовании. Ганнон постоянно употребляет в тексте местные названия. Откуда он их взял? У местных жителей? Но ведь он почти не выходил на берег! У переводчиков, взятых на севере? Но откуда те, в свою очередь, могли знать названия далеких земель на юге? Может быть, Ганнон знал об этих районах Африки больше, чем принято считать? Ведь мы уже убедились, что за сотню лет до него соотечественники карфагенского морехода – финикийцы – могли совершить плавание вокруг Африки. Сведения, добытые ими, могли сохраниться в царских архивах и библиотеках, и, недоступные простым смертным, они могли быть известны Ганнону. Но это только предположение, ответа на все эти вопросы пока нет.
Плавание Ганнона было одним из крупнейших предприятий древности, в подлинности которого большинство ученых уже не сомневается.
Но его путешествие не принесло пользу карфагенской державе. Страна не нуждалась в столь далеких землях. Последующие печальные для Карфагена события заставили людей забыть о плавании Ганнона.
«Черные и белые» тайны
Интересная закономерность: эфиопами греки и римляне называли представителей нескольких физических типов темнокожих людей, населявших различные части Африки. Сегодняшние ученые выяснили, что все они – очень разные, однако для греков и римлян все тем не менее были эфиопами.
Значительную часть включенных в это обозначение народов нынешние антропологи приписывают к негроидному типу. На самом же деле негроидный тип и в классической литературе, и в искусстве у греков и римлян был особенно частым. Эфиоп, особенно негроидный тип, был неким эталоном, с которым в древности сравнивали всех цветных. Эфиопская чернота вошла в поговорку. Эфиоп вместе со скифом были любимыми типажами, иллюстрировавшими физическое отличие греков от римлян.

Древнегреческая курильница в форме головы эфиопа
Самый первый греческий поэт слышал об эфиопах. Более того, Гомер не только упоминал о них, но он даже описывает хорошо известного глашатая Одиссея как чернокожего, с шерстью вместо волос. [1]1
Некоторые исследователи, особенно криптозоологи, склонны считать, что у Одиссея в команде был Еврибат, «дикий человек», говоря сегодняшним языком, реликтовый гоминоид или потомок его – «производное» от брака гоминоида с обычной гречанкой.
[Закрыть]Не установлено, правда, были ли эфиопы Гомера африканцами и являлся ли глашатай Одиссея эфиопом.
Эфиопы Гомера – это два удаленных друг от друга народа, находящихся дальше всех, обитающие «где-то», одни – где солнце встает, а другие – где оно садится. Их земли омываются рекой Океан. Менелай, скитаясь по Кипру, Финикии и Египту, встречая другие народы, впервые упомянул об эфиопах и пути, которым он достиг Эфиопии.
Что касается места обитания эфиопов Гомера, то древнее определение не точно, а современные различаются. По одной теории, гомеровскими эфиопами, обитающими там, где всходит солнце, были негры, заселявшие области возле Египта, а те, что обитали там, где светило заходит, жили вблизи Геркулесовых столбов. Другие ученые идентифицируют восточных как негров с побережья Сомали, а западных – как обитателей Судана, чьи земли простирались от долины Нила на запад. По еще одной версии, гомеровских восточных эфиопов помещают около Красного моря, а западных немного к западу от Верхнего Нила.
Эсхил первым из греков поместил эфиопов определенно в Африке, где воды омывают солнце, где течет эфиопская река, где Нил низвергает свои воды с гор Библа. И это совсем не удивительно, что Эсхил расположил эфиопов в Африке. У египетского фараона Псамметиха I служили ионийские и карийские наемники. К VI в. до н. э. греки уже прочно обосновались в Навкратисе. Находясь там, греческие обитатели этого города могли получать глубокие знания об этой стране и ее народах, и греки явно интересовались чернокожими, что нашло отражение в их искусстве в VI в. до н. э. Изображение африканца, найденное в Навкратисе и датируемое V в. до н. э., свидетельствует, что греки в Египте в то время были хорошо знакомы с негроидным типом.
Среди греческих писателей, посетивших Африку, Геродот – первый, к кому мы можем обратиться за обстоятельным отчетом об эфиопах. Он поднялся по Нилу до Элефантины и дополнил свои личные наблюдения беседами с людьми, которые знали об Эфиопии. Но его географическая осведомленность, так же, как и других авторов после него, оставляет желать лучшего. Однако составленные им описания чернокожих людей, живших в разных частях Африки, оказали большое влияние на греков, изготавливавших изображения эфиопов, причем не только в его дни, но и много позже.
Хотя Геродот коротко упоминает и об «азиатских эфиопах», ясно, что в основном он писал об африканских, «гуще других покрытых шерстью», которых, вместе с ливийцами на севере, он классифицировал как туземцев Ливии. Геродот очень подробно написал об эфиопах, которые обитали к югу и юго-востоку от Элефантины и где, как он отмечал, начинались их земли. Информация эта включает следующее: 1) столица всей Эфиопии – большой город Мероэ, расположенный на расстоянии примерно двухмесячного путешествия от Элефантины, центр религии, который посылает армии согласно воле своих богов; 2) вдоль Нила на расстоянии примерно двухмесячного путешествия к юго-западу от Мероэ живут эфиопы, перенявшие привычки и обычаи двухсот сорока тысяч египетских дезертиров, называющихся «асмах», которые переселились и заняли эту область во времена правления Псамметиха I; 3) долговечные эфиопы, самые рослые и наиболее привлекательные из всех, против которых персидский царь Камбиз посылал экспедицию; к югу от них находится море, и обитают они на самом краю света; 4) пещерные эфиопы, чрезвычайно юркие, питаются змеями и ящерицами, а их речь похожа на писк летучих мышей, совершенно ни на кого не похожи, живут к югу от земли гарамантов.
Геродот сообщает, что эфиопы есть в Африке где-то еще. Хотя где именно находится эта область, неясно: его сообщение о низкорослых чернокожих, у которых побывала экспедиция насамонов, указывает на район за пустыней, где-то в Центральной Африке. Обнаруженные персом Сатаспом во время путешествия к югу по западному побережью Африки низкорослые существа, одевающиеся в пальмовые листья, о чем пишет Геродот, представляются негритянскими племенами, родственными пигмеям, живущим в Сенегале или, возможно, Гвинее. [2]2
Сегодня область их обитания ограничивается территорией Заира.
[Закрыть]
Короче говоря, Геродот, хотя и с досадными географическими неточностями, предоставляет сведения об эфиопах, обитающих в различных районах к югу от Египта и, возможно, даже в Центральной и Западной Африке. В одном месте он говорит о шерсти у них вместо волос, в другом – об их черной коже. Ясно одно – уже в V в. до н. э. эфиопы, обитающие к югу от Египта, были не просто диковинными персонажами в произведениях древних авторов, но и африканской реальностью.
Хотя у Геродота можно найти больше подробностей об этих южных эфиопах, чем в каком-либо другом источнике той эпохи, он мало пишет о западных эфиопах. Вспомним – в его отчете о плавании вокруг Африки, предпринятом при фараоне Нехо, не содержится упоминаний об увиденных народах, а его описание черных обитателей Западной Африки, с которыми встретился Сатасп, скудно. Не очень-то подробен и отчет Ганнона о своей экспедиции к «Колеснице Богов».
На остров Керне, упоминаемый Ганноном, часто ссылались в IV в. до н. э. и позже как на самый заселенный эфиопами пункт. В «Перипле» Скилака (IV в. до н. э.), например, Керне описывается как место торговли между карфагенянами и эфиопами противоположного побережья, которые обменивали шкуры оленей, львов и леопардов, шкуры и бивни слонов и вино на духи, египетский камень и афинскую посуду. Эти эфиопы использовали слоновую кость для изготовления чашек и браслетов и для украшения жилищ. Когда Скилак описывает этих западных эфиопов как самых рослых и привлекательных, он, вне всякого сомнения, следует традиции Геродота. Палефат, также писавший в IV в. до н. э., сообщает, что обитателями Керне были эфиопы, которые заселяли этот остров, находящийся за Геркулесовыми столбами. Эфор отмечает, что эфиопы заполонили Ливию вплоть до Атласских гор и что одни там и остались, а другие заселили значительную часть побережья.
Хотя сам Геродот и не продвинулся дальше Элефантины, некоторым из более поздних авторов довелось посетить саму Эфиопию. Говорили, например, что много путешествовавший Демокрит побывал там. Плиний утверждает, что Симонид Младший жил в Эфиопии пять лет, пока работал в Мероэ, и что некий Далион ходил на своем корабле, вероятно, в царствование Птолемея II далеко на юг Мероэ.
К сожалению, мы мало что знаем о сделанных тогда открытиях, помимо нескольких упоминаний, в основном у Плиния Старшего. Не сохранилось работ, озаглавленных «Эфиопика», которые, как говорят, были написаны Кароном Лампсакским (469–400 г. до н. э.), Бионом Солийским (первая половина III в. до н. э.), Филоном (290 или 200 г. до н. э.) и Марцеллом (годы жизни неизвестны). Среди них более известен Бион, поскольку мы знаем о нем не только от Плиния, но также благодаря Варрону, Афинею и Диогену Лаэртскому.
Военные походы сталкивали римлян с эфиопами в разных частях Африки в различные периоды их истории. Как и греки, римляне знали эфиопов, живущих южнее Египта, очень хорошо. Со времен Августа (63 г. до н. э. – 14 г. н. э.) и до VI в. необходимость защиты границ приводила к военным операциям и дипломатическим акциям, в которые вовлекались чернокожие соседи римлян к югу от Египта. Сведения об эфиопах поступали в Рим от солдат, несших службу на военных постах в Додекасхойне, который римляне заняли после соглашения с Кандакой, матерью местного царька.
Нельзя не упомянуть и о распространении римских монет в этих областях. Среди находок, изученных М. Чарлзвортом и Т. Баттри, три монеты были обнаружены на восточном побережье, две в Судане, одна в Бельгийском Конго, одна в Кении и одна в Уганде. Самая древняя из них – серебряный денарий Траяна из Конго, одна монета – сестерций времен Александра Севера, а другие относятся к концу III – началу IV в. Большая часть этих монет, по мнению ученых, подтверждает тот факт, что жители империи время от времени путешествовали на юг от экватора в конце III и в IV в.
Римляне, более активные, чем греки, в различных частях Северной Африки, развили более тесные контакты с эфиопами, жившими к западу от Египта. Существенное свидетельство тому – присутствие в римский период негроидов в городах на северном побережье Африки или недалеко от него. Расовые черты некоторых из этих людей запечатлены в ряде художественных изделий из городов Лептис-Магна, Гадрумет, Фисдрус, Карфаген, Гиппон, Тубурбон, Майус и Тамугади. Не боялись римляне и углубляться в отдаленные области. Ближе к концу I в. Септимий Флакк, легат императора Августа, зашел на эфиопскую территорию на расстояние трехмесячного похода от земли гарамантов. Вторая экспедиция против эфиопов под командой некоего Юлия Маттерна отправилась из Лептис-Магны, достигла сначала Гарамы, а затем продвинулась до области Агисимба. Некоторые ученые полагают, что она достигла суданской саванны, ибо там, по описаниям, во множестве водились носороги.
Несколько эфиопских племен, обнаруженных Плинием и Птолемеем в различных частях Северо-Западной Африки, – дополнительное свидетельство тому, что римляне имели больше контактов с эфиопами в этой части Африки, чем греки. Правда, они часто путали эти народы и племена. Противоречивые сообщения, часто об одном и том же народе, поставили в тупик даже такого видного авторитетного последователя североафриканских этносов античности, как Ж. Десанж.
Что же касается народов, населяющих северо-западную часть Африки, то известные нам записки говорят, по-видимому, о смешанных народах. Знакомые нам уже гараманты, например, обозначаются некоторыми авторами как эфиопы; другие же отличаются от последних. Иногда они описываются как «темные». Третьи утверждают, что гараманты не были эфиопами. Антропологи классифицировали остатки скелетов из Феццана как смесь «евроафриканцев» и «негро-евроафриканцев». Десанж справедливо полагает, что гараманты, как и некоторые другие народы Северо-Западной Африки, были, возможно, смешанным этносом.
…Все изложенное выше иллюстрирует лишь некоторые примеры греко-римских исследований, отражающих их знакомство с тогдашней Африкой. Далее, в этих классических комментариях мы видим замечательное отсутствие предубежденности. Греки не выражают изумления по поводу того, что эфиопы – люди, которых они иногда описывают как черных и темнокожих, захватили Египет или построили большие храмы. Они традиционно с уважением говорят о цивилизациях Напаты и Мероэ в периоды, когда Египет «скатывался с горы к длительному и бесславному концу».
Еще в эпоху Древнего царства (конец IV– начало III тысячелетий до н. э.) фараоны набирали на службу солдат, которые, по-видимому, пользовались большим уважением у египтян. Служба в египетской армии и полиции давала им возможность достигать высоких постов. Среди восьмидесяти деревянных фигурок солдат, найденных рядом с гробницей военного правителя Ассиута, были сорок лучников с почти черной кожей. На египетских гробницах сохранились также изображения нубийцев, которые в разные времена служили у египтян. История о царе Сесострисе в Европе и его нескольких солдатах, которые поселились на реке Фасис, связывают с сообщением Геродота о черных колхах с шерстью вместо волос и считают доказательством того, что в отрядах египтянина Сесостриса имелись эфиопы. Возможно, именно из Египта пришли те чернокожие, которые изображены на минойских фресках и которые прибыли на Крит и служили в иностранных наемных войсках.
Если чернокожий с шерстью вместо волос, Еврибат, был эфиопом или негром (а такую возможность не следует исключать), упоминание Гомера об эфиопах за пределами Африки относится к глашатаю с Итаки, служившему среди греков под Троей. Этот Еврибат сопровождал Одиссея в его делегации к Ахиллу, был товарищем Одиссея, и тот уважал его гораздо больше любого другого из своих спутников, поскольку Еврибат обладал умом, равным его собственному! Каким образом Еврибат попал на Итаку, неизвестно, но скорее всего через Египет.
Эфиопские воины были хорошо известны в Египте при Птолемеях. Последние вели военные операции в Эфиопии, побуждаемые в большей степени торговыми интересами, а также желанием иметь доступ прежде всего к золоту и слонам на эфиопской территории. Золото имелось в Нубийской пустыне к югу от Египта и в восточной пустыне, лежащей между дорогами из Коптоса и Аполлонополиса в Беренику на Красном море.
Мероэ имело важное значение не только как источник получения золота и железа, но и как перевалочный центр, через который шли товары из Центральной Африки. Восточная Африка и особенно область сегодняшнего Сомали были поставщиками слонов, которых соперники Птолемеев, Селевкиды, получали из Индии.
Зоологические интересы и нужда в слонах для военных целей также становились побудительными мотивами для походов Птолемеев в Эфиопию, особенно в Восточную Африку. Птолемей II обследовал побережье Красного моря, установил посты для охоты на слонов и основал гавани для перевозки их в Египет, где толстокожих обучали, чтобы использовать в боевых действиях.
Да, фараоны охотно использовали своих южных соседей для службы в армии и полиции. Поэтому привлечение их в качестве наемников было, видимо, традицией.
Эфиопы и нубийцы, по словам Силия Италика, «обожженные бешеным солнечным жаром», находились среди войск, собранных Ганнибалом. Это замечание, пришедшее из I в., основывается на прочно установившемся обычае еще при Ганнибале (246–183 гг. до н. э.) набирать черных воинов и, кроме того, подтверждается другим свидетельством: на верхней, лицевой стороне бронзовых монет, связанных со вторжением Ганнибала в Италию, видна голова африканца, чьи расовые признаки выдают широкий нос, толстые губы и курчавые волосы. Э. Бэбелон предположил, что эти монеты, которые на реверсе имеют изображение слона, созданы под впечатлением от слонов Ганнибала, игравших важную роль в Итальянской кампании, и их погонщиков-негров – впечатление, сходное с тем, которое в прежние времена произвел Пирр со своими слонами.
Арриан утверждает, что в индийских и эфиопских армиях были боевые слоны до того, как они появились у македонцев и как их стали использовать карфагеняне в военных целях. Боевые слоны – одни из них управляемые при помощи канатов – изображены на барельефе мероитского храма, построенного в последней четверти III в. в Мусавварат-эс-Суфре, примерно в 125 километрах к северо-востоку от Хартума и 30 километрах от берега Нила. На самом деле частое присутствие слона на мероитских скульптурах может означать, что эфиопы использовали слонов не только для военных целей, но и для важных церемоний.
В числе развалин «Большой ограды» в Муссаварат-эс-Суфры ряд скатов и коридоров и уникальная стена, заканчивающаяся фигурой слона. Похоже, что этот комплекс был центром обучения слонов и что африканские слоны, используемые в военных целях в птолемеевский и римский периоды, почти наверняка проходили «курс обучения» в Мероэ.
Римляне поддерживали с народами, обитающими к югу от Египта, военные и дипломатические отношения со времен Августа и вплоть до конца Империи. Хотя необходимость защищать границы и вынуждала их вести военные действия против эфиопов, которые обитали во внутренних районах Африки и являлись источником беспокойства для римлян в Северной Африке в I и, возможно, II в. н. э. С эфиопами так называемого мероитского периода римляне имели много дел на протяжении целых веков. Отношения Рима с эфиопами в правление Нерона (I в. н. э.) отражены у Плиния и Сенеки. Первый утверждает, что Нерон отправил в Эфиопию отряд преторианских солдат под командой трибуна с целью исследования этой страны в то время, когда он планировал нападение на нее. Сенека, который говорит, что целью этого похода было обнаружение истоков Нила, беседовал с двумя центурионами, после того как те вернулись в Рим. Оказалось, что эфиопский царь оказывал помощь этой исследовательской группе, помог проводниками и охраной и снабдил рекомендациями к вождям соседних племен, обитающих за Мероэ. Экспедиция достигла судда – самой южной кромки Великой пустыни, до которой удавалось дойти римлянам в этом районе Черного континента.
Некоторые ученые принимают на веру утверждение Сенеки относительно научных целей экспедиции, тогда как остальные склонны придерживаться мнения Плиния – о планировавшемся Нероном нападении на Эфиопию. Сторонники «военной версии» связывают сбор германских отрядов в Александрии с эфиопским проектом. Сторонники торговых мотивов указывают на то, что возрастающая мощь государства Аксум стала значительной угрозой римским коммерческим интересам. Двигаясь в район Верхнего Нила, аксумиты вытесняли мероитов, у которых были дружественные отношения с Римом со времен Августа. Значит, можно допустить, что Нерон стремился поддержать Мероэ в борьбе против Аксума и установить контроль за торговыми путями, по которым товары, особенно слоновая кость, поступали с юга.
Свидетельство о военной стычке римлян с эфиопами запечатлено на частично сохранившемся папирусе, датируемом не позднее II века, возможно, между 60 и 94 гг. н. э. В папирусе говорится о бое в пустыне между римлянами, отряд которых включал кавалерию, и троглодитами и эфиопами.
Есть ли еще свидетельства? Где-то в последние годы I в. н. э. Септимий Флакк, преторианский легат Августа, командуя 3-м легионом, отправился из Ливии и зашел на эфиопскую территорию «на три месяца пути от страны гарамантов». Насколько далеко проник Флакк в глубь Африки, не установлено, так как неизвестны ни скорость его марша, ни продолжительность отдыха в оазисах. Птолемей, который в качестве источника об этой экспедиции цитирует Марина Тирского, в равной степени не высказался определенно и в отношении второй миссии, состоявшейся несколько лет спустя и возглавленной Юлием Маттерном, вероятно, торговцем, который отправился из Лептис-Магны в Гараму, где его встретил царь гарамантов для совместного похода против эфиопов.
Герма – столб, завершенный скульптурной головой негра из черного известняка, – найденная в термах Антония в Карфагене, быть может, являлась составной частью монумента триумфального типа. Герма со скульптурной головой негра и другая – ливийца, датируемые не ранее середины II в., изображают, как считается, пленных, захваченных римлянами на севере Сахары. Некоторые из других негроидов, запечатленные на североафриканских мозаиках, могут также означать пленников, захваченных в подобных кампаниях. Существует предположение, что в римской африканской провинции было популярно изображать негроидов во времена Антония после побед над мятежными племенами Сахары.