Маяковский начинается
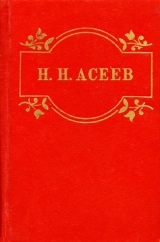
Текст книги "Маяковский начинается"
Автор книги: Николай Асеев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
ГОЛОС ДОКАТЫВАЕТСЯ ДО ПЕТЕРБУРГА
Здесь город был.
Бессмысленный город…
Маяковский, «Человек»
Одесса грузила пшеницу,
Киев щерился лаврой,
Люди занимались
самым разнообразным трудом,
и никому не было дела
до этой яркой и ярой
юности,
которой был он
в будущее
ведом.
Однажды он ехал,
запутавшись в путанице
колей, магистралей,
губерний, лесов,
и в тряском вагоне
случайная спутница
укором к нему
обратила лицо:
«Маяковский!
Ведь вот вы – наедине —
и добрый и нежный,
а на людях – грубы».
В минутном молчанье
оледенев,
широкой усмешкой
раздвинулись губы:
«Хотите —
буду от мяса бешеный, —
и, как небо, меняя тона, —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина,
а облако в штанах!»
Как пишет он:
«Это было в Одессе» —
его приобщение
к облакам;
с ним жизнь начинала
чудить и кудесить,
пускать
по чужим любопытным рукам.
И как бы те ни были руки
изнежены,
и как бы ни прикасались легко, —
скорей
сквозь буран он продрался бы
снежный
по скату
соскальзывающих ледников.
Скорей бы
нагрудник
действительной грубости
и в горло —
действительный рев мясника,
чем медная мелочь
общественной скупости,
к земле заставляющая
поникать.
Кто в том виноват?
Проследите по циклам.
Ни тот и ни этот,
ни эта, ни та.
Но горло замолкло,
и сердце поникло,
и щеки
свои изменили цвета.
Схватитесь за голову!
Как это вышло?
Себя разорить,
по кускам раздаря!
Срывайтесь со стен,
равнодушные числа,
ошибкою Гринвича
и календаря!..
Враги закудахчут:
«Он это – в Советском
Союзе
талант свой утратил на треть!»
Молчите!
Не вашим умам-недовескам
такого масштаба
дела рассмотреть!
Одесский конфликт —
лишь по «Облаку» ведом.
Но что там ни думай
и как ни судачь, —
в общественных битвах
привыкший к победам,
в делах своих личных
не звал он удач.
В напоре
привыкший
к ответным ударам,
по сборищам
мерявший звонкую речь, —
душою швыряться
привык он задаром
и комнатных слов
не сумел приберечь.
В толпе
аплодирующих и орущих,
среди пароходов и доков
в чести, —
он был,
как огромный
натруженный грузчик,
не знающий,
как себя
в лодке вести.
На руль приналяжешь —
все море хоть выпень,
за весла возьмешься —
назад вороти!
Кружит и качает
всесветная кипень,
волна за кормой
и волна впереди.
Из города в город
швыряло, мотало,
на отмели чувства
валило – несло.
И вот
посреди островков
и кварталов
о невский гранит
обломало весло…
Холодом бронзовела
Летнего сада ограда,
пик над Адмиралтейством
вылоснился, остер,
яснилась панорама
теперешнего Ленинграда,
тогдашнего Петербурга
холодный,
пустой простор.
Здесь люди жили
вежливо-глухи,
по пушке выравненные,
как на парад,
банкиры,
гвардейцы,
писатели,
шлюхи —
весь государственный
аппарат.
Торцы приглушали звуки.
Кругом залегли болота.
В тумане
влажнели ноздри
охранников и собак.
И скука сводила скулы,
как вежливая зевота,
в улыбку переходящая
на вышколенных губах…
Ты после узнал его
вооруженным,
когда он
в атаку,
по мокрым торцам,
лавиной «Путиловского»
и «Гужона»
пошел
на ощеренный череп Дворца!
Тогда же
спешили – жили,
каждый своей дорогой,
от Выборгской – до Дворцовой,
от нищего – до туза.
И здесь протекало детство
в перспективе строгой
мальчика – Оставь Не Трогай
и девочки – В Ладонь Глаза.
Обычного типа
их было семейство,
картин и портьер
прописные тона;
их жизнь
повторялась
и длилась
совместно,
как в зеркале – зеркало,
в стену – стена.
Такие же тучи
клубились над нею,
такие ж обычаи,
правила,
дни.
Хоть мальчик был
сдержанней и холоднее,
но вместе
от всех отличались они —
правдивостью, что ли,
и резкостью вкуса,
упорством характера,
ясностью глаз,
уменьем на вещи
не взглядывать куцо,
не ставить
на жизненном почерке
клякс.
Бездонный провал Империи,
собор,
засосанный тиной;
на седлах
и на подпорках
качающийся закон,
и – вздыбленный
Медный Всадник…
Такую они картину
вседневно,
ежеминутно
могли наблюдать из окон…
И девочка выросла
в девушку.
По складу схожи
во многом, —
лишь глаз ее круглых
и карих
больней по коже ожог…
В четырнадцать лет
совместно
они покончили
с богом.
И мальчик
среди одноклассников
вел марксистский кружок.
Листки календарные
никли…
Из девушки выросла
женщина.
Вкус к жизни,
к ее сердцевине,
был пробкой притерт,
как духи.
Они сообща ненавидели
чинушество
и военщину.
Но что же любить прикажете?
Себя лишь самих
да стихи?
Она б
и на баррикады —
не дрогнула,
и под своды
угрюмого равелина…
Но не было баррикад.
Единственной баррикадой —
дымившие далью заводы
свинцовым грузом привычек
от них отделяла
река.
Они полюбили друг друга.
Но розно
с родною рукой
обручилась рука.
Она его
навеки —
яростно,
грозно,
а он ее —
разумно,
ясно,
слегка.
И это взаимное
разновесье,
молекул и атомов
взвихренный ход,
грозил
рассверкаться
смертельною вестью
тому,
кто под тучу их крыши
взойдет.
Что с ними случилось?
Общественный обруч
не смог уже сдерживать
бочку без дна:
семьи не устроишь,
судьбы не задобришь,
когда в ней
непрочная клепка видна.
И эти,
любившие с детства друг друга, —
век раньше —
и не было б лучше жены,
и не было б мужа чудесней, —
из круга
им сродного
выбиты
и обречены!
И город
бездонных пучив
и провалов
над ними —
как призрак —
маячил и стыл;
и мелкою зыбью
Нева целовала
его
разведенные на ночь
мосты.
ЦЕНТР И ОКРАИНЫ
Так вот и буду
в Летном саду
пить мой утренний кофе.
Маяковский, «Человек»
Вот каким был
этот город.
Чопорный
и надменный.
Город
холодных взглядов,
кариатид,
дворцов.
Город казенных складов,
чувств
и монеты разменной,
где гробовщик надумал
в гости созвать
мертвецов.
Город —
кусок Европы,
выхоленный,
бесстыжий,
камнем
на сердце легший,
камнем —
на грудь страны.
Город,
в котором выжить —
значило то же,
что – выжать,
где проживешь – без славы
и пропадешь – без вины.
Хмурый,
на Финском взморье,
тесанный
зорким зодчим,
полный химер и бредней,
тонких сукон и питей.
Город
прямых проспектов,
не исключавших,
впрочем,
самых косых
душонок,
самых кривых
путей.
Выверенный впервые
в точности астролябий,
выметнувший в туманы
взлет корабельных ростр;
выпяленный
двуглавый
в небе —
орел остролапый,
выметнувшийся над миром
в полный петровский рост.
Вот по таким проспектам
окаменелой славы,
оледенелой речи,
выправки неживой
шел
не согласный некто
с выспренностью державы,
будущего разведчик,
времени сторожевой…
Искрились
и сверкали
вспышки витрин
в тумане
словно хотели вызнать,
выведать на свету, —
сколько у вас
в запасе,
сколько у вас
в кармане,
сколько у вас
пылает
радужных на счету?
Рифмы его сверкали
глубью
бездонных граней.
Мысли метались
дичью
неприрученных строк.
Будущего виденья,
четче, чем на экране,
требовали ускорить
свой наступавший срок.
Тотчас при появленье
высчитан и расчислен,
скупщиками валюты
в чем бы душа ни жива,
в чем бы ни бились мысли —
продано будет кому-то,
пущено на подкладку,
банты и кружева.
Как бы его обставить,
как бы его обжулить,
как бы его освоить,
выкроить,
утрясти?
Пасть на него раззявить,
глаз на него сощурить,
выгоду —
тем утроить, —
этим – на нет свести?
Люди
на Петроградской
мало стихов читали,
разве что песня
льнула
к Выборгской стороне…
Времени было —
только
чтоб обточить детали
да от хозяйских штрафов
злобу
топить в вине.
Если ж
теснило душу
горечью стародавней, —
выходы находились
в слове крутом, своем.
Хором летели в небо
саратовские «страданья».
«Сами себе сложили,
сами себе споем!»
Он их расслышал сразу,
эти огромные
в малом
жанре
слова и чувства,
стиснутые взаперти.
Он облучал их глазом,
крылья ртом расправлял им,
только не знал —
от Нарвской,
с Выборгской ль подойти?
Нет! – он решил. —
По центру
сразу ударить.
В темя —
силою небывалых
слов, представлений, чувств.
Плохо искать в искусстве
прибыль
процент к проценту.
Крупному разговору
сразу за них научусь!
Эти – его не знали.
Тусклое было время,
мало в оконце свету.
Как ему цену дашь?
Трется промежду теми
в кофте желтого цвету,
дышит,
чегой-то пишет, —
барская, видно, блажь.
Некогда объясняться!
Выиграть темп – и в гущу!
…Вздыбилось.
…Флаги.
…Смеяться.
Взрывом – осколки слов!..
Вот как он очутился
между жующих
и лгущих,
чмокающих тунеядцев,
тысячных наглецов.
Литературной биржей,
биржи большой помельче,
был ресторанчик «Вена»,
пишущих лиц притон,
смесью цинизма
с желчью
вас обжигавший мгновенно,
всем
записным талантам
передававший тон.
Входит:
«Привет, арапы!»
Пальцев сжимают кончик,
хором:
«Ура! За здравье!
Шел разговор о вас.
Нам бы у вас пора бы
выудить фельетончик,
мы бы немедля
вам бы
выписали аванс».
Так на корню закупая
соду,
поташ,
галеты,
гениев и гранаты,
нежность и рыбий клей,
чавкала туша тупая,
переводя
на котлеты
все,
что имеет цену
для большинства людей.
А у него
лишь – кофты
яркость,
да ясность взгляда,
да еще —
точно из тучи
низко плывущий гром.
Черт его знает, впрочем…
Может,
и это надо?
Купим на всякий случай.
Вдруг
наживешь на нем?
Ерники и подхалимы
вьются, точно налимы,
ходят вокруг да около,
мечутся по кривой.
Хайла свои разинув,
липнут неотразимо,
жабры топорщат —
метят
выскользнуть с-под него.
Синежурнальвая сволочь,
купринские опивки,
пыль
Леониду Андрееву
слизывавшие с сапогов,
перья свои нацелив,
точно дикарские пики,
колют его,
идущего
через хребты веков.
А он на них шел
молодым и глазастым,
на войско,
ведомое
силой рубля,
на них,
перекатывавшихся балластом
по трюмам державного корабля.
И все,
чем земля
его сердце украсила,
всю силу искусства
в открытом бою
он двинул
против литературного прáсола,
в упор живописному шибаю.
Быть может,
им путь
был неправильно начат.
Но – видите,
что он
наделал потом!
И многие ль – больше
и вровень с ним – значат,
пошедшие
более легким путем?!
ПЕРВАЯ ТРАГЕДИЯ
Я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.
Маяковский, «Облако в штанах»
В те дни,
вопреки всем преградам и проискам,
весна
на афиши взошла и подмостки:
какие-то люди
ставили в Троицком
впервые трагедию
«В. Маяковский».
В ней не было
доли
искусства шаблонного;
в ней все —
неожиданность,
вздыбленность,
боль;
все —
против тупого покроя
Обломова:
и автор,
игравший в ней
первую роль,
и грозный
цветастый
разлет декораций,
какие
от бомбами брошенных слов,
казалось,
возьмут —
и начнут загораться,
сейчас же,
пока еще действие шло.
Филонов,
без сна их писавший
три ночи,
не думал на них
наживать капитал,
не славы искал
запыленный веночек, —
тревогой и пламенем
их пропитал.
Теперь это
стало истории хламом,
куски декораций,
афиши…
А там – это было
единственным самым,
что ставило голову выше.
Теперь это
давняя перебранка,
с которой
и в книгу не сунусь.
А было —
периодом
Sturn’a und Drang’a,
боями
за право на юность!
Представьте:
туманный,
чиновный,
крахмальный
день,
не выходящий из ряда,
и в нем
неожиданно,
звонко,
нахально
гремящая буффонада.
Представьте себе
этот профиль столичный,
в крахмале
тугого зажима,
в испуге
на окрик насмешливо-зычный
повернутый недвижимо.
Представьте себе
эти вялые уши,
забитые ватой
привычных цитат,
глаза эти —
вексельной подписи суше,
мигающие
на густые цвета.
Часть публики аплодирует:
«Наши!»
Но бóльшая,
негодуя, свистит.
Зады
поднимают со стульев папаши,
волнуясь, взывают:
«Где скромность, где стыд?!»
Да, скромностью
наши
не отличались тут;
их шум
в добродетелях – подкачал:
ни скромности,
ни уваженья к начальству,
ко всякому
в корне
началу начал.
Но то, что казалось папашам
нахальством
и что трактовалось
как стиль буффонад, —
не явной ли стало
размолвкой с начальством:
истерся
Россию вязавший канат!
Уже износились
смиренья традиции,
сошла позолота,
скоробился лак,
и стало
все больше
в семействах родиться
бездельников,
неслухов,
немоляк.
Бездельем считалось
все,
что – хоть постепенно,
хоть как бы ни скромно
и как ни малó —
примерного юношу
вверх по ступеням
общественной лестницы
не вело.
Бездельничество —
это все,
что непрочно,
все,
что не обвеяно
запахом щей,
не схоже с былым,
непривычно,
порочно
и – противоречит
порядку вещей.
Порядок же
явно пришел
в беспорядок!
По-разному
шли в учрежденьях часы…
И как ни сверкали
клинки на парадах —
рабочая сила
легла на весы.
И часто, в тоске,
ужасалась супруга,
и комкал газету
сердитый супруг,
что
«…мальчик
из нашего выбился круга!»,
что
«…девочка
вовсе отбилась от рук!»
Потомство
скрывалось на горизонте.
«Ведь были ж послушны
и мягки как шелк!»
«А нынче —
попробуйте урезоньте!»
«А ваш-то
небось в футуристы пошел!»
Вот так это все
и случалось и было:
не то чтоб
начальственный окрик
ослаб,
но – детство
мамаше с папашей грубило
на весь
беспредельный российский масштаб.
А вместе с родительским —
царский и божий
клонился,
в цене упадая,
престиж,
и стала страна
на себя не похожей,
все злей и угрюмей
в затылке скрести.
Конечно,
не спор о семейственном благе
массовкой
топорщился
у леска,
но —
массовой перебежкою в лагерь
редели
былого уклада войска.
Конечно,
не в этом была революция,
героика будней,
упорство крота,
но все беспризорнее
головы русые
мелькали
украдкою за ворота.
Я знал эту юность,
искавшую выход
под тусклой опекою
городовых,
не ждавшую
теплых местечек и выгод,
а судеб —
торжественных и передовых.
Казалось —
все скоро изменится…
Ждали
каких-то неясных предвестий,
толчков.
Старались заглядывать в завтра.
Но дали
хмурели
в обрывках газетных клочков.
Казалось —
все скоро исполнится…
Слишком
была эта явь
и темна и тесна.
Ловили
отгулы грозы
по наслышкам,
шептались,
что скоро наступит весна.
И вдруг —
в этом скомканном,
съёженном мире,
где день не забрезжил
и сумрак не сгас, —
во всей своей молодости
и шири
пронесся призывом
грохочущий бас:
«Ищите жирных
в домах-скорлупах
и в бубен брюха
веселье бейте!
Схватите за ноги
глухих и глупых
и дуйте в уши им,
как в ноздри флейте».
Вот тут-то
и поднялась потасовка:
«Забрать их в участок!
Свернуть их в дугу!»
А голос взвивался
высоко-высоко:
«О-го-го – могу!..»
«ВПЕРЕДИ ПОЭТОВЫХ АРБ»
Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотрите —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!
Маяковский, «Ко всему»
Вот он возвращается
из Петрограда —
красивый,
двадцатитрехлетний,
большой…
Но есть в нем какая-то горечь,
утрата,
какое-то облако над душой.
Сказали:
к друзьям он заявится
в среду.
Вошел.
Маяковского —
не узнать.
Куда подевались —
их нету и следу —
его непосредственность
и новизна.
Уж он не похож
на фабричного парня:
белье накрахмалил
и волос подстриг.
Он стал прирученней,
солидней,
шикарней —
по моде
последний со Сретенки крик.
(На Сретенке были
дешевые лавки
готовой одежи:
надень и носи.
Что длинно —
то здесь же
возьмут на булавки;
что коротко —
вытянут
по оси.)
Такого вот —
можно поставить к барьеру:
цилиндр,
и визитка,
и толстая трость.
Весь вид —
начинающий делать карьеру
наездник из цирка
и праздничный гость.
Они ему крылья
напрочь обкорнали,
сигарой зажали
смеющийся рот,
чтоб стал он картинкой
в их модном журнале
не очень опасных
построчных острот.
Они его в шик облачили
грошовый,
чтоб смех,
убивающий наповал,
чтоб голос его
разменять на дешевый
каданс
их прислужников-запевал.
На нем же любое платье
выглядело элегантным;
надетым не для фасонов
и великосветских врак…
Он был
какого-то нового племени
делегатом,
носившим
так же свободно,
как желтую кофту,
фрак.
И в блеске
лоснящегося цилиндра
отсвечивал холод,
лицо озарив;
так —
в порохе блещущая
селитра
напоминает
про грохот,
про взрыв.
И – хоть он печатался
в «Сатириконе»,
хоть впутался в ленты
ермольевских фильм, —
весь мир егопомыслов
был далеко не тем,
чем казался
для нас,
простофиль.
Он законспирировал
мысли и темы;
расширив глаза,
он высматривал год —
тот год,
где поймем и почувствуем
все мы,
что мир разделился
на слуг и господ.
Он больше не шел
против ихних обрядов;
он блуз полосатых
уже не носил.
И только одно
не укрыл он, упрятав:
сердечного грохота
в тысячу сил.
И сразу
все темы мельчали…
Одна —
до дрожи стены.
И сразу
друзья замолчали —
так были потрясены.
И после,
взмывая из мрака,
тянулись к нему голоса,
и пестрая вязь
Пастернака,
и хлебниковская роса;
и нервный, точно котенок
(к плечу завернулась пола),
отряхивал лапки Крученых;
Каменский пожаром пылал;
и Шкловского яростная улыбка, —
восторгом и болью
искривленный рот,
которому
вся литература – ошибка,
и все переделать бы – наоборот!
Комедия
превращалась в «мистерию»:
он зря ее думал
развенчивать в «буфф»;
все жестче
потерю ему за потерею
приписывал к жизни
всесветный главбух.
Все чаще и чаще
впадал он в заботу,
судьбы обминая
тугой произвол;
все гуще, как в лямки,
влегал он в работу
и книгу надписывал подписью:
Вол.
Огромным
упорным Самсоном остриженным
до мускульных судорог
вздувшихся плеч, —
он речь
от дворцов поворачивал
к хижинам,
других за собой
помышляя увлечь.
И это,
и все,
что в стихах его лучшего,
толпа равнодушных
и сонных зевак
не видела
из-за лорнета бурлючьего,
из-за скопившихся в сплетнях
клоак.
Но были в России
хорошие люди:
действительно —
соль ее,
цвет ее,
вкус.
Их путь, как обычно,
был скромен и труден.
И дом небогат,
и достаток негуст.
Я знаю отлично:
не ими одними
спасен был
тогдашней России содом.
Но именно эти
мне стали родными,
с их вкусом,
с их острым событий судом.
Их пятеро было,
бесстрашных головок,
посмевших свой взгляд
и сужденья иметь;
отвергнувших путь
ханжества и уловок,
сумевших
меж волков
по-волчьи не петь.
Сюда сходились все пути
поэтов
века нашего;
меж них,
блистательных пяти,
свой луг
рифмач выкашивал.
Как пахнут
этих трав цветы!
Как молодо
и зелено!
Как будто бы с судьбой
на «ты»
им было стать повелено.
Здесь Хлебников жил,
здесь бывал Пастернак…
Здесь —
свежесть
в дому служила.
И Маяковского
пятерня
с их легкой рукой дружила.
Взмывало солнце петухом
в черемуховых росах.
Стояло время пастухом,
опершимся о посох.
Здесь начинали жить
стихом
меж них —
тяжелокосых.
Но мне одному лишь
выпало счастье
всю жизнь с ними видеться
и общаться.
Он,
заходя к нам,
угрюм и рассеян,
добрел
во всю своих глаз ширину,
басил про себя:
«Счастливый Асеев —
сыскал себе
этакую жену!»
Я больше теперь
никуда не хочу выходить
из дому:
пускай
все люстры в лампах
горят зажжены.
Чего мне искать
и глазами мелькать по-пустому,
когда – ничего на свете
нет
нежнее моей жены.
Я мало писал про нее:
про плечи ее молодые;
про то,
как она справедлива,
доверчива и храбра;
про взоры ее голубые,
про волосы золотые,
про руки ее,
что сделали в жизни мне
столько добра.
Про то,
как она страдает,
не подавая вида;
про то,
как сердечно весел
ее ребяческий смех;
про то,
что ее веселье,
как и ее обида,
душевней и человечней
из встреченных мною всех.
Про то,
как на помощь она
приходит быстрее света,
сама никогда не требуя
помощи у других;
про то,
как она служила
опорою для поэта,
сама для себя не делая
ни из кого слуги.
И каждое
свежего воздуха к коже
касанье,
и каждая
ясного утра
просторная тишина,
и каждая
светлая строчка
обязана ей,
Оксане, —
которая
из воспетых
единственная
жена!
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОД
«Что задумался, отец?
Али больше не боец?
Дай, затянем полковую,
А затем – на боковую!»
Хлебников
Война разразилась
внезапно,
как ливень;
свинцовой волной
подступила ко рту…
Был посвист снарядов и пуль
заунывен,
как взвывы
тревожной лебедки в порту.
Еще не успели
из сумрака сонного
ко лбу донести —
окрестить —
кулаки,
как гибли уже
под командой Самсонова
рязанцы,
владимирцы,
туляки.
Мы крови хлебнули,
почувствовав вкус ее
на мирных,
доверчивых,
добрых губах.
Мы сумрачно вторглись
в Восточную Пруссию
зеленой волной
пропотелых рубах.
И хоть мы не знали,
в чем фокус,
в чем штука,
какая нам выгода
и барыш, —
но мы задержали
движенье фон Клука,
зашедшего правым плечом —
на Париж!
И хоть нами не было
знамо и слыхано
про рейнскую сталь,
«цеппелины»
и газ,
но мы опрокинули
планы фон Шлиффена, —
как мы о нем, —
знавшего мало о нас.
Мы видели скупо
за дымкою сизой,
подставив тела
под ревущую медь,
но —
снятые с фронта
двенадцать дивизий
позволили
Франции уцелеть.
Из всех обнародованных
материалов
тех сумрачных
бестолковых годин —
известно,
как много Россия теряла.
И все ж
мне припомнился
новый один.
Один
из бесчисленных эпизодов,
который
невидимой силой идей
приводит в движение
массы народов,
владеющих судьбами
царств и людей.
Министры – казну обирали.
Шакальи
фигуры их
рвали у трупов куски.
А парни с крестами —
шагали, шагали,
разбитые пополняя полки…
Я ехал в вагоне,
забритый и забранный
в народную повесть,
в большую беду.
Я видел,
как учащенными жабрами
держава дышала,
как рыба на льду.
Вагон третьеклассный.
В нем – чуйки, тулупы,
тенями подрагивающими
под бросок,
огарок оплывший
и въедливый, глупый,
нахально надсаживающийся голосок.
Заученных слов
не удержишь потока:
«За матушку Русь!
За крушенье врага!»
А сверху глядела
папаха,
винтовка
и туго бинтованная
нога.
Оратор
захлебывался, подбоченясь,
про крест над Софией,
про русский народ.
Но хмуро и скучно
глядел ополченец
на пьющий и врущий
без удержу рот.
Оратор – ярился:
«За серых героев!
Наш дух православный —
неутомим!
Мы дружно сплотимся,
усилья утроив,
и диких тевтонов
вконец разгромим!»
Когда ж
до «жидов»
и до «социалистов»
добрался
казенных мастей
пиджачок, —
не то обнаружился
просто в нем пристав,
не то это
поезд сделал толчок,
но раненый ясно,
отчетливо,
строго,
с какой-то
брезгливостью ледяной
отрезал:
«Мы не идиоты!» —
и, ногу
поддерживая,
повернулся спиной.
«Мы не идиоты!» —
вот в чем было дело
у всех этих раненых
без числа;
вот что
и на стеклах вагонных нальдело
и на сердце
вьюга в полях нанесла.
На скошенных лезвиях
маршевой роты
мелькало,
неуловимо, как ртуть,
холодное это:
«Мы не идиоты!» —
и штык угрожало
назад повернуть.
И, правда,
кому б это стало по нраву, —
пока наживалась
всесветная знать, —
на Саву, Мораву
и Русскую-Раву
своими скелетами
путь устилать?!
Вагон тот —
давно укатился в былое,
окопы
запаханы в ровную гладь,
но память
не меркнет
об этом герое,
сумевшем
в три слова
всю правду собрать,
Три слова —
плевком по назойливой роже!
Три слова —
где зоркая прищурь видна!
Три слова —
морозным ознобом по коже,
презрение
выцедившие до дна!
И в это же время, —
две капли таковский, —
с правдивостью
той же
сродненный вдвойне,
бросал свои реплики
Маяковский
Кащеихе стальнозубой —
Войне.
Он так же мостил
всероссийскую тину
булыжником слов —
не цветочной пыльцой;
ханже и лгуну
поворачивал спину,
в пощечины
с маху хлеща подлецов.
И понял я
в черных бризантных вихрях,
что в этой
тревожной браваде юнца
растет
всенародный
российский выкрик,
еще не додуманный
до конца.
Я понял —
не призрак поэта модный,
не вешалка
для чувствительных дев, —
что это великий,
реальный,
народный,
пропитанный
смехом и горечью
гнев.
Я понял,
что, сердце сверяя по тыщам,
шинель рядового
сносив до рядна,
мы новую родину
в будущем
ищем,
которая
всем матерински
родна.
Спросите теперь
у любого парнишки:
«Мила тебе родина?
Дорог Союз?» —
и грозно сверкнут
пограничные вышки,
в бинокль озирая
границу свою.
Ту, за которую
драться не стыдно,
которой
понятны нам цели
и путь,
с которой
и жить
и умереть —
не обидно
ничуть!








