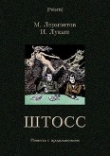Текст книги "Вешний цвет"
Автор книги: Николай Строковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
И еще она подумала, что никто из ее друзей не мог бы столь живо нарисовать незнакомый ей край, хотя среди ее приятелей есть способные, даже талантливые ребята.
Она вдруг принялась рассматривать Сергея Фомича, словно увидела впервые. На лице – ни морщины: ветры да солнце, трудовая жизнь продубили его лицо, сделали стойким против времени. И глаза у него острые, умные. И фигура легкая, не кабинетная: он как бы из одних мускулов. И чуть припорошенные снежком виски скорее красят, нежели старят мужественное лицо. И такому человеку можно довериться.
Он не походил на друзей отца, хотя был, возможно, ненамного моложе их. Отяжелевшие, с брюшками, утратившие мускулатуру, они были недоступны для рядовых людей и чрезмерно предупредительны по отношению к старшим. Бывали ли они откровенны друг с другом? Жизнь сложна. Не все противоречия сняты. Что же касается папы…
Он хорош и добр, он – папа… Но постоянные болезни сделали его раздражительным. Она иначе не представляла его, как с грелками, в меховой безрукавке, даже если он в кабинете у горячей батареи. Сказывались годы гражданской войны, годы Отечественной.
Впрочем, и Сергей Фомич был на войне, он получил ранение осколком бомбы в плечо при форсировании Днепра под Киевом, у Вышгорода. Как-то рассказал ей об этом и показал рану. Ксена еще тогда подумала, что мужчины вообще любят поговорить о боевых своих делах и показывать ранения…
Когда дождь затих, они пошли домой. Разговорились о кинофильмах, которые видели в последние годы. Сергей Фомич помнил имена актеров, сюжеты и, если Ксена забывала, двумя-тремя деталями восстанавливал изгладившееся.
Он высказал несколько мыслей о кино завтрашнего дня, о будущем театра и вдруг умолк.
Стоит ли обо всем этом? Ведь только в науке возможна объективность суждений, в искусстве же все субъективно… Не так ли она говорила? Не она ли возмущается, когда от высказывания личных взглядов и вкусов люди переходят к навязыванию взглядов и вкусов? Обязательность мнений даже профессиональных критиков она встречает с ухмылкой! Но об этом тоже не стоит говорить. Тем более, что больные рассуждают, словно врачи, а читатели, как писатели…
Оба рассмеялись.
7
С прогулки Ксена возвратилась усталая, но просветленная, хотя ничем не могла объяснить своего душевного состояния. Она не пошла ужинать и легла.
Несколько раз заходила Полина Петровна. По ее хмурому, но все равно хорошенькому лицу было видно, что она чем-то расстроена. На Ксену не взглянула.
Молчание…
Что ж… Причина?
Не все ли равно!
Низкий грудной голос пел жестокий романс:
«Старый муж,
Грозный муж,
Режь меня,
Жги меня…
Я другого люблю,
Умираю любя…»
Полина Петровна, кажется, тоже прислушалась, выражение лица ее вдруг изменилось: хмурость уступила задумчивости.
«…Как смеялись тогда
Мы твоей седине…»
Полина Петровна резко выдернула штепсельную вилку репродуктора.
Ксене почему-то стало холодно. Она включила лампу, которая стояла на тумбочке, и взяла книгу, зачитанную до того, что листочки превратились в тряпочки: не сразу перевернешь.
Но не читалось.
И лежать молча, когда рядом живой человек, тяжело. Собственно, что Полине Петровне надо? Какое Ксена совершила преступление? Мелко, неприятно, как сухарные крошки на простыне.
К счастью, Полина Петровна недолго возилась у туалетного столика и в гардеробе: подмазав губки и вытерев сиреневой водой руки, шею, она надела новое платье, причесалась и ушла, оставив после себя облачко из сирени… Да, каждая женщина уверена, что она – первейшая чистёха, самая аккуратная, что у нее тонкий вкус… А ведь как крикливо одевается…
Не спалось. Давило на сердце, оно билось до того тихо, что рукой не удавалось уловить толчков.
Полина Петровна пришла после отбоя. Долго сидела на кровати, не раздеваясь. Что-то писала за столом. Уходила и снова возвращалась. И это – как будто в комнате никого…
Ночью шумел тревожно осокорь. И ритмично постукивал крючок открытой форточки.
Утром Ксена вышла в сад. После вчерашнего дождя стволы деревьев были мокры с одной, наветренной стороны. Известковые ступени высохли; только в раковинах зеркально поблескивали крохотные озерца.
Она прошла мимо старого дерева, в дупле которого лежали окурки, конфетные бумажки, кожурки от мандарин. Радио передавало сводку погоды. 26 апреля. В Киеве, Ялте, Сочи + 12. В Красноярске +22…
Двадцать два? В Красноярске? А на юге 12. Просто удивительно!
А в Хакассии?
Об этом не сообщалось. Но и в Хакассии было тепло, – ведь это рядом с Красноярском!
Утро начинается с пения птиц и робких солнечных бликов, обещающих хорошую погоду. Но обещания не выполняются: дождь придет так же неизбежно, как вечер и ночь. Ксена зябко повела плечами.
Скворушки, сидя на дереве, пели: тю-и… тю-и…
Пошла к Ребровой балке. Ели, осокори, березки. Тропинка, извиваясь, уходит выше, винтовой лестницей. И вот роща внизу, в провале, а Ксена – над деревьями, может даже коснуться верхушек, которые кажутся такими доступными и в то же время непривычными, как пойманные зверьки.
И здесь на скале – десятки надписей. Склон усыпан жухлыми листьями, сухими веточками, россыпью камней. Пробивается ярко-зеленая трава.
Некоторые березы впились ветвями в расселины, другие тесно прижались стволами к скале – не отделить!
Из трубы ближайшего санатория вывинчивается спираль дымка. Как в морозное утро.
Прохладно. Сыро. В такую минуту хочется протянуть руки к костру. Или близкому человеку.
На площадке Ксена оглянулась. Город пробуждался. В утреннем воздухе звуки проступают четче; прошел и остановился автобус: зашипело, будто из проколотой шины. Кто-то шел по асфальту; далеко разносилось шарканье ног. Юркие синички хозяйственно обследовали старую шишку на высокой сосне. Они выстукивали ее со всех сторон, занимая разное положение; некоторые даже свисали вниз головой, цепко держась за шишку лапками. Ветви сосны темно-зеленые с рыжими кончиками, смятыми, похожими на завитки ржавой проволоки.
Почему потянуло в горы? Подальше от людей? Да, конечно, одиночество порой нужно человеку, как общество. Когда Ксена вернулась, в вестибюле царило оживление, почти все спустились вниз.
Оказывается, готовилась экскурсия к замку «Коварство и любовь» и к «Медовому водопаду». Со всех сторон несутся реплики, шутки, смех. Кто-то объявил, что идет платить за «Коварство и любовь». Ему ответили, что за коварство и любовь не платят, а расплачиваются!
Люди любят острое словцо всегда и везде, даже в труднейшие минуты жизни.
Здесь же оживленная Полина Петровна. Она – в центре, это та ось, вокруг которой что-то вращается, шумит. С ней поэт из Киева, Ксена его встречала на студенческом вечере, даже разговаривала с ним, но он сейчас ее «не узнает…»
Полина Петровна показывает поэту своего мотылька, приколотого к левому плечу. Мотылек переливается разноцветными огоньками. Такие броши Ксена видела на Владимирской улице, в лоточках. Нравится?
Поэт щурит и без того узенькие глаза, присматривается к плечу Полины Петровны, наклоняется близко к ее декольте и изрекает:
«Сей мотылек себе сыскал
Вполне достойный пьедестал!»
Раздаются аплодисменты. Кажется, этот «экспромт» Ксена уже где-то слышала…
В столовой за дальним столиком – Сергей Фомич. На таком расстоянии не здороваются, но он перехватил ее взгляд и, кивнув головой, улыбнулся.
Новые лица. Санаторий подобен жизни: одни входят в мир, другие его покидают. За соседним столиком – пара. С утреннего поезда. Он сидит спиной к Ксене, она – лицом. У него тяжелые плечи, короткая, с валиком шея. Он занят едой, словно государственным делом. Судя по спине и шее, это уже пожилой человек.
Ксена заметила на глазах у молодой женщины слезы… О чем она? Что эту пару соединило?
Поднявшись, он удостоил свою «половину» вниманием, что-то процедив сквозь зубы. Она всплеснула руками совсем так, как это делается, когда ловят моль… Так больно было смотреть…
Пока Ксена занималась ими, другая пара, тоже новенькая, чем-то возмущалась; вызвали дежурного врача. Новенькие требовали книгу жалоб. Неужели не понравился стол?
На лестнице ее встретил Сергеи Фомич, он был чем-то расстроен. Спросил, как она себя чувствует после прогулки.
Хорошо.
А как ей понравилась сцена? – он кивнул в сторону столовой. Требуют, чтоб их кормили язычками ласточек!
И это его расстроило?
Однако… Нет, его ничто не расстроило. Просто – настроение. В санатории вообще немало курьезов. Он перевел разговор на другую тему. Люди здесь раскрываются полней. Слишком много свободного времени! Одни увлекаются процедурами. Но, право, чтоб выполнить все процедуры, которые здесь прописывают, больной должен отличаться железным здоровьем! Забавно! А другие?
Есть чрезмерно осторожные, предусмотрительные, они ни за что не поселятся в отдельной комнате: а вдруг ночью что-нибудь случится…
Да… Есть такие… И жизнь у них нелегка… Ксена представила, какой страх испытывают эти люди… И как, видимо, стесняются они в этом признаться… И все-таки в нем… перемена. Нет, никакой перемены. Настроение – и только,
В тот день и в другие они виделись мельком: Сергей Фомич был чем-то занят. Конечно, если люди хотят, они находят время. Если хотят. Кажется, Сергей Фомич избегал ее. Чаще, чем прежде, она выходила из дому, гуляла по аллейкам санатория, заходила в клуб, в библиотеку, даже заглядывала за кулисы. Не могла себе объяснить, зачем это делала. Дни снова кто-то стреножил, и они еле-еле плелись.
Когда, наконец, встретились, Сергей Фомич держался настороженно, сдержанно, даже холодно. И Ксену оскорбило: она не видела причин для перемены. Что же в нем произошло?
Решительно никакой перемены. Он тот же. Он не из тех, кто быстро меняется. Она не знает его. Но так лучше. Ей стало очень обидно. Это его взволновало. Просто – сегодняшний день – последний. Ранним утром он уезжает! Что случилось? Истек срок путевки.
Но еще два-три дня назад о путевке не было речи! Разве он должен был объявить? Когда люди живут в одном санатории… Да, она не подумала, что и у путевок есть сроки… На Сергее Фомиче серо-голубой костюм, отлично сшитый, накрахмаленная белейшая рубаха, белый с голубыми квадратами галстук. Кто ему покупает? Лена? Машенька? Папе выбирали галстуки мама и она. Но, конечно, Сергеи Фомич выбирает галстуки сам. У него твой, мужской вкус, это видно.
Итак, он уезжает. Готовился, значит, к отъезду? Сегодня – последний день? Все в жизни имеет начало. Имеет и конец. И конец приходит тогда, когда должен прийти. Ни на минуту раньше или позже. Даже если мы этого не хотим. Так она думает.
Сегодня повторная экскурсия – для тех, кто не смог поехать раньше. Собирается ли она? Нет.
Напрасно. Живописная дорога мимо скал. Водопад над замком.
А почему он называется Медовым? Вокруг множество медоносных трав. Они так ароматно пахнут!
А замок «Коварство и любовь»?
Это огромная одинокая скала, возвышающаяся из ущелья. Она повита непроходимым колючим кустарником. Здесь многое хранит поэзию таинственности. Не знает ли он, почему так назван замок? Да, конечно. Это знают здесь все. Может быть, он расскажет?
Самчей, юную дочь горского князя, готовились выдать замуж за старого князя Тауба. Она любила пастуха Булата. Несчастные влюбленные предпочли смерть разлуке: они решили броситься со скалы в бездну. Стоя над пропастью, Самчей сказала – прыгни первый! А я – за тобой. Булат поцеловал любимую и кинулся в пропасть. Самчей зажмурила глаза… Стало страшно… Захотелось жить! Внизу лежало растерзанное тело… И она изменила своему слову. Вернулась в замок и вышла замуж за Тауба…
Конечно, в жизни есть и коварство и любовь. Но любви больше. Так она думает.
Кажется, Чехов сказал: то, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть самое нормальное наше состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть.
И эта мысль усилила в Ксене грусть.
А вот как любовь уживается с коварством?
Есть и такое благородство, которое измеряется лишь меньшей степенью подлости…
Ксена должна подумать. Благородство, которое измеряется меньшей степенью подлости? Ужасно…
Светлое настроение у Ксены померкло. Оно вообще сегодня менялось, как цвет неба или блики солнца в Кисловодске.
Но, кроме подлости, есть благородство, подвиг. Самопожертвование. Чистота и бескорыстие. Неужели она ошибается?
Есть. Поэтому жизнь прекрасна!
Каждый человек стремится быть лучше. Откуда же – подлость? От страстного желания достигнуть того, на что у человека нет права? Но как сложились ограничения? Всегда ли право справедливо? И всегда ли запрет должен иметь силу нравственного закона?
Сергей Фомич не сразу ответил.
Очень сложно. И очень просто. Мелкая подлость всегда только подлость. Большую же подлость враги общества, человечества пытались и пытаются выдать за убеждение, философию. Скажем, гитлеровская подлость, которая подавалась как убеждение, система взглядов. Фашистская философия.
Говорить об этом она сейчас не хочет. В Нарзанной галерее они пили кипящий, кружевной от газа нарзан. Потом пошли вдоль речушки Ольховки к «Стеклянной струе».
Ливни превратили речушку в бурлящий поток. Вода неслась с большой силой. Наткнувшись на каменную запруду, поток верхним своим слоем откатывался назад, против течения и, встретившись с набегающими водами, исхлестывался, пенный, вверх.
Они бросили в водоем, как того требовал кисловодский обычай – чтоб приехать еще и встретиться – серебряные монетки. Рассыпанные во множестве, блестящие, монетки походили на плотичек. Некоторые из них были наполовину занесены песком.
Китайские девушки, стоя у ограды, со смехом бросали монетки, оживленно разговаривая.
Когда говорят китайские девушки, кажется, что на рассвете щебечут в роще птицы.
Да… Она хорошо подметила! Известно ли Ксене, что означают китайские имена?
Кое-что слыхала.
Он рассказал. Многие имена показались ей поэтичными. Например, Юе (луна) или Лань (орхидея). И У мальчиков: Сяо-фу-ци (любимец судьбы), Сяо-лун (маленький дракон). Маленький дракон! Забавно.
Он сказал, что её, Ксену, в Китае, наверно, назвали бы Чу! Жемчужина!
Ксена рассмеялась.
Какая она жемчужина! Она скорее – Сяо-лун! Маленький дракон.
А что же будет потом? Потом будет… Большой дракон!
Весна наступила. Молоденькие листья каштана сложены вдоль черенка, словно крылья летучей мыши. Они похожи на летучую мышь. Уже и липы начинают выпускать листочки, сначала на нижних ветвях. Оки ярко-зеленые, с желтизной, почти прозрачные, а на верхушках – еле заметные, крохотные. Буйно цветут вишни, черешни, абрикосы и алыча. А на кустах сирени – фиолетово-чернильные шарики.
Последний день…
Сыграет ли он на прощание?
Ей хочется музыки?
Хочется послушать его.
Они сели на скамью.
Сергей Фомич сказал, что сыграет ноктюрны Листа. И все, что помнит. Хотя многое выпало из его репертуара он мало играет, некогда. И не всегда есть настроение. Нужна систематическая работа. Это – область, не прощающая невнимания. И – очень мстительная! Значит, последний день?
Завтра утром поезд увезет его в неведомую ей Хакассию. Он так соскучился по дому…
Ксена подумала, что она не испытывала тоски по дому, что послала одну открытку – о «благополучном приезде». Ничего не писала подругам, хотя обещала. И Антону… Ходит, должно быть, каждый день на главпочтамт, с надеждой смотрит в окошечко… Антон…
Вспомнила только сейчас.
Для других было ясно, чем кончится их дружба. Но не для нее. Теперь он находился за тридевять земель, и лицо его виделось в тумане. О чем она задумалась?
Ни о чем.
О друге?
Нет. Ничего серьезного. Она не скрывает. Обыкновенные товарищеские отношения, хотя Антон и подруги считают иначе.
Она не смогла избавиться от ничем не объяснимого чувства не то обиды, не то зависти, что он соскучился по дому, значит – по Лене и Машеньке, и не дождется, когда будет там, в своей Хакассии. И ничего ему здесь не жаль…
8
Вернувшись в санаторий, Ксена долго сидела на балконе своей комнаты, пыталась читать, но содержание прочитанного сразу забывалось, ничто не привлекало ее внимания. Тогда она пошла на ванны.
Лежа неподвижно в воде, наблюдала за кругами, которые, как от паучков, расходились к периферии. Тугие пузырьки непрестанно прокладывали воду со дна и, поднявшись к поверхности, лопались. Порой вместо концентрических кругов, как их изображают художники, рисуя ту радиостанции, появлялись спирали, тонкие, словно граммофонных пластинках. Были и кометообразные, с крутым разворотом. Игрушечные волны набегали к круги, приятно щекоча.
Ксена смотрит на красный, синий и зеленый вентили, на часы, которые с тихим шелестом просыпают песочек через поясок, перетягивающий запаянную пробирку, смотрит на свое тело, розовое, в алмазах нарзана. Немного стыдно и приятно. Хочется подремать.
Веки отяжелели, смежились.
Но в дверь стучат. Входит няня.
Ксена встает. На воде десятки стружечных завитушек. Скользкое от пузырьков тело приятно вытереть мохнатой процедуркой. Бодрая, сильная, она идет в зал, ложится на топчан.
На полу в больших кадках – цветы. И на подоконниках – в вазонах. Резиновые листья фикуса чуть лоснятся от света, процеженного сквозь занавеси.
В зале отдыхают мужчины и женщины. Ксена поворачивается на бок. И прикрывает ноги голубой шерстяной кофточкой. Туфли ее стоят под топчаном.
Пять-десять-пятнадцать минут пролетают незаметно. Одни читают, хотя сестры ворчат. Другие мирно дремлют. Кое-кто похрапывает…
Дума? Тревога? Нет. Ничего. Может быть, лишь глубоко, где-то там укрывшаяся печаль.
Она любит зиму, любит, когда падает снег. Хочет, чтоб он падал еще и еще, гуще, мохнатыми хлопьями, – так нравится ей снегопад. В Киеве, правда, снегопады стали редки. Это скорее воспоминания детства. В канун Нового года и в первые дни января обычно в Киеве идут дожди… И с Деда Мороза течет краска..
Человек не может жить без друга. И хочется, чтоб этот друг, один-единственный умеющий понимать, чувствовать одинаково, был рядом, любовался притемненным светом фонарей, снежной метелью в воздухе, пронизанном электрическими лучами.
Почему вспомнила зиму весной? Просто думала о прекрасном. И есть люди, чувствующие одинаково с ней природу.
Что ж, пусть эти люди чувствуют природу где-то там, далеко…
В «тихий час» она была за кулисами. Сергей Фомич – чуть бледен. Она села сбоку, шагах в четырех от рояля.
Он сыграл обещанные три ноктюрна, внутренне близкие друг другу, и больше играть не пожелал. Был он сегодня не в том настроении, которое призывает музыканта играть еще и еще.
Лист – любимый его композитор?
Нет. Он любит немногое у Листа. Но эти вещи, да еще «Сонет Петрарки» считает лучшими, близкими себе.
Не сыграет ли он «Сонет Петрарки»?
Попробует, хотя давно не играл. Вероятно, позабыл.
Но он не позабыл… Музыка воскресала сама собой, – у Сергея Фомича были волшебные пальцы! – и Ксена с мучительной обостренностью чувств погружалась в мир, где у нее перехватывало дыхание. Еще немного – и она задохнулась бы.
И она – пусть невежливо, бестактно, – ушла, почти убежала со сцены.
Он ни единым жестом не попытался удержать ее.
После ужина Сергей Фомич встретил ее на дорожке. к нему вернулась прежняя оживленность, свобода в обращении, а Ксена была сама не своя.
В угасающем мареве таяли, будто ледок весной, облака.
Потом зажглись фонари в молочных абажурах. Шары казались белыми смородинками на тонких узловатых плодоножках. На дне ближайшего шара лежал кружок чернен пыли; туча мошкары билась о его стенки.
Показалась бледная маленькая луна – старинная серебряная монетка со стертым краем. Они шли по улице.
Ксена сказала, что солнце создано для веселых, счастливых людей, грустящей душе ближе луна. Он промолчал.
Она заметила – о, это только скромные ее наблюдения. – что артисты-комики очень скучные в быту люди. Трагики же – веселые в жизни ребята. Почему это? Как можно веселому, жизнерадостному играть правдиво трагедийную роль? Как можно вообще быть не самим собой?
Вопрос имел дальний прицел, Сергей Фомич это отлично понял.
Искусство перевоплощения.
Нет, это ей не доступно. Она может быть лишь собой. А он?
Он – тоже. Но в руках человека – огромная сила, способная обуздать что угодно.
Начал накрапывать дождик. Множество бликов от фонарей, от освещенных окон засияло на асфальте. И это на краях улицы, а середина чернела, будто река ночью. Не пора ли домой?
Из-за дождика? – В ее голосе скользнула усмешка.
Хотя бы…
Да, с дождиком войдет в ее жизнь Кисловодск. Она о чем-нибудь сожалеет?
Нет. У нее может быть грусть, может быть тоска, но не сожаление.
Знала ли она в своей крохотной жизни успехи? Удачи? Он имеет в виду – удачи творческие? Увенчавшиеся успехом поиски?
Она еще в этом смысле не начинала жить. Он хотел бы, чтобы она запомнила одну мысль, к которой он пришел через отрицание и сомнения. Что за мысль?
В своих удачах мы видим только свое умение. А в своих неудачах – ошибки других или происки врагов, сию, относится не только к большим делам, но малым.
Она постарается запомнить. Что ещё он завещает?
Ирония?
Нет… Маленькая жизнь тоже научила ее кое-чему. Например?
Не слишком распахиваться…
Когда-то в юные годы он поменял сердце на жаворонка…
Да, она помнит. Он даже готовился стать музыкантом…
Готовился!
Потом хотел вернуть свое обыкновенное, простое сердце, но – так и не удалось. И это причиняет боль… Все хорошо в свое время. И ему не нужен жаворонок… Только – простое, человеческое сердце.
Туманно…
Возможно! Впрочем, туман тоже может быть благодатным!
Разве она не поймет, если он скажет яснее?
Поймет. Поэтому говорить не надо.
Но ведь он утверждал, что нет мечты вне нашего измерения?
Утверждал. Но за достигнутой мечтой рождается другая! Так каждый новый костюм, который мы заказываем, кажется нам, будет лучше того, в котором мы пришли к портному. Грубо? Слишком предметно?
Ничего, пусть говорит. Она, конечно, далеко не со всем согласна. У нее – свой мирок, свой крохотный опыт. Он приоткрыл краешек занавеса в мир размышлений. И в то же время – в мир большого действия. Спасибо за это! Ей казалось, что в жизни – больше ясного, нежели непонятного.
Из самого хорошего портсигара не сделаешь даже плохого чубука!
Как сие понять?
В нем что-то прорвалось. Изменился голос. И глаза стали еще более живыми.
Он не настолько глуп, чтоб не понимать, что он сейчас – просто неумен. Он говорит глупости. Но не шутит. И пусть Ксена не обращает внимания. Он – тоже человек… И может хотеть невозможного. И знает, видит, быть может, лучше других, границы, на которых вкопаны столбы с надписями: запретная зона. Но понимать – это не значит не чувствовать. Бывают пробуждения не только от дурного сна, но и от хорошего. Люди – не святые угодники, они не ограждены от дурных побуждений колючей проволокой. Хотя не за побуждения мы судим себя и других. Конечно, человек – не автомат, начиненный правилами. Но ведь и автомат порой срабатывает не так, как задумал конструктор. Главное – он еще раз повторяет – не допустить того, за что приходится краснеть или казнить себя. Это главное.
Ксена была оглушена и молчала.
Он заметил, что лучше молчания не скажешь! Это относится и к паузе в музыке…
Но из одних пауз музыку не создашь!
У нее тоже прорвалось признание: счастливая Лена! Ведь каждая девушка хочет, чтоб у нее был настоящий друг, которому можно верить и доверять.
Счастлива ли Лена? Об этом следует спросить у нее. Он может честно смотреть ей в глаза. Но если великие люди были для своих жен только самыми обыкновенными – за небольшим исключением, – то что сказать о людях простых?
Не надо так… Он гораздо лучше, чем хочет себя показать в этот последний вечер. Она тоже не слепа! И незачем ее отталкивать! Неужели он не верит в ее силу? Сейчас она еще сама не знает, что дала встреча Дружба – не синоним любви. И не псевдоним. Нет, впрочем, она сама не знает, что говорит…
Они вернулись.
Возле первого, ее, корпуса Сергей Фомич простился. Он пожелал ей счастья. Поцеловал руку.
У Ксены проступили слезы.
9
Она сидела у себя на кровати в позе, которую придумала для людей печаль. И ходила по комнате. И стояла у окна. Смотрела сквозь собственное отражение в стекле. Было странно: в комнате горел свет, а за окном лежал черный вечер и выступали из темноты освещенные окна. Она смотрела сквозь себя.
«Вижу дома сквозь свой череп…»
Потом повернула выключатель. Свет погас, но в ее глазах раза два блеснули в кромешной тьме ослепительные круги.
Вспомнила, как однажды ходила с письмом отца к одному товарищу, от которого зависело, останется ли она после института в столице… И Антон ходил. Ему тоже не хотелось уезжать к черту на кулички!
Бугорки выступают на руках, на спине. Зыбкий холодок пробегает по позвоночнику.
Так измельчать… В двадцать три…
Нет! Конечно! Будет просить, добиваться, чтоб послали на самую дальнюю стройку! Куда угодно. И чем дальше, тем лучше!
Страница перевернута. Белая страничка, на которой еще ничего не написано. А может быть, написано? Надо лишь уметь прочесть? Завтра будет день. Такой, как другие. И за этим днем придут еще. Не останавливаясь.
Сколько же ей еще здесь томиться?
Она может написать ему в Хакассию. Может даже приехать. Так, взглянуть – и ничего больше. Разве не будет рад? Не встретит приветливо? И разве Лена посмотрит косо? Или Машенька? И у них ничего не может быть против нее. Дружба не псевдоним любви! И не синоним любви!
Но почему так грустно… Дождь – дождь – дождь.
Форточка постукивает с равными интервалами о раму. Тревожно звенит жестянка. Ворчит старая подгнившая доска.
Ксена напомнила ему только молодость Лены. И сегодняшнюю Машеньку. А сама она ничего не значит… Пусть!
Хорошо быть даже отраженным светом, если источник чист. Разве мы любим только то, что принадлежит нам? Или может стать нашим? Почему же душа тянется к небу? К далеким горам? К белоснежному кружеву моря на горизонте?
Конечно, есть и другая красота. Красота завоевания, победы.
Ручеек забурлил, вспенился. Войдет ли в русло?
Пусть не входит. Разве плохо, когда он шумит, взметывается, совсем как Ольховка, которую в парке перегородили камни?
Что сказал об этом Чехов? Состояние влюбленности?
Они сидели на скамье, и Сергей Фомич читал Алишера Навои.
«Тяжело бродить по следу
И утрату видеть в нем…»
Зачем запомнила эти слова? Чтоб потом нести их в себе и никогда от них не избавиться?
Все, все, все наполнено было одним. И смысл приобретало только в одном. Зачем?
Пришла Полина Петровна.
Насмешливо бросила: уезжает, значит? А как же она, Ксена?
Не сразу даже дошло.
Оказывается, «весь санаторий» только и говорит, что о ее романе.
Ксена заплакала.
Бежать! Бежать! Как можно скорее… Как они смеют! Слезы текли и текли. И подушка стала горячей, словно компресс.
Но правда способна пробиться сквозь любую толщу зла. Дело во времени.
А здесь и времени не понадобилось.
Полина Петровна села к ней на постель. Гладила по руке, по голове. Просила прошения.
Утешения тоже могут порой оскорблять.
А знает ли Ксена, что Сергей Фомич уезжает досрочно? Ему еще осталась неделя?
Ксена села. Смотрела долго ей в лицо.
Пробуждаются не только от тяжелого сна… Так вот что это значит… Не поверил в ее силы… Хотел оградить ее. Чтоб не чернили?..
Еле дождалась рассвета. Но не вышла из дому: стояла на балконе.
Человек в плаще пронес чемодан к автобусу. Кажется, еще кто-то уезжал.
Потом загрохотал мотор. И от этого у нее чуть не оборвалось сердце. Разве можно так грохотать!
Но и грохот затих. Он был уже где-то за оградой санатория.
Накрапывал мелкий-премелкий дождь. Одинокий скворец сидел на самой высокой сосне и пел, не обращая внимания на непогоду.
Все жило, дышало утратой.
Посыпанные гравием дорожки. – Не сохранились ли следы?
Старое дерево, в дупло которого лежала кожура от мандарин. Нет ли там хоть крохотной записки?
И робкая, очень зеленая трава, закрасившая газоны. И дождик, который в эту минуту падал на обоих… Автобус ушел на вокзал. Вот рубчатый след от шин. Но поезд, возможно, не отправился. Она успеет. Могла бы успеть.
Только – зачем?
Пробуждаются и от радостного сна. Правда – лишь хорошие, честные люди.
Она села на сырую скамью. В один из дней они здесь сидели. Чего-то ждала. Еще не все было кончено.
Тяжело оставаться. Куда бы ни посмотрела – памятки. Здесь. И в городе. И в парке.
А вот вернулся автобус. Привез новеньких. Да, конечно, так должно быть. Санаторий – жизнь: одни уходят, другие приходят.
Она стоит возле машины. Шофер что-то исправляет, подняв капот. Потом встретился с ней глазами. Зашел в кабину. Вернулся. Она смотрит ему в руку. Нет… Никакой записки…
Дождик не утихает. Пусть идет еще и еще. И далеко. Мягкий, ласковый дождь, соединяющий людей.
То место в столовой никем не занято.
И это – правильно! Разве можно его занять?
Машинально что-то ела, как в день приезда, и не замечала соседей. Человек с бледным лицом, макаронными пальцами и паутинными волосами острил, и никто не смеялся. Благодушно-безразличный человек просматривал книгу. Больная раком души женщина готовилась взорваться от злости.
Плотная спина и тугой валик на шее совершали важное дело, поедая завтрак. Молоденькая женщина подавала ему хлеб, убирала в сторону пустые тарелки.
Ничто не изменилось.
Но все было другим.
Прошла в зал, на сцену.
Покрытый пылью, грустящий рояль.
Снова в Ребровой балке. И у Храма воздуха.
Дождик прошел, побледневшее небо разлилось просторно – до горизонта. Слепили солнечные лучи.
И вдруг прокатился круглый, гулкий гром!
Первый гром! После дождя. В ясную, солнечную погоду!
Ксена взобралась на скалу. Внизу лежала долина в деревьях и кустарнике, среди белых и розовых цветов. А вдали высились снежные горы, озаренные солнцем, к вершинам которых пролегали трудные, но доступные для сильного человека пути.
1960–1961 г.г.