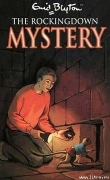Текст книги "А война все грохочет"
Автор книги: Николай Почивалин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Почивалин Николай Михайлович
А война все грохочет
Николай Михайлович ПОЧИВАЛИН
А ВОЙНА ВСЕ ГРОХОЧЕТ
В первые я увидел его лет десять – двенадцать назад.
Не мешая, он стоял в булочной неподалеку от дверей, белозубо улыбался и что-то говорил всем выходящим. Я удивленно прислушался: – Всегда, никогда. А птицы летят. Самому комдиву доложу. Праздник, выходит. Потому, что не пришли...
Все это было произнесено подряд, без всяких пауз, на одной, какой-то доверчивой и доброжелательной интонации. Не смея почему-то ни уйти, ни остаться, я без надобности перекладывал в сумке хлеб и батоны, с жутковатым любопытством поглядывал на этого человека. Если б он даже молчал, все равно невольно привлек бы внимание. Видом своим: у него были черные блестящие волосы с белыми висками и совершенно юношеское розовое лицо; одеждой своей: незастегнутое короткое пальтецо – в конце войны да и после нее такие шили из английских шинелей, перекрашивая их; трикотажные шаровары и высокие солдатские ботинки с сыромятными ремешками вместо шнурков. Наискосок, через плечо, на скрученной тесемке висела холщовая котомка: побирается, что ли? Оказалось – нет. Жалостливо вздыхая господи, воля твоя! – бабка подала ему сдобную булочку, – все так же белозубо улыбаясь, он отложил булочку на стол для покупок, быстро произнес несколько бессвязных фраз. Из-под крылатых бровей темно-карие глаза его смотрели, ни на чем не задерживаясь, – мимо всего и бездумно.
Показавшаяся в торговом зале заведующая булочной, с которой я, как завсегдатай, раскланивался, объяснила: – Офицер – на войне его так... Девчонки мои приветили его разок – чаем напоили. Вот он теперь и ходит.
То несколько дней подряд, то с месяц не показывается. Он тихий так. С матерью живет. – В белом халате, немолодая и полная, она помолчала, жестко, горько ли поджав бледные некрашеные губы, позвала: – Вася, иди чай пить.
Словно только и ожидая приглашения, человек часто и мелко закивал, радостно зачастил:
– Чай, чай, чай, чай! – Он проворно растянул холщовую котомку, извлек из нее зеленую эмалированную кружку. И негромко, каким-то ребячьим голосом запел:
Бропя крепка, и танки наши быстры!..
Меж лопаток у меня потекли холодные мурашки; я выскочил из булочной, не узнавая погожего майского утра – зеленого, солнечного, с бесшабашным птичьим ликованием: все вдруг утратило свою яркость, странно поблекло, притихло, в ушах и где-то еще внутри звучал, не отпуская, один-единственный ребячий чистый голос, бесстрастно и бездумно поющий о крепкой броне и быстрых танках. Как отчетливо помню и это ощущение: собственные радости, огорчения и заботы показались незначительными, досадно мелкими, даже – неприличными...
Потом я видел этого человека еще несколько раз; однажды летним воскресным днем встретил его на центральной улице: в легкой рубахе навыпуск, в мягких тапочках, с неизменной, через плечо, холщовой котомкой, он шел, непрерывно говоря и улыбаясь, и оживленная нарядная толпа, затихая, послушно расступалась перед ним. В булочную я стал ходить не утром, а попозже, когда его уже там не бывало – убедив себя, что по времени удобнее, а на самом деле, следуя эгоистичному и разумному инстинкту самоохранения, без чего, вероятно, жизнь была бы и немыслимой...
...А сегодня в булочной я буквально налетел на него – сразу же узнав и одновременно, в ту же первую секунду, засомневавшись: он ли? На нем было памятное пальтецо-шинелька, те же неизносимые солдатские ботинки, зашнурованные сыромятными ремешками, та же, наконец, холщовая, с кружкой, котомка через плечо, но некогда глянцево-черные волосы, только с висков побеленные, серебрились так густо, что казались теперь грязносерыми. И тем разительнее выглядело его лицо – по-прежнему молодое, по-юношески свежее, с доверчивой ложбинкой на подбородке. Он, как обычно, улыбался и, сверкая великолепными зубами, говорил, говорил, вовсе не заботясь, есть кто рядом или нет.
Девчата-продавщицы в нашей булочной много раз за эти годы менялись, а заведующей работала все та же полная, нынче уже пожилая женщина, запоздало начавшая пудриться и краситься.
– Что ж, Вася, пойдем чай пить, – устало и ласково пригласила она и осведомилась у стоящей рядом старушки в темной шали: – Может, и вы, Анна Трофимовна?
– Благодарствуй, голубушка, – кротко отозвалась та, крученые кисти ее старинной шали при легком поклоне дрогнули, качнулись. – Я уж тут подожду.
Довольно бормоча, Василий ушел с заведующей, неся в одной руке ушанку, а в другой наготове зеленую эмалированную кружку; проводив их взглядом, старушка вздохнула, задержала на мне светлые, размытой синевы глаза, окаймленное краями темной шали, лицо ее было рыхло, изрезано морщинами.
– У каждого, похож, своя кручина, – простои раздумчиво сказала она, имея в виду, как почему-то показалось мне, и привечавшую Василия заведующую булочной, а возможно, и многих других: ибо, в самом деле, разве мало вокруг людей, у которых при внешнем благополучии тоже есть свои горести, свои боли?
– Лечить вы его не пробовали? – спросил я, чувствуя, что уйти сейчас нехорошо.
– Да как же, как же! – попрекнула она за такую несуразицу. – Куда не ездили, где не лежал! И бодрить уж перестали: никакой надежи.
– Отчего это у него?
– Известно отчего – от фронта. Дружок приезжал, – говорил, в газете описывали: прыгнул он на своем танке с самой кручи. Фашистов этих подавил – видимо-невидимо! Орден дали. – Потемневшие, налившиеся давно растраченной, выплаканной синевой глаза старушки померцали, засветились гордостью и снова, как выключенные лампочки, погасли. – Вытащили – как мешок с костями.
Руки-ноги срослись, а самое-то главное – не вертается.
Было-то, может, всего и осталось, что к людям да на люди манит. Как сюда вот. И ведь не в обузу – нет!
У него и посудинка своя, и сахару завсегда два кусочка с собой берет. Побудет тут – вроде у него что и отмякнет.
Всю ночь без малого спокойно спит. А так ведь – ходит, бродит, говорит! Исказнишься вся, вникая: ни одного ведь словечка не разберешь, все мимо да врозь. Разве что когда брить его начнешь, тогда только мало-мальски разумное и услышишь. Это уж я точно приметила. Усадишь его, простынкой закроешь, станочек его безопасный соберешь, щеки намылишь, – он строговато так и окликнет: "Андреев, – полубокс". Парикмахер это у них там, сказывали, был. Андреев-то. Опять же – побреешь, полотенцем ототрешь его, ровно вскинется: "Лиза – пришла?" И разборчиво, говорю, все!..
– Девушка, – подсказал я.
– Была когда-то, да вся вышла. – Старушка слабо, грустно покачала головой, с ней легонько покачались и крученые кисти шали. – Служила доктором в части у них.
Узнала от его дружка, от Степы, – прилетела. Сейчас-то она профессор, в Ленинграде живет, на пенсию уж скоро, говорит, – внуки большие. Целый день с ним просидела.
Все ему брови гладила. Они у него видали какие – разлетистые. Гладит, гладит, говорит ему чего-то, в лице-то у самой – ну, скажи, ни кровиночки. А он только разочек – застонал, что ли, ровно ему больно стало. И опять все эдак же – смотрит напрямки и не видит ничего. Смеется и все лопочет, лопочет – как маленький. Утром прилетела, а сразу после обеда такси заказала. Опять же на самолет. "Анна Тимофеевна, – говорит, – родная моя, простите, не могу! Если что понадобится, куда определить потребуется пожалуйста, все сделаю!.." А что тут сделаешь, – кто сказал бы?..
Сухие, огромные, какие-то стылые, предзимние – как низкое небо перед первым трудным снегом – глаза старушки смотрели так прямо, требовательно, в невыразимой муке своей, что я поспешно отвернулся.
– Господи, прости ты грех мне великий, – кротко вознесла она жалобу, рыхлое, раскроенное морщинами лицо ее порозовело. – Может, легче ему было, если б лег он, как другие, – под памятником?.. Об одном молю: чтоб продлились дни мои. Помру – кому он без меня нужен будет.
Я хотел возразить, запротестовать, потому что все это было не так, неправда, несправедливо, наконец; и смолчал, словно подавившись, растерянный перед ее особой правдой. Да, что бы с ней ни случилось, танкист-фронтовик, инвалид Великой Отечественной никогда не останется без внимания, никогда не кончит тем, чем в его положении могли бы кончить и кончают в другом мире, на трех четвертях земного шара! Да, понадобится, к нему примчится фронтовой друг Степан, прилетит профессор из Ленинграда. Да, его могут поместить в любую клинику, в самую лучшую клинику, в любой специальный пансионат, самый лучший пансионат, где он будет жить, не зная никаких забот, и при всем при этом кому он будет нужен так, как ей матери!..
Словно поблагодарив за что-то, может быть, именно за то, что смолчал, не сказал ничего из того, что она уже слышала и еще много раз услышит, старушка поклонилась, тем и отпуская меня. И сама сказала слова, которые я, будь моя воля, выбил бы на памятнике Матери Скорбящей:
– Кому война давно кончилась, а для нас с сынком она все воюет. Все убивает!
В дверях меня настиг ребячий чистый и бесстрастный голос:
Броня крепка, и танки наши быстры...
1975