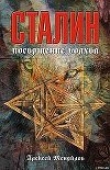Текст книги "Иосиф Грозный
(Историко-художественное исследование)"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Она была единственной женщиной, которой великий вождь целовал руки. И сначала она робела, отнимала их, боялась, а потом привыкла, сама гладила его по серой, редеющей уже излетным старческим волосом голове. Гладила благодарно, и он, не стыдясь своих поцелуев, лишь крепче притискивал к себе здоровой рукой ее затяжеле лый чувственный стан.
Сталин и на отдыхе не менял своих привычек. Это была лишь ежегодная смена места работы, и только. Что вообще значит отдыхать? Лежать на пляжном песке и греться на крепком южном солнце? Но в одиночестве он этого не любил. Валечка на пляжи не приглашалась. А приглашать соратников и прямо ли, косвенно ли терять таким образом лик ВОЖДЯ не хотел. Мужчина, раздетый до трусов, вряд ли потом мог быть вождем, тем более великим! И потому Сталин ходил на пляж теперь только по утрам, ненадолго, один, в полосатом халате. Окунувшись раз-другой в море, возвращался на берег.
Плавать далеко не давала все более сохнущая левая рука, да и вообще море тяготило, внушало какой-то нелепый неврозный страх, хотя купальни везде были ограждены, везде было мелко. Сталин вообще не любил больших водных пространств еще с тех ссыльных времен, когда ему приходилось ловить рыбу и волей-неволей общаться с тяжкими и страшными северными реками.
Раздетого Сталина не видел почти никто (охрана была расставлена так, чтобы не мешать ему, и, чтобы не наблюдать за вождем, стояла спиной к пляжу). Телом Сталин никогда не мог похвастать. Обыкновенный, пожилой, не развитый физически. С тридцатых годов начавший заплывать жирком живот, тонкие ноги, руки разной длины – это скрадывала одежда, спаренные пальцы на ногах, родинки, где надо и не надо.
В тридцатые годы бывали со Сталиным на дачах только Киров и позднее Жданов. И Кирова Сталин перестал приглашать, когда тот отказался редактировать учебник истории партии и стал в разговорах резче, неуступчивее. Этого было достаточно – от вождя не ускользало ничего, любое изменение интонации голоса заставляло пристальнее всматриваться, делать тайные выводы. «Подозрительность скорее добродетель для государя, чем порок», – всегда помнил он наставления Никколо Макиавелли.
Итак, повторяю, отдых Сталина был лишь сменой места работы, работы, работы, и день протекал здесь так же, разве что иногда Сталин раньше ложился и раньше вставал, завтракал не в 11, а в 9 часов.
С 12 начинался его «рабдень». Докладывали руководители разведок (или их первые заместители), далее он рассматривал деловые бумаги, требующие утверждения, подписывал документы, накладывал резолюции, вызывал своих рабочих секретарей для поручений, изредка принимал кого-то днем, но в целом прием, ограниченный дачей, проходил вечером и затягивался иногда за полночь, точно так же, как в Кремле.
Раз в неделю или в полмесяца (нет точных данных) Сталин рассматривал ВСЮ почту, пришедшую на его имя в Кремль и доставленную на дачу в запечатанных мешках специальными фельдъегерями. Узнав от своей разведки, что письма на его имя в иных обкомах вскрываются, Сталин вспылил и издал строжайший приказ все письма на его имя направлять в канцелярию Кремля. И уже здесь их сортировали бойкие помощники, передававшие Поскребышеву все, что заслуживало внимания.
Но и этот процеженный поток не устраивал вождя, и потому он периодически устраивал работу со всеми письмами. Помощники только вскрывали письма и передавали Сталину, а он, быстро отсеивая пустую породу, вылавливал и немало дельного: предложений, доносов на врагов, просьб, жалоб (их было больше всего), разного рода сообщений. Это был единственный вождь, кроме, может быть, еще Ленина, регулярно читавший письма.
Из нескольких мешков выбирались две пачки: левая и правая. Обычно в левой лежали самые дельные письма, а в правой те, что не требовали быстрых решений.
Безотказно работала также красная связь по «вертушке», и Сталин кратко, но постоянно говорил со всеми членами Политбюро, министрами,
Генштабом. Поскребышева Сталин часто брал с собой, чтобы не нарушался как бы режим его кремлевской работы. Кабинеты Сталина на дачах во многом напоминали кабинет в Кремле или комнаты в Кунцево, вождь любил единообразие во всем. Даже на относительно дальней даче в Семеновском был построен дом, похожий на дом в Кунцево и также с двумя верандами, а Берия еще выстроил для Сталина дачу на Валдае, в очень красивом месте, однако недоверчивый Сталин лишь раз побывал там и, пробормотав что-то вроде: «ловушка», – уехал. Был надстроен второй этаж и над кунцевской дачей. Туда Сталин почти никогда не поднимался, а в 49-м, во время празднования 70-летия, там некоторое время жил Мао Цзэдун.
Так вождь отдыхал до 1–5 ноября, когда специальным поездом и всегда неожиданно возвращался в Кремль, точнее, в Кунцево, к великой радости Валечки, не любившей юг, страдавшей там от жары и полноты, о чем она, однако, никогда не говорила вождю.
А время брало свое. Поток дел, обрушивающихся на Сталина, возрастал, здоровье же уходило с каждым годом, а теперь, может быть, и месяцем. Душила эмфизема от многолетнего непрестанного курения, табачная астма, все чаще давали себя знать приступы удушья, по ночам тяжко болело сердце, по утрам льдом давило голову. Старался больше бывать на воздухе, теперь и зимой, самом тяжелом для него времени; в теплом тулупе, в подшитых валенках, в зимней шапке или папахе работал на верандах, а то и в беседках, рассеянных во всему кунцевскому парку. Ходил и просто по неглубокому снегу, сыпал в кормушки орехи и семечки, смотрел, как синицы, поползни и белки таскают даровое угощение, и что-то не то шептал, не то бормотал, ведомое лишь ему. Старость – не радость. Перемогать ее, как тяжкую болезнь, могут немногие, самые умные или уж безнадежные дураки из тех, что на праздниках пытаются плясать вприсядку и лезут целоваться с визжащими от ужаса девками… Люди же обычные начинают искать эликсир молодости, бегать трусцой, обливаться на морозе, становиться вегетарианцами, не едят масло, соль, сахар, жить по заветам какого-нибудь чудака-прохиндея и в конце концов завершают жизнь раньше срока.
Иногда Сталин просто сидел, уставясь в никуда, окаменелый, жалкий, подчас засыпанный снегом. Припадки равнодушия (депрессии), в общем, обычные для людей, рожденных под знаком Стрельца, становились у него все более частыми и тяжкими. В такие дни и даже периоды он не хотел никого видеть, не подписывал бумаги, не принимал «соратников», не собирал Политбюро и переставал встречаться с Валечкой. Мужчины «в возрасте» знают, какая тяжкая напасть добавляется еще к и так нерадостному их бытию…
Душа стыла, выветривалась, силы таяли, громада страны грозила вот-вот раздавить, приплюснуть.
Но после каждой такой депрессии Сталин вдруг словно вскипал, и начинались опять плановые заседания Политбюро, выговоры министрам, разносы военачальников (уже шла война в Корее!), устраивал втык Берии, Абакумову, Круглову, Серову за то, другое, третье, пытался воспитывать то дочь, то сына. Вернул на стол фотографию жены, все более ополчался на «безродных космополитов» – так закамуфлированно именовались большей частью евреи, и продолжал искать врагов – дело, которое Сталин не прекращал никогда. Теперь вместо надоевшего Макиавелли Сталин все чаще читал откровения Гитлера, переводившиеся ему вплоть до «Застольных бесед». Там находил он наряду с полным бредом весьма дельные поучения для себя.
Так, например, он выделил из высказываний фюрера следующее:
«Если теперь где-нибудь в рейхе вспыхнет мятеж, я незамедлительно приму следующие меры:
Во-первых, в тот же день, когда поступит сообщение, я прикажу немедленно арестовать в своих квартирах и казнить всех лидеров враждебных направлений, в том числе и политического католицизма. Если бы в России 17-го года Временное правительство поступило так же или этот русский блаженный Николай еще раньше приказал перестрелять большевиков – все было бы не так, но он пожалел большевиков и за это заплатил своей головой и головами своих детей…
Во-вторых, я прикажу расстрелять в течение трех дней все уголовные элементы вне зависимости от того, находятся они в тюрьмах или на свободе. На основании имеющихся списков я прикажу собрать (их) в одном месте – и расстрелять.
Вот так!! Расстрел этого, насчитывающего несколько сот тысяч человеческого отребья сделает излишним все остальные меры, поскольку ввиду отсутствия мятежных элементов и тех, кто смог бы выступать вместе с ними, мятеж с самого начала обречен на поражение».
«Да, – подумал Сталин. – Гитлер был в чем-то, пожалуй, решительнее меня, и еще неизвестно, кто у кого учился».
Не будет преувеличением сказать, что Сталин постоянно держал в поле зрения и все советское искусство. На доклады к нему чуть ли не еженедельно приглашались Фадеев, Сурков, председатель Госкино Большаков, председатели комитетов по делам искусств Храпченко и Беспалов, Сталин приглашал для бесед режиссеров, актеров, художников, скульпторов, прозаиков и поэтов, читал творения выдвинутых на Сталинские премии, смотрел новые фильмы и спектакли, слушал музыку. И пусть оценки его были субъективны, подчас грубы, можно сказать с определенностью: все последующие генсеки по сравнению с ним были просто неотесанные, безграмотные, не владевшие даже элементарной культурой восприятия искусства. Так было.
В конце жизни Сталин почему-то стал читать развлекательную литературу. Может быть, просто хотел отвлечься от болезней и тягостных мыслей. Так в списках для домашнего чтения появились книги Стивенсона, Конан-Дойля, Хемингуэя, Хаггардта и даже Дюма. «Три мушкетера» хранят следы его пометок, зачитаны. Среди общеизвестных героев романа Сталин, видимо, с особым удовольствием выделял Арамиса (думается, не случайно, ведь Арамис и был нерукоположенным священником!). А если вспомнить, что был еще самым ловким, скрытным, хитрым и предусмотрительно храбрым, то можно представить, как вождь удовлетворенно поглаживал усы, перечитывая, как Арамис, оскорбленный неким офицером с обещанием избить его палкой, отказался от сутаны. «Я объявил святым отцам, что чувствую себя недостаточно подготовленным к принятию сана, и по моей просьбе обряд рукоположения был отсрочен на год. Я отправился к лучшему учителю фехтования в Париже, условился ежедневно брать у него уроки и брал их ежедневно в течение года». Не желая пересказывать Дюма, замечу, что вождю, видимо, особенно нравилась исповедь Арамиса и ее заключительные фразы: «Я привел его на улицу Пайен, на то самое место, где год назад, в это самое время, он сказал мне любезные слова, о которых я говорил вам (д'Артаньяну). Была прекрасная лунная ночь. Мы обнажили шпаги. И первым же выпадом я убил его на месте».
Литературный герой так часто имеет в жизни двойников, героев невыдуманных.
Писатели же советские – «ручные» – были нужны Сталину лишь как древние поэты-блюдолизы на пирах владык, и, присуждая им премии, Сталин только скрывал высокомерное презрение владыки к рабу-полуотпущеннику. Но однажды и его, Сталина, затошнило, когда стал читать роскошную, богато изданную книгу «Письма белорусского народа великому Сталину» в переводах Петруся Бровки, Петро Глебки, Максима Танка. Почитав славословия, где его сравнивали и с солнцем, и с горами, и с вершинами, и еще неведомо уж с чем и кем, пробормотал:
– Совсэм ужь с ума посходыли… дуракы.
Но премии дал…
Однако, читая такие славословия, Сталин всегда вспоминал заповедь матери: «Если тебе льстят, подумай, что у тебя хотят украсть».
А недремлющая разведка доносила: соратники постепенно теряют страх перед ним. Разведка доносила: кучкуются, сговариваются, копят силу, объединяются. И мало ли что можно ждать от них в самое ближайшее… «Ослабевшего льва одолевают и шакалы».
Почитывая Дюма, Сталин думал о том, как еще раз заставить своих соратников трепетать перед ним! Здесь было мало одной силы. Здесь нужна была хитрость. А что, если притвориться более дряхлым, чем он был, более глупым и доверчивым? Не так ли, кстати, поступал Иван Грозный? Созвать парадный съезд, где после славословий и оваций смиренно заявить об отставке… Великий ход? И опять – ТАК поступал царь Иван. Съезд не примет отставку, съезд снова вручит ему все полномочия, и вот тогда, превратив Политбюро в Президиум партии, увеличив его своим новым большинством, он и ударит по поднявшим голову соратникам. А там станет видно: кого и куда.
Глава двадцать первая
СТРАШНАЯ МЕСТЬ
А она заплакала и сказала: «О господин мой, когда я опять увижу твое прекрасное лицо?»
Из арабских сказок
Берия копил ненависть к неподкупному солдафону генерал-лейтенанту Власику. А Николай Сидорович Власик, для благозвучности приказавший всей обслуге-охране именовать себя Николаем Сергеевичем, столь же глубоко и тайно ненавидел Лаврентия Берию. И оба: главный палач и главный охранник – не могли равнодушно смотреть на старшую сестру-хозяйку Валентину Истрину – Валечку, уже пятнадцатый год верно служившую вождю и упорно, спокойно отказывающую хватким и откровенным предложениям Лаврентия Павловича и упрямым (о тупое мужское самоуправное домогательство! Как часто ты делаешь все-таки женщину покорной, стонущей рабыней) намекам генерала Власика, так или иначе ежедневно общавшегося с пригожей «хозяйкой». Оба претендента боялись Сталина, но оба и лучше всех ведали о любовных успехах-утехах вождя, ведали и знали: давно все идет на убыль. А Валечка теперь имела квартиру в Москве, в Кунцево приезжала на работу и все реже и реже оставалась здесь «ночевать», хотя старая комната здесь была ее по-прежнему.
Нет, Валентина Истрина никогда не была «проституткой», «подстилкой», как именуют в таком случае женщин злые языки, ни в чем не имела никаких выгод, не искала и возможностей изменять тирану-вождю. Прежняя восторженная любовь-обожание, как и все на свете, наверное, ушла, но осталась тревога, забота постоянная о его здоровье, и по-прежнему Валечка старалась, как могла, помогать, как могла, ободрять и, как могла, «соблазнять», ибо теперь это стало уже необходимостью. Умная Валечка знала: мужчина, да еще такой, как Сталин, требует точного до мелочей исполнения всех своих прихотей-склонностей, каких за полтора десятка лет она немало усвоила, и старалась совершенствоваться в этом умении. Это была отменная, редкостная служанка, без ропота определившая свою жизнь и молодость, чтоб не сказать судьбу, как служение и поклонение капризному и, крути не крути, взбалмошному тирану. Может быть, их отношения напоминали тот самый, увековеченный в арабском сказочном фольклоре вариант, где жестокий Шахрияр всякий раз щадил Шахразаду за недосказанную сказку. Натянутое сравнение, но что-то в нем, согласитесь, есть.
Сталин же стремительно, неудержимо старел. Дряхлость – бич всех царей и диктаторов, умудрившихся дожить до преклонных лет, – была-нависала неминуемой карой, и ее страшились, ей противились, негодовали, возмущались, применяли все попытки найти омоложение. С этой целью заблаговременно, еще до войны, Сталин распорядился создать институт геронтологии. Его возглавил некто Богомолец, впоследствии лауреат, герой труда, академик. Богомолец обещал продлевать жизнь до 150–200 лет. Сам он умер в 65, а институт, истратив кучи денег, ничего путного так и не создал.
Разочаровавшись в медицине, боясь врачей и лекарств, Сталин пил травяные настойки, молодое вино (сок), сырые яйца, ел лимоны и чеснок, вареную кукурузу, бананы – привозили после войны, считалось, что продлевают жизнь: в Перу-де, Эквадоре ли жил будто индеец двухсотлетнего возраста – и на одной банановой каше…
Старость. Безразличие. Снежная подлая седина. Кто там врет: седина-де красит мужчину. А на самом деле так горька эта подлая жизненная соль-предвестница… И уже Валечка едва удерживалась, чтоб не выдать как-нибудь случаем, когда сухая старческая рука в рыжей крупке еще пыталась ласкать, – не выдать желания отодвинуться. «Не вливают молодое вино в старые мехи…» Азарт Сталина, казалось, несокрушимый еще в недавние военные годы, когда Валечка, измотанная подчас этим ненасытным кавказцем, ходила со счастливым блеском в вишневых глазах, с тем блеском-холодом удовлетворенности, с каким женщины становятся невозможными, недостижимыми для всех домогающихся их и противными этой биологической, скажем так, насыщенной неприступностью, иссякал. И, надеюсь, вы встречались с описанной их сытостью – что-то общее с неизреченным молчанием каменной скалы.
А дальше пришлось опираться на смутные, зыбкие предания, ибо люди из обслуги Сталина либо давно умерли, исчезли при неизвестных автору обстоятельствах, либо были так законспирированы организацией, в которой они состояли, что, образно говоря, были лишены языка. Молчанием и тайной была окутана вся жизнь Сталина, молчанием и тайной скрывалась его любовь, молчанием и тайной остался его исход. И сведения о конце последней любви его теряются в том же молчании, но роман требует какой-то близкой к сути жизни развязки, и такая развязка, вполне очевидно, была…
До сих пор никто с точностью, близкой к достоверной, не объяснил поступков Сталина после его семидесятилетия, отпразднованного с шизофренической активностью. Что творилось с нормальными людьми в стране, не стоит описывать – возьмите любую пожелтелую газету того времени.
Но после семидесятилетия и XIX, «странного» съезда партии, где Сталин выступил с краткой речью (доклад делал Маленков), полной перетряске подверглось все Политбюро. Оно резко возросло численно, стало называться Президиум, – попал туда, кстати, уже и Л.И. Брежнев (кандидатом). А с 49-го, напоминавшего по арестам 37-й, опять начали лететь со своих постов, казалось бы, самые каменные фигуры, близкие к Сталину. Происходило, в сущности, нечто, уже не раз бывавшее в истории, когда тиран вдруг ополчался на ближних и начинал их казнить. «Не будь ни слишком далеко от царя – он станет для тебя бесполезным, ни слишком близко – он погубит тебя», – гласит древняя индийская мудрость.
Летели с постов министры… Почти под домашним арестом оказались «ближние»: Молотов, Ворошилов, Андреев, Буденный, в конце концов был отстранен-арестован Поскребышев (оказался по жене родственником сына Троцкого).
А Валечка Истрина? А Николай Сидорович Власик? Предания говорят, и Валечка исчезла из обслуги. Ее заменила Матрена Петровна Бутузова, уборщица и кастелянша, пожилая женщина, убиравшая комнаты Сталина, а то и приносившая ему завтрак и ужин. Рассказывалось, что Сталин подарил ей свой портрет-фото с дарственной надписью, чего не делал обычно ни для кого.
И в тех же преданиях говорится, что летом 1952 года в городе-лагере Магадан появилась красивая полная молодая медсестра, которая содержалась на каком-то явно особом режиме. Ее никто не смел трогать, превращать в наложницу, как это легко и просто делалось во всех лагерях и зонах. Фамилия медсестры была Завьялова. И еще было известно, что женщина эта все время плакала, исходила слезами, и каждый день приходилось принимать от нее письма, адресованные не кому-нибудь, а «лично товарищу Сталину». Письма такие и от таких заключенных ни вскрывать, ни задерживать было нельзя. Их отправляли в канцелярию Кремля, и судьба их была никому не известна.
Если благообразный и налитой спесью генерал-лейтенант Власик по-прежнему с любовью и тоской взирал на холмистые прелести сестры-хозяйки, то Берия перешел к действиям. Не в его манере было отступать перед облюбованной женщиной, а Сталина он уже словно и не опасался. Было точно известно, что вождь давно не проявляет к Валечке прежнего интереса, ничего не может, страдает одышкой, лечится без конца, а в Политбюро уже готова ему новая оппозиция из старых соратников, и у каждого из них имеются к вождю спрятанные до поры счета. Люди везде остаются людьми, и страх быть изгнанными может придать им смелость.
Валечка же теперь жила в Москве. У нее была своя хорошая квартира, Берия решил разом нарушить все связывающие его путы. Однажды под вечер в квартире Валечки раздался долгий, настойчивый звонок, и Берия появился на пороге с букетом роз и грузинской плетенкой, наполненной фруктами, бутылками, шоколадом, конфетами. Был в маршальской форме.
Остолбенела Валечка, не зная, что сказать, только смотрела расширенными зрачками на человека, привычного ей по застольям у Сталина и столь нежданного у нее в доме.
– Ну, Валэчка, здравствуй! – густым хрипловатым басом изрек Берия. – Я… прыэхал поздравыт… С дном раздэныя… Ведь… завтра? Нэ так ли? А?
– Да… – пробормотала она. – Но… Ведь… Завтра… И… И… И я… Я… не…
– Хочэшь сказат, нэ жьдала? А я… я нэ гордый… Сам прыэхал… Давно хатэл… а прыэхал – угощай!
Все еще отказываясь понять суть нежданного визита, надеясь, что все как-нибудь обойдется, Валечка стала накрывать на стол. А Берия деловито помогал, откупоривал бутылки, резал сыр, колбасу, вообще вел себя привычным хозяином за столом. «Может быть, – думала Валечка, – все это его блажь: посидит, выпьет, поухаживает и уйдет». Робко пригубливала вкусное вино. Была из непьющих. А Берия жадно ел и пил за двоих, дергал очками вверх после каждого стакана, вытирал рот надушенным платком и все победнее и победнее смотрел на перепуганную, смущенную женщину. Да. Любому, любому дала бы она отпор, не побоялась… Но только не этому… «Может, еще уйдет?» – повторялась мысль.
Но не таков был этот человек. Крепко выпив, он встал из-за стола и подошел к ней, тоже вскочившей, окаменело ждущей. Может быть, Берия обладал гипнозом, которым владеет удав, хватающий свои жертвы?
Потом она сидела, склонив голову, растрепанная, растерзанная, боящаяся проронить слово, а он сидел рядом, гладил ее по плечу и самодовольно сыто сопел. Наконец сказал:
– Слущай… Я… может, этого вэчэра жьдал дэсят лэт. Илы болшэ… Сразу влюбился в тэбя. В твою красоту… в твою задныцу… Но… Ти сама знаэщь…
Робко посмотрела исподлобья, перевела взгляд на портрет, висевший на противоположной стене. Молодой Сталин смотрел на нее, на них, подняв бровь. Опустила глаза. И Берия тотчас понял:
– Чэго смотрыщь? Он же тэбя бросыл. Он до тэбя издэржялся, пэрэеб вэс Болщей тэатр… Ти нэ знаэщь… сколько у нэго било баб… Я знаю… И тэпэр он ны к черту нэ годэн. И запомни… Нэ он хозяин в странэ. Я хозяин! Скоро так будэт… Я. Но прэдупрэжьдаю… Пикнэщь… Будэщь в лагэрях… У тэбя вэдь ест сестра? – И, не дожидаясь ответа: – А у сэстры мужь… был в плэну… Сэйчас влагэре… Поняла?
Она плакала.
– Ладно… Утрыс… Харощая ты телка… Часто бэспокоит… нэ буду… Иногда… Я вэд тоже… грузын. Прывыкнэщь… Нэ бойся и помни, Лаврэнтий Бэрия на вэтэр слов нэ бросаэт…
И, одевшись, нацепив очки, вдруг быстро ушел. О его приходе напоминала лишь корзина с фруктами и бутылки на столе, которые Валечка тотчас понесла в ванную, чтобы вылить вино в унитаз.
Черное вино текло, как жидкая кровь.
* * *
А через неделю генерал Власик вдруг обнял ее в коридоре, у комнаты, обнял совсем собственно. И на попытки возмутиться произнес:
– С Берией таскалась? Мне ведь все известно. Ты думала: за тобой нет пригляду? Есть, Валечка, есть… Е-есть… И теперь дело за тобой. Я ведь тебя для себя искал. Для СЕБЯ тогда выбирал. Да САМ тебя у меня выхватил… А Берия… Берия потешится – бросит. Баб у него, кобеля… Школьница даже есть… Поняла? А я не брошу… Я – люблю. Я, может, сколько ночей из-за тебя не спал! Извелся… было, – и начал целовать в щеки, в волосы жадно, табачно, водочно… Мял громадными ладонями. Притискивал.
И – странно, по сравнению с Берией, она почувствовала вдруг некое неясное облегчение.
Вот уже третий из самых главных в стране объяснился ей в любви. Самых главных и грозных.
* * *
Сталин же еще с пятьдесят первого года словно забыл о ней. Теперь он редко жил в здании самой двухэтажной дачи. Чаще в домике, построенном специально для одного, и так закрыто и отдельно, что даже всю обслугу заменил одной старательной, невзыскательной Матреной Бутузовой, которая и подавала одежду, и гладила, и следила за чистотой, и приносила обед. И на самой даче Сталин прекратил прежние большие обеды для Политбюро. Часто теперь одиноко сидел у камина, иногда приносил какие-то бумаги и жег их лист за листом. В таком же одиночестве сидел он и на верандах, вглядываясь в лесопарк, точно ожидая появления чего-то спасительного.
Валечка нежданно оказалась как будто отстраненной от вождя и от всех своих прежних обязанностей. Сталин словно забыл о ее существовании. Напомнить же ЕМУ о себе было попросту невозможно.
Зато Власик при каждом удобном случае дарил ей теперь свою заботу и внимание. Вероятно, Валечка с горечью (или с радостью?) примирилась с безразличием вождя, вероятно, посчитала себя теперь даже свободной. И – ошиблась, как все бывшие и бывавшие у Сталина, при Сталине, возле Сталина. Сталин не забывал ничего, никого, никогда.
И если разведка его, возможно, упустила визит Берии, то Берия не собирался отдавать Власику пригожую медсестру. Надо было что-то решать, а Берия из всех стальных солдат Сталина, за исключением, пожалуй, маршала Жукова, с которым, как он считал, уже разделался, спровадив сперва в Одессу, а потом еще дальше, в Свердловск, был наиболее решительным солдатом. Делить мягкую красавицу с ненавистным Власиком он не хотел. Отдать вот так просто было не в его привычках.
На Власика Берия давно копил компромат, а заодно подготовил досье и на Поскребышева. Выяснилось: женат на родственнице жены сына Троцкого Седова. Берия едва не прыгал от радости: самые надежные и ближайшие к Сталину люди оказались в его железном кулаке.
В один далеко не прекрасный летний день Берия явился в Кунцево с особым докладом.
Стояло начальное подмосковное лето. Зной и сушь. А Сталин с годами все тяжелее переносил как морозы, так и жару, на которую раньше не обращал внимания, но теперь астма, эмфизема легких и гипертония долили его. Но, возможно, не только гипертония. Если кто-то считал, что вождь стал равнодушным к женским прелестям, к отстранению Валечки, тот ошибался. Просто ВОЖДЬ не желал НИКОМУ демонстрировать свою слабость и немощность. Никому… Даже врачам… Даже своей многолетней наперснице.
Никто не знал, как Берия доложил о двойной измене Власика (обвинялся еще в присвоении денег), «измене» Поскребышева, «измене» медсестры.
Последнему Сталин не поверил. Но Берия не был бы Берией, если бы не заготовил фото, пусть не прямо, но косвенно говорившие за себя.
Сталин буквально выгнал Берию. И тут же приказал вызвать Валечку. Она была на даче.
Вошла. Сталин сидел в расстегнутой ночной рубашке на диване и держал в руке пустую трубку. Уже около года он не курил, но трубку продолжал носить с собой и брал в руку, когда был чем-то особенно огорчен, взволнован или принимал важное решение. Сообщение Берии показалось ему, столь битому жизненными обстоятельствами, невероятным. В ком, в ком, но в своей Валечке он был уверен, казалось, на тысячу процентов. Он и до сих пор все-таки не верил… хотел не верить (и, в общем-то, был прав). Неужели все женщины не способны к верности? Однако когда-то, кажется, с подачи прежнего секретаря Товстухи, он прочитал полную ненависти и презрения к женщинам книгу Отто Вейнингера «Пол и характер», где этот Вейнингер отрицал у женщины все: ум, таланты, характер – и довольно логично доказывал, что женщина – это всего лишь бледное подражание мужчине, его отражение. В общем, низшее существо, декоративная игрушка, и что ей, женщине, никогда нельзя доверять. Примерно то же самое утверждали и древние индийские трактаты о любви, и, читая их, Сталин соглашался, не доверял балеринкам и актрисам. Но Валечка?! А книгу Вейнингера, помнится, одобрил, но запретил издавать, приказал убрать в спецхран.
– Ну щьто? Ти… забыла нас? Совсэм… забыла? – сказал Сталин, как-то приниженно и горько усмехаясь, так что усмешка его получилась скорее похожей на гримасу плача без слез.
Никогда она таким его не видела. И отзывчивой болью ворохнулась, должно быть, ее душа. На Сталина было страшно смотреть. И почему, почему женщины считают, что мужчины легче переносят их измены? Да. Смотреть на Сталина было страшно.
– Что вы… Что… Иосиф Виссарионович, – пробормотала она, словно клонясь под его вспыхнувшим, истинно расстрельным взглядом. – Что вы?
– Дай-ка мнэ… стакан! – приказал он. – Стакан – вон! Воды налэй.
И когда она, как прежде, ловко поворачиваясь, налила воду и подошла, он принял стакан. Но не стал пить. Держал в дрожащей руке и только смотрел, не снимая с нее яростного взгляда.
Она почувствовала, что колени у нее вот-вот сами подогнутся.
– Из твоих рук только пил! – произнес он. – Пил! А тэпэрь ты и пей! Сука! Бляд! Сволоч! Пэй! – И с этими словами бросил ей стакан в лицо и, вскочив, стал бить сухими рыжими кулаками.
А Валечка, упав на колени, лишь закрывала лицо и молчала.
– Пошла вон! Сука! Твар! – прорычал он как будто прежним мужским голосом.
И рухнул на диван.
Все, предположительно и утвердительно писавшие о Сталине, отказывали ему в обычных человеческих чувствах, и, если бы написать, что Сталин рыдал и трясся, кусал руки, наверное, автору бы не поверили, так много и определенно сказано в тех книгах об отсутствии у него простой человеческой души.
* * *
В 1952 году у Сталина случился второй и уже более тяжелый удар. На время отнялась половина тела, но он сохранил речь, а вскоре смог вставать и ходить. Сталин по-прежнему лечился сам, не обращался к врачам, тем более что уже зрело «дело врачей-отравителей», явно сфабрикованное, ибо при желании и знании в медицине кого угодно можно обвинить в чем угодно и любое лекарство представить тяжелым ядом. Шла вовсю борьба с «начетчиками» и «талмудистами», борьба с «безродным космополитизмом», может быть, в чем-то и справедливая, но в условиях того времени и в России вообще доведенная до глумления, абсурда и произвола. Болезненная уже подозрительность Сталина подгоняла массовый психоз в стране.
А медсестра, оказавшаяся в магаданском лагере и как-то странно опекаемая лагерной администрацией, продолжала плакать и писать письма. Так прошло почти четыре месяца, когда неожиданно поздней и темной магаданской осенью, а точнее говоря, уже зимой, заключенную Завьялову – так именовалась она по документам – вызвали прямо к начальству и, очень вежливо сообщив, что с нее сняты все обвинения, добавили, что она может уже сегодня быть отправлена домой в Москву с военного аэродрома.
Ночью с аэродрома, построенного, конечно, тысячами заключенных, на громадном туполевском бомбардировщике, с которого, надо заметить, были скопированы знаменитые «летающие крепости» американцев, сестра Завьялова в сопровождении предупредительных военных улетела сначала в Куйбышев, а затем в Москву.