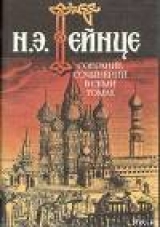
Текст книги "Тайна высокого дома"
Автор книги: Николай Гейнце
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
XVIII
СИБИРСКАЯ ВОЛОКИТА
Чтобы иметь понятие о неторопливости сибирских судов, достаточно рассказать интересный анекдотический факт, имевший место вскоре по введению в Сибири обновленного судопроизводства.
В т-ский губернский суд является убеленный сединами купец, лет семидесяти, и просит доложить о нем вновь назначенному и недавно прибывшему из России, как называют в Сибири центральные русские губернии, председателю.
– Что вам угодно? – обратился к просителю вышедший в приемную председатель.
– Дело у меня здесь в суде, долгонько тянется, ваше превосходительство.
– Какое дело?
– Да по опеке надо мной…
– За расточительность?
– Чего-с?..
– Деньги мотали?
– Помилуй Бог, мы с измальства к этому не привыкли, ваше превосходительство…
– Что же, вы больны были?
– Бог хранил-с, ваше превосходительство, когда хворал, не запомню…
– Может, разумом ослабли?..
– Обижать изволите, ваше превосходительство!
– Так почему же, наконец, над вами учреждена опека?
– По малолетству…
– Что-о-о?!
– По малолетству…
Оказалось, по наведенной тотчас же справке, что, действительно, в суде есть дело по опеке над просителем, учрежденной по малолетству его, когда он остался сиротой, более пятидесяти лет тому назад, до сих пор еще не оконченное производством. Опека над богатым человеком служила лакомым куском сменившихся двух поколений опекунов и судейских.
Дела в судах накоплялись грудами и ждали окончательного решения десятки лет. Почти каждый представитель дореформенной сибирской Фемиды в свою очередь иногда десятки лет состоял под следствием и судом, что не мешало ему самому производить следствия над другими и судить этих других.
В той же Т-ской губернии много лет служил земский заседатель и много лет состоял под судом и следствием.
Губернатору на этого земского заседателя сыпались градом жалобы, которые, наконец, и вывели начальника губернии из терпения, и он написал на одной из полученных им жалоб следующую резолюцию: представить мне все дела о заседателе NN для личного просмотра.
Резолюция пошла гулять по канцеляриям, и прогулка эта была настолько продолжительна, что губернатор успел забыть о ней, когда в один прекрасный день был поражен ее исполнением.
Как-то после обеда губернатор за чашкою кофе кейфовал у себя в кабинете с одним из своих любимых чиновников особых поручений. Кабинет был угловой комнатой обширного, хотя и одноэтажного губернаторского дома, два окна которого выходили на улицу, а два других – во двор.
Вдруг до слуха губернатора достиг скрип полозьев нескольких саней; он взглянул в окно и увидел въезжавшие на двор три воза.
– Посмотрите, mon cher, что такое там привезли? – обратился он к собеседнику.
Чиновник особых поручений поспешил исполнить приказание начальства. Вернувшись через несколько минут, он доложил:
– Дела о земском заседателе NN, для личного просмотра вашего превосходительства, согласно вашей резолюции.
– Пусть везут туда, откуда привезли! – махнул рукой озадаченный сановник.
Так окончился просмотр дел этого, почти мифического, земского заседателя.
Вскоре он умер, и по роковой случайности, в день его смерти рухнул в губернском суде шкаф под тяжестью производившихся о нем дел.
Одни эти примеры достаточно объясняют, что и дело Егора Никифорова не могло прийти скоро к окончанию, несмотря на то, что следствие было произведено всесторонне и полно. Уже одно то обстоятельство, что труп был найден вблизи заимки Толстых, почти около высокого дома, давало основание затянуть дело.
Иннокентий Антипович не раз посещал К., – так как Петр Иннокентьевич решил не переезжать в город, – и долгушку Толстых, на которой катался по городу Гладких, видели несколько раз и подолгу стоявшею у подъездов домов, занимаемых судейскими.
Опишем, кстати, самое расположение города К.
Несмотря на то, что в нем сосредоточены центральные управления губернией, на вид он невзрачен и мал. Местоположение его, впрочем, своеобразно живописно. Он лежит на берегу быстроводного Енисея и окружен живописными отрогами Саянских гор, образующих котловину, в которой и помещается немудреный город. Мы не даром упомянули о своеобразной живописности местоположения города; так, окружающие его горы почти совершенно лишены растительности и придают, как ему самому, так и окрестностям, мрачную картину величественной дикости.
Среди этих великанов природы незатейливые городские постройки и даже изредка попадающиеся каменные двух и трехэтажные дома кажутся лачугами и совершенно ускользают от внимания въезжающего путешественника, любующегося синевою окружающих гор, чарующих глаз разнообразием тонов и оттенков, смотря по времени наблюдения.
Но город, как мы заметили, и на самом деле не стоит внимания. Он построен по типу «русских» – этим прилагательным зовут в Сибири все, что принадлежит европейской центральной России – уездных городов: три параллельные улицы, пересеченные такими же параллельными один к другому и перпендикулярными к улицам переулками.
Средняя улица считается главной, а две боковые второстепенными. Под городом слобода, с кое-как, без всякой симметрии и плана построенными домишками и даже мазанками, образующими кривые переулки и закоулки.
Таких слобод в К. – две и даже три, если считать поселок на выгоне за соборной площадью. Одна тянется к крутому берегу главной реки, а другая расположена на болотистых берегах маленькой горной речки, протекающей с левой стороны города, считая от въезда по направлению от той части Сибири, которая на языке законоведов именуется «местами не столь отдаленными».
Невдалеке от слободы, находящейся за соборной площадью, уже совершенно по выезде из города, стоят особняками, друг против друга, два обширные деревянные здания, обнесенные высокими частоколами – это городская и пересыльная тюрьма. Вне частокола, огораживающего пересыльную тюрьму, стоит домик, служащий квартирой смотрителю, и рядом с ним казарма для тюремных надзирателей. Первый, окруженный палисадником, с пятью уставленными цветами окнами, является своим веселым видом резким контрастом с почерневшими от времени грустными зданиями, стоящими по ту сторону частокола.
Долгушка Толстых, с восседавшим на ней Иннокентием Антиповичем, вскоре после ареста Егора Никифорова остановилась у этого домика и стояла довольно долго.
Результатом этого визита был пропуск Гладких в контору городской тюрьмы, куда вскоре был приведен и арестант Никифоров. Смотритель, по желанию дорогого гостя, удалился в смежную с конторой комнату, и Иннокентий Антипович и Егор остались с глазу на глаз. Гладких крепко запер двери конторы, как наружную, так и ведшую в смежную комнату, и когда убедился, что никто не может быть свидетелем свидания, бросился со слезами на глазах на шею арестанта.
Тот даже отступил несколько шагов в изумлении.
– Вы, вы пришли ко мне… – бессвязно заговорил он, – когда знаете, что меня ожидает в будущем каторга за убийство…
– Ты сам хотел этого!..
– Что вы хотите этим сказать?
– Ты думаешь, Егор, я не знаю, что ты невинен.
– Тише, тише… неровен час… услышат…
– Пусть тебя хоть три раза присудят к каторге, но я и Петр знаем, что ты более чем честный человек.
– Петр Иннокентьевич, разве он тоже знает, разве он также, как и вы, догадался, почему я ничего не говорил в свое оправдание?..
– Да!
– Это мне неприятно.
– Я должен был сказать ему всю правду.
– Зачем?
– Затем, чтобы он знал, чем он тебе обязан.
– Напрасно.
– Когда он узнал, что при допросе ты молчишь обо всем случившемся в день, предшествуемый убийству, и в ночь его совершения, он хотел сам ехать к заседателю и сознаться.
– И что же?
– Я удержал его от этого…
– За это вам большое спасибо… Вы мне даете возможность отплатить добром за добро Петру Иннокентьевичу, спасти барышню и исполнить волю покойного барина. А барышня Марья Петровна, чай, огорчены страсть?..
Иннокентий Антипович не успел ответить, как раздался стук в дверь из соседней комнаты – знак, что свидание окончено.
– Я приду к тебе еще не раз… – сказал Гладких и начал отпирать двери.
Егора Никифорова снова увели в камеру. Гладких уехал в город.
XIX
ПРИЕМНАЯ ДОЧЬ
Вскоре после возвращения Иннокентий Антипович Гладких отправился на заимку. Он только что после обеда собрался навестить Арину, как ему доложили, что на кухне ожидает его баба из поселка. Гладких поспешил выйти в кухню.
Баба принесла печальную весть.
Вскоре после того, как Егора отправили в К-скую тюрьму, Арина заболела и слегла в постель. Две соседки поочередно ухаживали за ней, ни на минуту не оставляя ее одну. В прошлую ночь – так рассказывала баба – Арина преждевременно родила девочку, маленькую, как куклу, но здоровую. Родильница пожелала увидеть своего ребенка. Его положили к ней на постель. Тогда больная вдруг горько зарыдала и пришла в страшное волнение. Девочку у ней отняли, а часа через два Арина умерла тихо, точно заснула.
– Таперича у нас не знают, что и делать с девочкой, – продолжала баба. – Все говорят, что лучше бы она совсем не родилась на свет, да и я так смекаю, что большой бы ей был фарт,[8]8
Счастье – местное выражение.
[Закрыть] если бы она скорей отправилась за своей матерью…
– Я сейчас приду сам… – остановил Гладких разболтавшуюся бабу, и последняя, что-то причитывая себе под нос, удалилась.
Иннокентий Антипович отправился к Толстых.
Известие о смерти Арины было для последнего вторым тяжелым ударом.
Не скрыл Гладких и переданных бабою толков жителей поселка о судьбе родившегося и осиротевшего ребенка.
– Когда эта подлая баба желала смерти этой бедной, ни в чем неповинной девочке-сиротке, я едва удержался, чтобы не броситься и не поколотить ее.
– Она смотрит на вещи, как они есть на самом деле, вот и все, – мрачно заметил Толстых. – Но что ты теперь намерен делать, Иннокентий? Ведь хозяин теперь тут ты. Приказывай, решай, действуй… Я заранее согласен на все, что ты придумаешь.
– Так ты предоставляешь мне свободу действий?..
– Конечно.
– И даже от твоего имени?
– Без сомнения.
– Что я решу – ты утвердишь?..
– Заранее… Хочешь письменно?
– Как будто я не верю твоим словам. Впрочем, теперь дело только в том, чтобы найти кормилицу для ребенка – этим пока должны ограничиться заботы о нем; все дальнейшее в будущем…
Гладких тотчас же отправился в поселок. В избе Арины он застал пять или шесть баб. Покойница лежала на столе, головой в передний угол, под образами, закрытая холстом. Слабый свет лампады боролся с тусклым светом потухавшего дня, смотревшего в окна.
Иннокентий Антипович истово перекрестился и тихо, чуть слышно, произнес:
– Несчастная Арина, пусть душа твоя утешится ранее, чем покинет землю! Я клянусь тебе, что никогда не оставлю твоего ребенка и буду любить его, как своего родного. Где же ребенок? – обратился он к бабам.
Одна из них отвечала:
– Нельзя же было его оставить здесь, я его отнесла к Фекле, которая только что отнимает от груди своего младшенького.
– Хорошо, – заметил Гладких, – жителям поселка не надо будет заботиться об этой сироте, ее берет себе в качестве приемной дочери Петр Иннокентьевич.
– Мы ранее думали, что это так случится, так как Петр Иннокентьевич был всегда добр к Арине и к Егору! Конечно, не бросит же он ребенка на горькое сиротство! Это, верно, пожелала барышня Марья Петровна, которая хотела быть у Арины крестной матерью! – затараторири бабы.
Иннокентий Антипович отправился разыскивать Феклу, жившую через несколько изб. Он знал ее, как и всех жителей поселка, и нашел ее с малюткой на руках.
Со слезами на глазах стал он рассматривать девочку.
– Уж такая она нежная да субтильная, – затараторила Фекла. – Ножки и ручки тоненькие-претоненькие! Хорошенькие, голубые глазки… Она будет белокурая – в мать… С какою жадностью она сосет грудь, видимо, норовит отъесться – войти в тельце… Что-то с ней будет, бедняжкой?
– Не хочешь ли ты оставить ее у себя? – спросил Гладких.
– В питомках?
– Да, но не навсегда, только на год, много на два…
– Я готова оставить ребенка у себя, – степенно отвечала Фекла. – Мы с мужем хотя и не богаты, и у нас у самих трое ребят, но бросить и чужого ребенка несогласны. Отказываться принять малютку – грех, я же так любила Арину, и в память о покойной готова поставить ее дочь на ноги.
– Что касается вознаграждения, то Петр Иннокентьевич не допустит, чтобы ты воспитывала малютку даром. Ты будешь ее кормилицей – это решено; но она не должна быть тебе и мужу в тягость. Ты будешь получать за нее ежемесячно по десять рублей.
– Десять рублей в месяц! – воскликнула, растерявшись от радости, Фекла. – Да ведь это в год целый капитал!
– Петр Иннокентьевич так решил.
– Значит, этот ребенок принес к нам в дом довольство…
– И слава Богу, – сказал Гладких, и вынув из кармана десятирублевку, подал ее Фекле.
– Вот за первый месяц.
В это время вошел муж Феклы, Антон Акимов. Жена передала ему в коротких словах о случившемся.
– Мы и даром взяли бы бедную сиротку, – сказал он просто. – А коли Бог фарт посылает – надо благодарить Его.
Антон перекрестился.
– Но девочку надо будет окрестить, Иннокентий Антипович, – обратилась к Гладких Фекла.
– Да, это мы сделаем завтра, после похорон ее матери.
– А как вы ее назовете?
– Не знаю… Об этом я еще подумаю.
На другой день похоронили Арину, а затем окрестили и ее дочь. Крестным отцом был Гладких, а крестною матерью – Фекла.
Девочку назвали Татьяной. Это имя дал ей Иннокентий Антипович, в честь своей покойной матери.
После крестин Гладких приказал наглухо заколотить избу Егора Никифорова. Дверь запер большим висячим замком, и ключ от него взял к себе.
Обо всем этом он, по возвращении домой, доложил подробно Петру Иннокентьевичу Толстых. Тот одобрил все его действия.
Маленькая Таня прожила у своей кормилицы до двух лет. За ее здоровьем неустанно наблюдал Иннокентий Антипович.
По достижению двух лет девочку взяли в высокий дом. К ней приставили няньку, приезжую из России, которую Гладких разыскал в К.
Прислуге дома, под страхом быть тотчас же выгнаной, было запрещено говорить девочке об Егоре Никифорове и о покойной Арине.
Таня звала Гладких «крестным», а Петра Иннокентьевича ее научили звать «папой». Старику это нравилось. Он, впрочем, ни в чем не перечил Иннокентию Антиповичу.
Уже более года он жил мучимый совестью, подавленный раскаянием, ничем не интересующийся.
Управление всеми своими делами он всецело передал в руки Гладких и не вмешивался ни во что.
Впрочем, случилось то, что предвидел Иннокентий Антипович. Толстых вскоре страстно привязался к ребенку того человека, который все еще продолжал томиться в к-ской тюрьме в ожидании суда и каторги.
Так как Толстых почти никогда не выходил из дому, то малютка была всегда у него на глазах.
Он часто брал ее на колени и лихорадочно целовал, причем каждый раз, вероятно, вспоминал об Егоре Никифорове, а, быть может, и о своей несчастной дочери.
Иннокентий Антипович за это время несколько раз посетил к-ую тюрьму и виделся с Егором Никифоровым.
Он сообщил ему о рождении дочери, но умолчал о смерти Арины. Он сказал ему только, что она все хворает, а потому и не может приехать навестить его.
– Ближний ли свет тащиться, да ее ко мне и не допустят; вы тоже, чай, серебряным али золотым ключом ко мне дверь отпираете.
Егор был покойнее прежнего. Он свыкся со своим положением и не видел, как летели месяц за месяцем. В тюрьме время, говорят, идет очень быстро.
Только в беседах с Иннокентием Антипович он вспоминал о своем деле и объяснил причину, почему он ничего не говорил и не скажет в свою защиту.
– Я дал себя арестовать, – говорил он, – я дам себя осудить только потому, вы правы, что я сам этого хочу. Мне оправдаться, доказать, что я не виновен, было бы очень легко. Стоило сказать заседателю только всю правду. Но я поклялся бедному умирающему, и, кроме того, я не хотел, чтобы осудили настоящего виновника… Я некоторое время колебался, но потом вид изрезанного трупа несчастного меня подкрепил… Я старался напомнить себе, что сделал для меня Петр Иннокентьевич, и это утвердило меня в мысли спасти его. Я, быть может, не устоял бы, если бы, когда меня пришли арестовать, Арина первая не заподозрила меня в совершении убийства… Это меня поразило, и я решился бесповоротно принять на себя вину, тогда же, во время ареста в моей избе, хотя потом, повторяю, несколько раз колебался… Теперь все кончено – я решился и пойду на каторгу, не страшна она мне… Арина, я чувствую это, до сих пор считает меня убийцей – Бог с ней… Вы говорите – она хворает, она просто постаралась забыть меня…
– Ты ошибаешься, Егор, Арина все время думает о тебе и не перестает плакать, но повторяю, она совсем больна, после родов… – утешал его Гладких.
– Бедная Арина, – переменил тон Егор. – Если бы еще она была одна, а то с ребенком, как она проживет, как сумеет поставить на ноги мою бедную девочку.
– Об этом не заботься, – заявил Иннокентий Антипович. – Твой ребенок и твоя жена ни в чем не будут нуждаться, для этого я живу на свете…
– Спасибо вам, вы успокоили меня, – произнес Егор со слезами на глазах.
Гладких тоже прослезился.
– Одно мне больно, – начал Егор Никифоров после некоторой паузы. – Когда моя дорогая девочка, которую я, быть может, никогда не увижу, но которую всю мою жизнь буду горячо любить, подрастет, ей скажут: «Твой отец сослан на каторгу». Как больно будет ей это услыхать. Не правда ли, Иннокентий Антипович, что тогда вы, вы скажете ей… ну… хоть всю правду.
– Егор, – торжественно начал Гладких, – когда она вырастет настолько, что будет в состоянии сохранить тайну, я скажу ей всю правду, клянусь тебе в этом…
– Я, быть может, не доживу до этого времени, но, по крайней мере, моя дочь при воспоминании о своем отце не будет проклинать его. Еще один вопрос… Как поживает барышня, Марья Петровна? Она, чай, совершенно убита всем тем, что произошло…
Гладких смутился.
– Она вернулась из Томска… и затем снова уехала туда, ей тяжело было оставаться в высоком доме.
– Экая жалось, а мне бы надо ее повидать перед судом и отправкой… мне бы надо кое-что передать ей.
– Письма, которые ты взял в избе, где жил покойный?
– Да!
– Ты сжег их?
– Да!
– Не можешь ли ты доверить мне, что ты должен сказать Марье Петровне.
– Нет, я поклялся не говорить никому, кроме нее. Видно судьба, чтобы эта тайна ушла со мною на каторгу, – сказал Егор. – Не оставляйте Арины и Тани… – переменил он разговор.
– Буть покоен… Я буду заботиться о них всю мою жизнь… – отвечал Иннокентий Антипович.
XX
ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ
Прошло пять лет.
После многих хлопот в К. со стороны Иннокентия Антиповича с целью ускорить дело Егора Никифорова, состоялось, наконец, решение, которым он присужден был к пятнадцатилетней каторге, а через год после этого был отправлен в Забайкальскую область… Нечего говорить, что Петру Иннокентьевичу все это встало в дорогую копеечку.
От денег, щедрою рукою рассыпаемых от лица своего хозяина Иннокентием Антиповичем, отказался только один участвующий в этом деле человек – сам обвиненный Егор Никифоров. Он ушел в каторгу с другим сокровищем – чистою совестью.
Среди хорошего ухода росла маленькая Таня, как цветок в руках хорошего садовника. Когда ей минуло пять лет, она всех приводила в восторг своими остроумными ответами и вдумчивыми вопросами, своею веселостью и грацией, хотя физически была очень слаба и нежна.
Петр Иннокентьевич и Иннокентий Антипович, и все домашние обращались с ней, по народному выражению, как с сырым яйцом. Толстых положительно не мог без нее существовать, а Гладких не чаял души в своей крестнице, хотя это не мешало ему с грустью вспоминать о точно в воду канувшей Марье Петровне. О ней не было в течении этих пяти лет ни слуху, ни духу. Что случилось с ней? Быть может, бедная девушка с горя и отчаяния, под гнетом нужды и лишений, лишила себя жизни?
Эти вопросы часто смущали ум Гладких, и он по целым часам ходил порой в глубокой задумчивости, опустив вниз свою поседевшую голову.
В высоком доме имя исчезнувшей барышни не упоминалось. Прислуга как-то инстинктивно не решалась произнести его.
Что касается Петра Иннокентьевича, то вопрос: забыл ли он свою дочь или же раскаивался, что выгнал ее из дома – не мог решить даже такой близкий к нему человек как Гладких.
В первое время исчезновение барышни из высокого дома, конечно, породило много толков в окрестности и даже в К. Впрочем, об этом говорили осторожно, так как Петр Иннокентьевич Толстых был все-таки «сильным человеком», а глаза тех, которые имели законное основание посмотреть на это дело серьезно, были засыпаны золотым песочком.
Годы шли – все забылось и сгладилось, даже воспоминание о преступлении на заимке Толстых.
На дворе стоял декабрь месяц, был страшный мороз. Зима в этот год была лютая и страшная, что не редкость в Сибири. В числе привезенных из К. на имя Иннокентия Антиповича Гладких писем одно обратило на себя его внимание. Почерк, которым написан был адрес, заставил задрожать старика – он узнал почерк Марьи Петровны.
Дрожащими руками разорвал он конверт и прочел следующие строки:
«Мой милый Иннокентий Антипович!
Я в К., в гостинице Разборова. Если вы по прежнему питаете ко мне чувство дружбы, то приезжайте. Спросите только Веру Андреевну Смельскую и вам покажут.
Марья Толстых».
Гладких прижал это письмо к своим губам, и слезы градом полились из его глаз.
Через час он уже мчался по дороге в К.
Старик Разборов, успевший-таки довольно солидно поживиться в деле Егора Никифорова, отремонтировавший на деньги Толстых свою гостиницу и расширивший свою галантерейную лавочку, находившуюся в том же доме, умер еще ранее ссылки Егора, и наследство получил его племянник, живший с малолетства в Москве в приказчиках у одного купца, торговавшего в белокаменной тоже галантерейным товаром.
Наследник прибыл в К. и стал продолжать дело своего покойного дяди.
Старик Разборов был большой оригинал, и о нем в К. долго уже после его смерти ходили рассказы. Он имел большую склонность к иностранным словам, не особенно понимая их значение и невозможно их выговаривая, отчего происходили с ним положительные анекдоты.
Сильным конкурентом покойному по торговле был к-ский богач – монополист Гладилин.
Когда старика Разборова спрашивали, как идут его дела, он печально отвечал:
– Где же мне канканировать с Гладилиным – он оптик.
В переводе на обыкновенный язык это означало: «Где же мне конкурировать с Гладилиным – он оптовый торговец».
Еще забавнее был случай в гостиной губернаторши, где Разборов по должности попечителя приюта находился после завтрака в один из табельных дней.
Губернаторша была страстная любительница собак, и целый десяток маленьких собачек разной породы окружал ее превосходительство.
– Не доведет до добра, ваше превосходительство, вас этот пессимиз! – вдруг выпалил Разборов.
– Что!? – уставилась на него губернаторша.
– Пессимизм… – не смущаясь, повторил он, – то есть любовь ко псам, ваше превосходительство.
Присутствующие разразились гомерическим хохотом.
Таков был покойник, оставивший по себе веселую память.
Иннокентий Антипович, знавший всю прислугу гостиницы, не переменившуюся и при новом хозяине, тотчас же был проведен в номер, занимаемый госпожою Смельской. На стук в дверь послышался слабый голос «войдите», и Гладких, отворив дверь, переступил порог комнаты.
С дивана быстро вскочила молодая женщина, и не успел вошедший прийти в себя, бросилась на шею к своему старому другу – это была Мария.
Тяжелая первая сцена свидания после многолетней разлуки, наконец, миновала. Гладких усадил Марью Петровну на диван и только тогда успел пристально посмотреть на нее.
Она страшно переменилась. Недаром никто в городе не узнал «дочь первого богача» – «сибирскую красавицу», которой гордилось к-ское общество. От этой красоты не осталось и следа. Она исхудала, глаза ввалились, и даже несколько морщин появилось на лбу.
– Бедная моя, бедная, – начал Гладких со слезами в голосе. – Вы ли это? Как могли вы оставлять меня так долго без всякого известия, неужели вы усомнились в вашем верном друге.
– О нет, нет, никогда!
– Почему же вы не уведомили меня, где вы и что с вами?
– Я на это не решалась.
– Это отчего? Но, впрочем, оставим этот разговор… Теперь вы здесь, и я знаю, что мне делать…
– Что вы этим хотите сказать?
– Что хочу я этим сказать? Только то, что я вас возьму с собою домой.
– Никогда! – воскликнула Марья Петровна. В ее голосе послышался ужас.
– Вы боитесь, что вас нехорошо примут! Если вы придете со мной, ваш отец примет вас с распростертыми объятиями. Он не осмелится поступить иначе.
– Но разве вы забыли, что произошло пять лет тому назад – я не забыла этого! Я не могу забыть, что мой отец – его убийца, что он меня проклял, что он разбил мое счастье и обрек меня на нищету и позор… Я буду нести свой крест до конца… Если бы он даже простил меня, то я бы не приняла его прощения, я бы теперь сама отказалась от него…
– Опомнитесь, Марья Петровна! Что вы говорите?
– Да, я не приняла бы его, потому что я… я не смогу простить ему никогда! И если бы он меня не выгнал из того дома, где, к моему несчастью, родила меня мать, я бы сама ушла… Я никогда в жизни не переступлю порога дома Петра Иннокентьевича Толстых.
– Если бы вы знали только, как он страдает, этот несчастный: угрызения совести подавляют, убивают его…
– Он заслужил это, хотя я желаю ему, если он может, найти душевный покой.
– Его-то ему и не найти никогда.
– Как и мне тоже, – с горечью заметила Марья Петровна, – я изнемогаю под тяжестью отцовского проклятия. Но я не жалуюсь, я не хочу жаловаться. Как бы печально все это ни кончилось для меня, я передала свою судьбу всецело в руки Божьи… Смерть, которая была бы моим избавлением от всех страданий, меня страшит и пугает не потому, что мне плохо жить, а потому, что я не одна, потому что я должна жить… для него!
Гладких вздрогнул и вопросительно посмотрел на Марью Петровну.
Не замечая этого взгляда, она продолжала дрожашим голосом:
– Если бы я была одна, покинутая, разбитая, без надежды, но и без страха, я бы шла спокойно до конца по дороге жизни! Но это невозможно – я боюсь за него, я мучаюсь за него, я каждую минуту спрашиваю себя: что ждет его в будущем?
– О ком это вы говорите? – смущенно спросил Иннокентий Антипович.
У него блеснула мысль, что она помешалась и считает в живых Ильяшевича.
– Ах, правда, ведь вы не знаете! Я говорю о моем ребенке, о моем сыне…
– Ваш сын? – воскликнул с облегченным вздохом Гладких. – И вы, мать, не хотите возвратиться к вашему отцу?
– Мое решение неизменно.
– Как! – вышел положительно из себя Иннокентий Антипович. – Вы хотите обречь вашего ребенка на нищету и несчастье, когда у него есть состояние, состояние деда…
– Ребенок Марии Толстых будет наследником только своей матери – наследником ее несчастия…
Марья Петровна горько заплакала.
– Боже правый! – воскликнул Гладких. – Вразуми ее! О, я этого не потерплю! Этого не должно быть! Это несправедливо, возмутительно… Я здесь, и я не допущу этого!..
– Вы ничего не сделаете.
– Как будто я послушаюсь вас… Тут дело идет не о вас, а о вашем ребенке… Где он?
Марья Петровна подошла к кровати и раздвинула занавеси.
– Вот он! – сказала она.
Громкий разговор разбудил ребенка, который, прислушиваясь, сидел на кровати.
– Как его зовут?
– Я дала ему имя его отца – Борис.
Гладких взял мальчика на руки и осыпал его поцелуями. Ребенок не сопротивлялся его ласкам.
– Мама, кто этот дядя? – спросил вдруг малютка.
– Это мой друг! – отвечала молодая женщина.
– Он меня целует, он не злой! Почему же он делает так, что ты плачешь?
– Ты ошибаешься, дитя мое, я не плачу…
– Нет, нет, ты плачешь, я хорошо это вижу…
Марья Петровна засмеялась сквозь слезы.
– Умница мальчик, жалеет маму! – ласково потрепал Иннокентий Антипович ребенка по щеке и усадил его на диван.
Марья Петровна села рядом и обвила мальчика, нежно прижавшегося к матери.
Гладких, поместившись на стуле против молодой женщины, долго созерцал эту картину. Слезы одна за другою катились по его морщинистым щекам.
Наконец, он снова горячо начал убеждать ее возвратиться домой. Она только качала головой, но в этом жесте было столько железной воли, столько непоколебимой решительности, что Иннокентий Антипович понял, что ему не убедить эту закаленную в несчастьи женщину.
– Но, наконец, вы имеете право владеть капиталом вашей покойной матери! – воскликнул он, исчерпав все средства убеждения, все свое красноречие.
– Нет, я не признаю себя в праве взять эти деньги… Чем делаюсь несчастнее, тем становлюсь все более и более горда. Бог для всех нас один. Что совершилось со мной – совершилось по Его воле, что со мной будет – также в Его воле… Проклятие моего отца тяготеет надо мною… Часто, даже ночью, я просыпаюсь в холодном поту с роковой мыслью: «я проклята».
– Возмутительно! – пробормотал Гладких.
Наступило на несколько минут тяжелое молчание. Его прервал Иннокентий Антипович.
– Расскажите, по крайней мере, мне, как вы прожили с того страшного дня, в который покинули высокий дом. Откуда у вас новое имя, меня все это более чем интересует. Вернее, что это не простое любопытство.
– Верю, верю, друг мой. Слушайте, я во всех подробностях расскажу вам грустную повесть моих скитаний.






