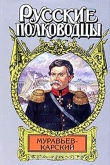Текст книги "Жизнь Муравьева"
Автор книги: Николай Задонский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
5
Кончалось жаркое лето, дни становились короче, прохладней. Паскевич намеревался идти к Тавризу, как вдруг лазутчики донесли, что Аббас-Мирза, обманув наши наблюдательные посты и удачно сманеврировав, повернул с главными силами к Эривани, под стенами которой находился генерал Красовский с небольшим отрядом, оставленным для осады крепости.
Вслед за тем пришло более тревожное известие. Аббас-Мирза под Ушаганом одержал победу над отрядом генерала Красовского, который укрылся в Эчмиадзине. Конница Аббас-Мирзы занимала дороги в Грузию, почти не встречая сопротивления, и могла в несколько дней добраться до Тифлиса. Создавалось угрожающее положение в тылу.
Паскевич с большей частью войск и артиллерией вынужден был из лагеря при Карабабе двинуться к Эривани. На Тавризской дороге был оставлен пятитысячный отряд генерала Эристова, которому было поручено защищать Аббас-Абад и Нахичевань от возможных покушений неприятеля и отвлекать его внимание от Эривани.
В это время в корпус прибыл генерал Сухтелен, назначенный начальником штаба. Муравьев был утвержден его заместителем. А так как Паскевич опасался, что храбрый, но старый и бестолковый Эристов не справится самостоятельно с возложенными на него задачами, то оставил при нем Муравьева, который фактически взял в свои руки руководство всеми действиями отряда.
В начале сентября Паскевич подошел к Эривани. Аббас-Мирза, несмотря на превосходство в силах, побоялся вступить в сражение и ушел обратно по Нахичеванской дороге. Эристов и Муравьев двинулись ему навстречу. Однако Аббас-Мирза опять-таки боя не принял и, отделавшись несколькими стычками с кавалерией отряда, стал укрепляться в Дарадизском ущелье близ Маранды. Персияне считали эту позицию неприступной, но Муравьев, бывший в этих местах с Ермоловым во время первого персидского посольства и хорошо изучивший местность, уговорил Эристова атаковать персиян. Дарадизское ущелье, а затем и Маранда, были заняты отрядом.
Отсюда совсем недалеко оставалось до Тавриза. Муравьева не покидала возникшая еще в прошлом году мысль о возможности быстро и с небольшими силами занять столицу Адербиджана, второй по величине персидский город, где находилась постоянная резиденция Аббас-Мирзы. Муравьев, будучи некогда в Тавризе, недаром внимательно осматривал крепостные сооружения, а самое главное, он превосходно знал, что местное население ненавидит царствующую династию Каджаров, и не без основания надеялся на помощь самих тавризцев.
Муравьев собрал находившихся в отряде генералов Панкратьева, Сакепа, Чавчавадзе и Эристова, изложил им свое мнение о возможности взять Тавриз. Все понимали, что Паскевичу, которому только что сдалась Эривань, будет неприятно, если Тавриз возьмут без его участия. Но замысел, предложенный Муравьевым, был так заманчив и соблазнителен, что никто возражать не стал.
Подготовку и осуществление смелого плана Муравьев взял на себя. Медлить нельзя было ни одного часа. Хотя Аббас-Мирза и не думал, что маленький русский отряд отважится прорваться в Тавриз, все же приближение этого отряда начало его, видимо, тревожить, и он двинулся с войском к своей столице. Нужно было предупредить его. И потом: от Паскевича, извещенного о занятии Маранды и выходе отряда на Тавризскую дорогу, вот-вот могло прийти запрещение продолжать дальнейшее движение. Муравьев в этом не ошибся, оно так и было. Нарочный от Паскевича уже мчался в отряд со строгим наказом Эристову: «Движение ваше на Тавриз с малозначащими силами я нахожу преждевременным. Следую сам к Тавризу с главным отрядом и в сопровождении парков и транспортов, могущих единственно обеспечить основательное наступательное действие, а вашему сиятельству надлежит довольствоваться твердым занятием Дарадизского ущелья и заготовлением запасов облегчить марш моей колонны. Теперь я опасаюсь, дабы с вами не случилось, как перед сим с генералом Красовским, и что я вынужден буду поправлять дела неблагополучные, от неосторожной отважности происшедшие. Ибо вы из виду упускаете, что на дальнем расстоянии от Аракса до Тавриза, имея неприятеля по обоим флангам дороги, вы подвергаете не только себя опасности потерять всякое сообщение, но и меня нападениям неприятельской кавалерии на транспорт, которых число войск со мною прибывших совершенно прикрыть не позволяет. Вследствие чего предписываю, буде вы еще далее не продвинулись, то, остановясь у Маранды, ожидать дальнейших приказаний».
Нет, не успел вовремя доскакать до отряда нарочный! Не успел и Аббас-Мирза защитить своей столицы! Не смог и Алаяр-хан, зять шаха, остававшийся в Тавризе, устроить оборону города – лазутчики с прокламациями, посланные Муравьевым, возбудили народ к неповиновению. Участь Тавриза была решена.
Муравьев так описывает дальнейшие события: «10 октября были сделаны последние распоряжения для движения к Тавризу. Я едва мог сомкнуть глаза за всю ночь, ибо мысли мои были заняты предпринятым мною действием. Часа за два до света я вылез из палатки и сел к огню. Весь лагерь еще спал, слышны были только протяжные крики часовых. Я задумался о предстоящем подвиге, с мыслями о последствиях оного были неразлучны и воспоминания о семействе, предположения о будущем, и я совершенно погрузился в мысли свои, как вдруг тихий шорох пронесся мимо меня. Я поднял глаза и увидел длинную худощавую фигуру передо мною. Остатки седых волос старца сего развевались от ветра; на гладкой поверхности голого его лба и головы отражался огонь, нас разделяющий; большие и темные глаза старца были опущены вниз и следовали движению головы, наклоненной также к огню. Одетый в разорванный халат и в туфлях старец сей стоял неподвижно и, казалось, опасался прервать мои думы. Посторонние, увидевши его, могли бы подумать, что сие полуночное чудовище было извергнуто из недр земли при землетрясении, за два дня случившемся. Но я узнал своего князя Эристова, которому также не спалось.
– Пусть генерал Паскевич сердится, – сказал он, – а мы в Тавриз пойдем и мошенника Аббаса-Мирзу за набеги на Грузию накажем.
Еще не рассвело как следует, а наш отряд уже двигался по дороге к Тавризу… Все было бодро и весело, как и бывает в таких случаях при наступательных движениях, и в таком расположении духа все нам предзнаменовало успех…
Спустя два дня, приблизившись к предместьям столицы, мы растянули войска свои на правом берегу Аджи-Чая, дабы более их показать. Я и Панкратьев с шестью ротами гренадер, сводным батальоном и шестью батарейными орудиями пошли вперед. Столица казалась безмолвной, и это нас настораживало. Вступая в форштадт, мы зарядили ружья и подвигались с барабанным боем. И вдруг мы увидели, как на одной из улиц появилась толпа богато одетых всадников, впереди коих ехал прекрасный собой юноша: это Ахмет-хан, сын губернатора, и старшины города встречали нас с изъявлением покорности. Ахмет-хан за всех говорил, представил мне старшин и сказал, что они давно бы встретили нас, если б не препятствовал в том Алаяр-хан, который хотел защищать город и завалил все ворота. Знание турецкого языка мне много способствовало. Я обходился без переводчика и все прибегали ко мне. Оставив гренадер и орудия в городе, я с Панкратьевым повел сводный батальон прямо к цитадели, которую спешил занять. Треск барабанов, громкое «ура», возглашенное при переходе рва и в воротах, поздравления всех сослуживцев с завоеванием Тавриза, приветствия народа и старшин – все сие доставило мне одну из самых лестных и торжественных минут в жизни! Мне было тридцать три года, я завоевал столицу и принимал поздравления тех, кои по старшинству своему могли желать себе приписать сию славу! Вряд ли самолюбие может встретить когда-либо столь сильное наслаждение, особливо после того, как я помышлял о том, что мне предстояло в случае неудачи…
Ночью я приказал зажечь фейерверк на стенах цитадели, употребив на сие все плошки и фейерверочные штуки, которые мы нашли готовыми в арсенале цитадели. С высокой башни был пущен букет ракет, вид был прелестный, вся цитадель в огне, и зрелище сие виделось издалека. Аббас-Мирза, как я слышал, находившийся в двадцати верстах от Тавриза, видел оное и зарыдал. Эристов получил от него письмо, в коем он просил пощадить город, обнадеживая нас миром. Аббас-Мирзе было очень вежливо ответствовано, что мы не имеем обычая истреблять завоеванных нами городов, а что о мире он может иметь сведения только от главнокомандующего, во власти коего состояло заключить оный».
Тавриз был захвачен Муравьевым столь молниеносно, что персиянам не удалось ничего отсюда вывезти. Трофеи были огромны: дворец Аббас-Мирзы, хотя и разграбленный частично жителями, но все же сохранивший много ценностей; арсепал с большим количеством новеньких английских ружей, сорок крепостных орудий, десятки тысяч артиллерийских снарядов разных калибров, хорошо устроенный английскими мастерами литейный двор и пороховой завод; полные амбары с зерном и всякими иными припасами.
Однако Паскевич, узнав о взятии Тавриза и захваченных трофеях, не только не порадовался успеху войск своих, а напротив, пришел в бешенство. Он понимал, что со взятием Тавриза войну с персиянами можно считать выигранной, но какое ему, царедворцу, было дело до пользы отечества, когда так нежданно ускользнула от него слава и, словно мираж, исчез грезившийся титул графа Тавризского. Целый день не выходил он из палатки, грыз от досады ногти, грозил победителям неистово:
– Старый баран Эристов никогда бы не решился на подобное самовольство! Я знаю, это подлые интриги Муравьева! Он тайный карбонарий и ненавистник честных слуг государя! Нет, с меня довольно, более в корпусе я терпеть его не намерен!
Но на людях приходилось сдерживаться. Все знали, как и кто взял Тавриз, все говорили о Муравьеве с почтением, и высказывать открыто недовольство действиями смелого и талантливого полковника Паскевич не мог: слишком явно выявились бы его задетое самолюбие и зависть.
Муравьев поехал в ближайшее от Тавриза селение Саглан встречать главнокомандующего. Был вечер. Паскевич ужинал в компании своих приближенных. Муравьева принял он со скрытой неприязнью. Посадив к столу и с трудом выдавив любезную улыбку, сказал:
– Вот вы молодцы какие, куда забрались! – И, чуть помолчав, спросил: – А ключи от ворот Тавриза получены?
Никаких замков и ключей не было, но, зная, какое большое значение придает Паскевич этой устаревшей церемонии, и не желая его лишний раз сердить, Муравьев промолвил:
– Ключи будут вам поднесены при вашем въезде в завоеванную столицу.
Напоминание о завоеванной не им столице было видимо, Паскевичу неприятно. Мускулы на его лице дрогнули. Но он сдержался, выпил бокал вина, потом спросил полушепотом:
– Ну-c, а предписание мое князю Эристову вы получили?
– Так точно. На следующий день после взятия Тавриза.
– Как это так? – нахмурилея Паскевич. – Ведь известно, с кем оно было послано, об этом надо будет справиться.
– Ваше предписание получено было после взятия крепости, – уточнил Муравьев.
Паскевич привычно передернул плечами, замолчал, отвернулся и более разговора об этом не возобновлял.
Возвратившись в Тавриз, Муравьев послал находившегося при нем юнкера Егорушку Ахвердова, брата жены, искать на базаре большие висячие замки и ключи. Егорушка доставил их несколько штук. Выбрали, какие получше, положили на поднос под цветное покрывало, поднесли торжественно Паскевичу, и он милостиво принял, но государю, как тогда требовалось, отослать не решился. Приказал Муравьеву доставить другие, постарее и помудренее. Пришлось один из самых больших и безобразных замков положить на несколько дней в навоз, чтобы железо окисло… Ничего не поделаешь, надо было для государя постараться!
Прошло несколько дней. Никаких распоряжений насчет дальнейшей службы, никаких приказаний от главнокомандующего Муравьев не получал, все его представления о награждении отличившихся были отвергнуты, при встречах с ним Паскевич отводил глаза в сторону. Объясняться не было необходимости. Муравьев подал рапорт об увольнении и получил его.
Уезжая ночью из Тавриза, он размышлял о превратностях судьбы. Но не роптал па нее. Он не угодил начальству, зато верно послужил отечеству. Война заканчивалась. Города Адербиджана и северных провинций сдавались без боя. Армяне и грузины, жившие в этих местах, освобождались от тяжкого ига персиян. Народы Кавказа надолго избавлялись от варварских и кровавых набегов. Грибоедов подготовлял уже основы мирного договора с Персией. Аббас-Мирза с потерей Тавриза лишился средств для продолжения войны. Он переезжал из города в город, боясь показаться в Тегеране, где сладостно дремал в объятиях трехсот своих одалисок престарелый его отец Фет-Али-шах. Фет-Али-шах не желал войны с русскими, но поддался уговорам Аббас-Мирзы и англичан, которым давно приглянулись богатые нефтеносные кавказские берега Каспия. Аббас-Мирза знал, что отец недоволен им, и, страшась потерять голову, жаждал скорейшего окончания военных действий.
Муравьев возвращался в Тифлис, где ждала его жена, по которой он смертельно соскучился, и тот круг его родных и близких, в котором он чувствовал себя так хорошо и спокойно. Тревожил только вопрос, как и на что далее жить? До сих пор единственным источником существования являлось скромное военное жалование. Никакого движимого и недвижимого имущества, кроме половины тифлисского дома, у него с женой не было. Что же делать без службы?
Отец быстро старел и желал его возвращения… Созданная им школа колонновожатых, из которой вышло более тридцати деятелей тайных обществ, была правительством за неблагонадежность закрыта. Отец переселился в Осташево, где занимался хозяйством, но годы давали себя знать, поднять доходность имения не удавалось, и мучили старые долги, вся надежда была на то, чтоб передать имение в руки сына Николая… Значит, можно было, выйдя в отставку, сделаться помещиком, подобно многим другим военным, и жить за счет труда крепостных людей. С юных лет страстно желать отмены позорного крепостного рабства и потом самому пользоваться его плодами! Нет, такое решение вопроса было противно его совести! В одном из писем к отцу он намекнул, что хорошо бы отпустить мужиков на волю и перейти на более выгодный наемный труд, но мысль эта отцом была отвергнута самым категорическим образом…
Стало быть, все-таки без службы не обойтись. Придется писать в Главный штаб Дибичу, просить о назначении в другую армейскую часть, сославшись на то, что якобы домашние обстоятельства не позволяют более продолжать службу в Грузии. И не хочется, и обидно оставлять благословенный край, с которым так сроднился, но иначе нельзя.
… В Тифлис он приехал холодной ноябрьской ночью. Наверху, в их спальной комнате, мерцал слабый свет. Это его не удивило. Соня имела привычку зачитываться в постели. Он оставил вещи в передней камердинеру, приказал никого не будить, радостный и взволнованный поспешил к жене, тихо приоткрыл дверь в спальню и остолбенел от неожиданности…
В постели с книгой в руках лежала не Соня, а незнакомая молодая женщина в кружевном кокетливом чепчике, из-под которого выбивались пушистые белокурые волосы. Свеча, стоявшая на ночном столике, освещала лишь ее миловидное, с мелкими правильными чертами лицо, а в комнате колебались причудливые тени и было полусумрачно. Незнакомка, увидев вошедшего, не испугалась, не вскрикнула, а приподнялась, натянула до подбородка одеяло и, глядя на него широко открытыми серыми с веселой искоркой глазами, произнесла:
– Я догадываюсь… вероятно, сам хозяин Николай Николаевич?
– Простите, сударыня, – все еще не придя в себя, пробормотал он, – но здесь как будто была моя спальная комната…
Она кивнула головой и улыбнулась:
– Я понимаю, вам кажется странным мое присутствие здесь, но все очень просто… Софья Федоровна после ремонта в доме нашла нужным сделать вашу спальную в угловой комнате, предназначавшейся прежде для детской, а меня поместили здесь!
– С кем же, в таком случае, я имею честь разговаривать?
– O, какой вы недогадливый! – рассмеялась она. – Я Бурцова. Жена вашего друга. Анна Николаевна или просто Анна, как вам будет угодно. Разве Иван не говорил вам, что я приезжаю в Тифлис?
– Нет, он говорил… я просто не подумал как-то о возможности встретить вас при таких необычайных обстоятельствах…
– А я рада, что так получилось. Будете дольше помнить первую встречу. – И, протянув ему оголенную пухлую руку, заключила: – Целуйте и исчезайте. Я нашла здесь в доме самое нежное попечение всех женщин и не хочу никого омрачать ревнивыми подозрениями…
Она опять рассмеялась. Он тоже не удержался от улыбки и хорошенькую ручку поцеловал охотно.
Анна Николаевна была полькой. Хорошо образованная и начитанная, веселая и предприимчивая, она всех к себе располагала, и Муравьев на первых порах с ней подружился, радуясь за старого приятеля, что послала ему судьба такую милую жену.
Как-то вечером за общим разговором в гостиной возник спор об искренности между мужчиной и женщиной. Муравьев утверждал, что без искренности и доверия между любящими он не представляет себе полного счастья.
Бурцова, смеясь, заметила:
– Что ж, если так, значит, вы отрицаете вообще возможность счастья?
– Почему же? – возразил он. – Я только высказываю свое мнение, как оно мне представляется…
Бурцова, пристально глядя на него чуть прищуренными глазами, сказала:
– А в нашей жизни, милый Николай Николаевич, многие ли счастливцы могут заявить, что они с любимым человеком вполне искренни? Я, признаюсь, за себя не ручаюсь… И разве у каждого из вас нет в душе чего-то такого, что составляет его личную сокровенную тайну, которой он ни с кем, даже с богом, делиться не желает?
Соня, вмешавшись в спор, произнесла:
– Мне думается, вы не совсем правы, Анна… Хранить от любимого человека тайну и быть вполне счастливым… как это можно?
Бурцова ласково обняла ее:
– Сонечка, вы ангел! А я говорю о людях, населяющих грешную землю!
Вскоре Муравьев убедился, что радоваться за старого приятеля преждевременно. Анна Николаевна особой привязанности к мужу не чувствовала, верности не хранила, и хорошее воспитание не мешало ей с удивительным легкомыслием вступать в весьма предосудительные связи. Муравьев стал от общества ее уклоняться и был доволен, что Соня, разделяя его взгляды, поступала так же. Но спор с Бурцовой об искренности между любящими из памяти не выходил и чувствительно тревожил…
Прошло два года, как прежняя его связь прекратилась. И Бебутов недавно сообщил ему, что в Кутаисе за Сонюшку сватается молодой чиновник и она не против, но не решается на брак без его, Муравьева, согласия. И он согласие охотно дал, послав на приданое пятьсот рублей из скудных своих сбережений, и все как будто завершилось благополучно, может быть, и не стоило огорчать жену тяжелым признанием? И все-таки при его твердых правилах утаивание этой связи, чем бы оно ни вызывалось, казалось непозволительным малодушием и ощущалось им как темное пятно на совести…
Однажды, войдя в комнату жены, он застал ее в слезах.
– Соня, родная… что случилось? – бросился он к ней, встревоженный.
Она сердито его оттолкнула, швырнула под ноги скомканную какую-то записку:
– Можете убираться к другой своей Сонюшке… Я не хочу вас более знать!
И, продолжая истерично всхлипывать, побежала на половину Прасковьи Николаевны.
Записка, присланная из Кутаиса и случайно попавшая в руки жены, гласила: «Николай Николаевич, может, я вас обеспокоила два раза насчет портрета. Поверьте, что это произошло не от какой-нибудь ветрености, а от искренней любви к вам и преданности. Не думайте, однако ж, что я могу без портрета забыть вас; нет, черты лица вашего и бесценная для меня любовь ваша никогда не изгладятся из памяти моей. Я бы еще желала когда-нибудь увидать вас, и дорогие руки ваши облить слезами, те, которые не раз обнимали меня. Благодаря бога я живу благополучно и счастливо, любима и уважаема другом, которого любовь ценю, и радуюсь, что вы не забываете вечно вам преданную от всей души Сонюшку».
Прочитав записку, он не порвал ее, а бережно расправил и убрал. Стыдиться нужно не этой записки, а своего малодушия. Нельзя было скрывать того, что теперь открылось само собой. И он отправился к жене, чтоб сказать ей прямо:
– Милая Соня, я виноват перед тобой и не ищу никаких оправданий, но там все кончено, ты у меня одна, и я никогда более ничего не буду скрывать от тебя… Пойми и прости!
Соня поняла, поверила, простила.
… А в кабинете императора Николая начальник Главного штаба делал обзор недавно закончившихся военных действий в Персии. Император слушал молча, изредка заглядывая в разложенную перед ним карту и хмурясь. Дибич отлично понимал, в чем дело. В реляциях Паскевича, которые получал царь, все выставлялось несколько в ином свете: действия самого Паскевича и одерживаемые им победы значительно преувеличивались, похвальные действия других командиров замалчивались. Но в Главном штабе реляции дополнялись донесениями посылаемых в действующую армию чиновников и иными сведениями, в которых события излагались более точно. Императору неприятно было убеждаться, как далеки от истины реляции фаворита, а Дибич, не любивший надменного этого выскочку, напротив, с тайным удовольствием подчеркивал то, о чем Паскевич предпочитал не сообщать.
– Решительное значение для исхода всей кампании имел захват Тавриза отрядом генерала Эристова, – говорил Дибич. – Тавризская операция заслуживает особого разбора; ваше величество, она свидетельствует, как при умелом использовании местных условий и обстоятельств можно с небольшими силами добиться блистательных военных успехов…
– Позволь, Иван Иванович, – перебил император, – ты же сам только что утверждал, будто Эристов для самостоятельных действий совершенно негоден.
– Так точно. Поэтому граф Иван Федорович направил в отряд Эристова помощника начальника корпусного штаба полковника Муравьева, коим разработана и проведена вся операция…
– Однако ж, я думаю, успеху ее немало способствовало и отвлечение неприятеля действиями наших главных сил под Аббас-Абадом и Эриванью?
– Несомненно, ваше величество. Но если б полковник Муравьев не решился на быстрый захват Тавриза, куда спешили войска Аббаса-Мирзы, то мы принуждены бы были к долговременной осаде его столицы…
– Ты считаешь, что крепостные сооружения Аббас-Абада и Эривани менее сильны, чем в Тавризе?
– Не подлежит никакому сомнению, государь. Граф Иван Федорович особым предписанием даже запретил движение к Тавризу малозначительного отряда Эристова, но предписание сие запоздало и получено было в отряде уже после занятия города…
– Гм… Видимо, ему не все было ясно… А Муравьев молодец, ничего не скажешь, – похвалил царь. – Если б не был он в близких отношениях с нашими друзьями четырнадцатого декабря и с Ермоловым… Ты, помнится, говорил, что Иван Федорович с Муравьевым не ладят?
– K сожалению, так, государь. И Муравьев просит меня о переводе из войск Кавказского корпуса…
– Вот что! Что же ты полагаешь?
– Просьба несвоевременна. Если весной начнутся военные действия против Турции, я не могу назвать другого командира, государь, более полезного и нужного в войсках корпуса, чем полковник Муравьев. Он в совершенстве владеет турецким языком, ему известны все порядки и боевые средства турецких войск. Я полагаю, что Муравьева должно повысить в чине за взятие Тавриза и оставить на Кавказе.
– Хорошо, не буду возражать, – кивнул головой император. – Только придется написать Ивану Федоровичу, какие причины и соображения побуждают Главный штаб оставить Муравьева под его начальством. А надзор за ним все же продолжать. Меня беспокоит, что посылаемые туда разжалованные бунтовщики и к ним прикосновенные могут найти покровительство у чиновных лиц и способ для нежелательных общений…
Дибич почтительно наклонил голову:
– Мною из внимания сие не упущено, государь!
…15 марта 1828 года Муравьев был произведен в генерал-майоры и назначен командиром гренадерской бригады Кавказского корпуса.