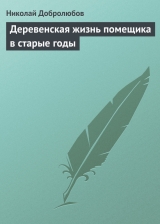
Текст книги "Деревенская жизнь помещика в старые годы"
Автор книги: Николай Добролюбов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
Взгляд Софьи Николаевны на крестьян объясняется аристократическим складом всех ее убеждений и чувств. Она любит изящное, доброе и благородное, но мысль поискать всего этого между крестьянами не приходит ей в голову. Ей сильно препятствует здесь то ложное положение, в котором стоит она к этому народу. Она, конечно, не стоит на степени развития Простаковой, которая, узнавши, что Палашка лежит больная и бредит, восклицает с негодованием: «Лежит, бестия, – бредит! как будто благородная!» Но все-таки и Софья Николаевна не могла еще дойти до понятия о том благородстве, которое равно свойственно и помещику и крестьянину и которое нередко может быть в совершенно обратном отношении к общественному положению лица. Она желала бы вовсе не знать о существовании крестьян, которых положение вовсе ее не занимает. Проезжая через Парашино и видя крестьянские запасы хлеба, Алексей Степаныч, по чувству ли хозяина или просто по доброте сердца, восклицает: «Вот так крестьяне! молодцы! Сердце, глядя на них, радуется». Но Софья Николаевна не только не радуется, а даже не обращает внимания на слова мужа. Проезжая мимо хлебов, Багров опять жалеет, что не успеют мужички убраться; жена его и тут слушает его без малейшего участия. Маленький сын прибегает к ней с восторженными рассказами о том, что он видел на поле, как крестьяне пашут, сеют, косят: она не только без участия, но даже с неудовольствием слушает его рассказы… Сыну хочется идти вместе с отцом посмотреть на заимку пруда: она его не пускает, потому что «нечего ему делать в толпе мужиков и не для чего слушать их грубые и непристойные шутки прибаутки и брань между собою». Муж напрасно старается уверить ее, что ничего подобного не бывает (стр. 365–366). В ее присутствии багровские дворовые девушки должны отказаться от своих песен и с сожалением говорят ее сыну: «Матушка ваша не любит наших деревенских песен» (стр. 391). Словом, полное отчуждение от простого быта крестьян, высокомерное пренебрежение к нему выражается почти в каждом поступке Софьи Николаевны, хотя она не позволяет себе никаких жестокостей и грубостей.
Отчего же такое отчуждение в ней именно? У нее должно быть все-таки больше развито чувство любви и уважения к человечеству, нежели, например, хоть в стариках Багровых; почему же они не чуждаются крестьян, а она чуждается? Если мы вдумаемся в сущность этого явления, то неизбежно должны, кажется, прийти к заключению, вовсе не отрадному. Какие точки соприкосновения с крестьянами видим мы в старинном быту помещиков? Во-первых – корысть. Хозяйственные распоряжения неизбежно сближали помещика, живущего в деревне, с крестьянами, которые должны исполнять его распоряжения с соблюдением его выгод. Вторым обстоятельством, сближавшим помещиков с крестьянами, были тогда – равно низкая степень образованности тех и других. Нравы большинства помещиков того времени были грубы и невежественны, как мы уже видели из множества примеров; следовательно, нечего было опасаться, чтобы какое-нибудь жесткое выражение или грубый поступок не оскорбил нравственного чувства господина. Куролесовы, Багровы и тому подобные потому не боялись сближаться с своими крепостными людьми, что не видели в себе нравственной разницы с ними. Притом же, входя в хозяйственные сношения с крестьянами и даже пускаясь в интимности с домашней прислугой, они знали, что ни к чему себя этим не обязывают. Они знали, что все-таки эти люди находятся в их руках. Куролесов, кутивший с пьяной ватагой всяких сорванцов, тем не менее пробовал свои «кошечки» на том из них, кто ему не нравился. Дочь Багрова, Татьяна Степановна, ничуть не считала неловким бить свою Матрешку, верную хранительницу ее заповедного амбара со всеми его секретами. Дело очень естественное: помощь, услуги, сообщничество этих людей – все считалось обязательным; они не могли и не смели не сделать так, как это им приказано; следовательно, принимая услуги их, поверяя им свои нужды, господин все-таки не терял своих прав: мог их наказывать, ссылать, сечь, сколько его душе угодно было. При таких понятиях отчего же было и не сходиться с крестьянами и дворовыми, отчего не сближаться с ними по наружности? Ведь существенное-то расстояние все-таки оставалось и не могло быть забыто ни тем, ни другим… Этих-то воззрений не могла, конечно, понять Софья Николаевна; а до других она не могла еще возвыситься и потому остановилась на распутье – на пренебрежении к простому народу и к простому быту.
Вот в каком виде представляются нам, по запискам г. Аксакова, отношения к крестьянам в разных лицах семейства Багровых. Выписки из подлинных воспоминаний других современников того века и из тогдашних сатирических нападений могли бы совершенно подтвердить верность и обыкновенность всего, что описывает нам г. Аксаков. Надо признаться, что результаты этих фактов не слишком отрадны. Неразвитость нравственных чувств, извращение естественных понятий, грубость, ложь, невежество, отвращение от труда, своеволие, ничем не сдержанное, представляются нам на каждом шагу в этом прошедшем, теперь уже странном, непонятном для нас и, скажем с радостью, невозвратном.
«Но ведь не постоянно же крепостные отношения вторгались в деревенскую жизнь помещика, – заметит читатель. – Из очерка этих отношений мы всё еще не составляем себе определенного понятия о том, как именно проходила домашняя жизнь наших предков-помещиков, чем они занимались в деревне, вообще как проводили свое время. Может быть, здесь найдется и светлая сторона нравов того времени, может быть, семейные добродетели старинных помещиков и примирят нас с ними за те ложные и невежественные отношения, которые развивали они в своей жизни и которые, впрочем, и не зависели от воли отдельных личностей…»
Мы должны сознаться, что требование читателя вполне справедливо и что даже, судя по заглавию статьи, читатель мог ожидать от нас не того, что мы изложили. Мы обещали очерк деревенской жизни старинных помещиков, а говорили об их отношениях к крестьянам и крепостной прислуге. Но для своего оправдания мы должны сказать, что такой оборот дела составляет не нашу вину. Что же делать, когда крепостные отношения проникали собою всю жизнь старинных помещиков, особенно живущих в деревнях, и обнаруживали свое влияние даже там, где всего менее можно было бы ожидать: в домашних забавах, в родственных отношениях, в воспитании детей помещиков. Из многих фактов, приведенных нами в продолжение статьи, можно видеть отчасти, как протекало время для старинных деревенских жителей, владевших крестьянами. Но нужно сознаться, что точного и определенного очерка жизни тогдашней не дает ни один из авторов, писавших мемуары о том времени. Должно быть, жизни, собственно, и не было в этой темной, удушливой среде; было какое-то прозябание, не оставлявшее по себе никакого следа и потому не могшее быть уловленным воспоминаниями тех, кто старался изобразить этот быт. Подобно другим мемуарам, и записки г. Аксакова не представляют в этом отношении удовлетворительного очерка. Прочитав эту толстую книгу, невольно спрашиваешь себя: «Что же, однако, делали эти люди всю свою жизнь? Как они ее прожили? Чем занималась все время своего тридцатилетнего девичества – хоть тетушка Татьяна Степановна? Какое занятие было у самой матери Сережи?» На все это даются ответы очень смутные, отрывочные, неудовлетворительные. Для разъяснения дела может отчасти служить «Добрый день Степана Михайловича», описанный в «Семейной хронике». Он дает некоторое понятие о той праздности и лени, в которую погружено было целое семейство, вне хозяйственных забот, лежавших почти вполне на одном только главе дома. Просыпается Степан Михайлович рано, даже раньше слуг своих, которых будит в добрый день – не калиновым подожком, не пинком и не стулом, как в другие дни, а просто – по-человечески. Только что он встал – и весь дом на ногах: вся семья почтительно идет к старику здороваться. Потом пьют чай, и затем отец отправляется на поле, где испытывает доброту пашни известным уже нам способом. С поля он возвращается прямо к обеду, который уже непременно должен быть готов к его возвращению. За стулом хозяина стоит во все время обеда Николка Рузан с целым пучком березы и обмахивает его от мух. В столовую собираются дворовые мальчишки и девчонки «за подачками»: они знают, что Степан Михайлович весел и будет обделять их кусками с своего стола. После обеда, бывшего всегда в полдень, все ложатся спать и спят часа четыре. Затем отец едет на мельницу и берет с собою всю семью. Оттуда возвращаются домой, и барин толкует со старостой, затем ужинает; после ужина старик прохлаждается несколько времени на крыльце, забавляясь дракою своих слуг, и наконец мирно ложится спать.
Вот вам целый день, один из лучших дней. Какая деятельность выпадает тут на долю Арины Васильевны и дочерей? И что делает сам Степан Михайлович, ежели он не ходит в поле и не ездит на мельницу? – этого, право, мы не умеем сказать. Должно быть, ничего не делает. Подтверждение этой мысли находим мы в замечании г. Аксакова о Куролесове, который умел вести себя хорошо в первые два или три года, пока у него было дело на плечах, пока он занят был устройством имения. Но потом праздность одолела его; натура-то была у него широкая, а дела себе никакого не находила: и пустился Михаил Максимович в пьянство и буйство. Другие не пускались в такие художества, но прозябали без шума и следа, не думая ни о чем и ни в чем не пытая своих сил. Богач Д. занимался своим крепостным оркестром и заморскими чушками; Прасковья Ивановна – приемом гостей и картами; Арина Васильевна – пряжей козьего пуху, в промежутки между сном и процессом наполнения желудка. Экстраординарными занятиями были – уженье, охота, собирание грибов и ягод… А уж зимой, – постигнуть нельзя, что делали в деревне зимой… В зимнее время, вероятно, увеличивались те забавы и развлечения, образцы которых представили мы выше, в выкидыванье артикула – Дарьей Васильевною вместо ружья. Тут же, конечно, помогали много и благодетельные карты, служившие то для игры в дурачки, то для гаданья. С течением времении, т. е. в поколении, следовавшем уже за Степаном Михайловичем, развивалась любовь к чтению;, так, у Татьяны Степановны был уже свой любимый песенник… Чего же больше?
Если мы сделаем над собою усилие и вообразим себя на месте какой-нибудь Арины Васильевны или богача Д., с их понятиями, с их материальными средствами, со всею обстановкою их жизни, то мы не удивимся их праздности. Ведь всякая деятельность непременно чем-нибудь вызывается и поддерживается; всякий работает прежде всего потому, что сознает потребность труда, нравственную или физическую, чаще всего и ту и другую, нераздельно. Скажите, отчего же потребность труда могла бы родиться в Прасковье Ивановне или в богаче Д.? Что им была за надобность работать?.. С незапамятных времен, поколение за поколением, приходят люди-счастливцы на готовое. Кто-то прежде их, для них неведомо, приготовил все это, пожил, умер, оставил другим, другие третьим. Наконец доходит до последних; им дают состояние и говорят: «Пользуйтесь! тут есть неистощимый капитал, который может давать столько процентов, сколько вы захотите, не выходя за пределы человеческой возможности. Вам ничего не нужно для того, чтобы пользоваться этим капиталом и процентами; довольно того, что я вам вручаю его». И неужели от счастливца, получающего этот клад, можно ожидать, что он от него откажется и скажет: «Нет, я лучше хочу сам трудиться, сам приобретать себе хлеб свой»? Нет, только Геркулес способен был к такому самоотвержению, когда его встретили с своими предложениями Нега и Труд. Зато Геркулес и относится к области мифологии. Люди исторических времен поступают уже не так. В этом отношении свойство действительных людей изображает нам рассказ Данилова о своем зяте Астафьеве. Астафьев этот служил в полку; но потом, получивши богатое наследство, неприлежно стал служить и наконец выпросился в отпуск, так как в то время отставки получить нельзя было. При этом случае он нашел милостивца в полковом секретаре, который каждый год выправлял ему отпуск за малые деревенские гостинцы: «душек двенадцать мужеска пола, с женами и детьми», с тем чтобы они были выведены, куда было им назначено (Дан., стр. 34). Вот это очень понятно и очень близко к естественным наклонностям большинства человеков!..
Грустно становится, когда раздумываешься об этих временах, которых остатки существовали еще так недавно. Но и тут, как везде, есть одна сторона отрадная, успокоивающая: это вид бодрого, свежего крестьянского населения, твердо переносящего все испытания, без отчаянного уныния, но с постоянной надеждой на милость божию и царскую. Много сил должно таиться в том народе, который не опустился нравственно среди такой жизни, какую он вел много лет, работая на Багровых, Куролесовых, Д. и т. п…. Весело смотрел маленький Сережа на дружную работу косцов и потом с восхищением рассказывал, как это хорошо – косить. Ему ответили, что смотреть-то хорошо, а работа очень тяжела, и он долго не мог помириться с мыслью, чтобы такая веселая и красивая работа могла быть тяжела. В другой раз он видел жнитво, при котором на вопрос отца его: «Не тяжело ли?» – крестьяне отвечали: «Тяжеленько, да как же быть: рожь сильна, – прихватим вечера». Тут маленького Сережу поразили тяжело дышащие, согнутые над серпом крестьянки, обвязанные грязными тряпицами пальцы на руках и босых ногах работавших, и особенно плач грудного ребенка, который был тут же, в поле, с матерью, как бы приучаясь к этой «страде» крестьянской. Сережа с любопытством смотрел, как молодая женщина, воткнув серп в связанный ею сноп, подошла к ребенку и тут же, присев у стоящего пятка снопов, начала целовать, ласкать и кормить грудью свое дитя, а потом снова положила его в люльку и принялась жать с особенным усилием, чтобы наверстать потерянное время и не отстать в работе. «Невыразимое чувство сострадания к работающим с таким напряжением сил, на солнечном зное, обхватило мою душу», – говорит г. Аксаков (стр. 61). Через несколько времени крестьянские работы дали ему испытать еще новое чувство. Он увидал, как боронят землю крестьянские мальчики, и сам захотел попробовать боронить. Мать сначала говорила ему, что это вздор, что это не его дело, но наконец согласилась на усиленные просьбы сына. Разумеется, оказалось, что Сережа не только боронить не может, но даже ходить по вспаханной земле не умеет. «Крестьянский мальчик шел рядом со мной, – говорит он, – и смеялся. Мне было стыдно и досадно» (стр. 369).
Да, все эти поколения, прожившие свою жизнь даром, на счет других, – все они должны были бы почувствовать стыд, горький стыд, при виде самоотверженного, бескорыстного труда своих крестьян. Они должны бы были вдохновиться примером этих людей и взяться за дело, с полным сознанием, что жизнь тунеядца презренна и что только труд дает право на наслаждение жизнью. А они не совестились присвоить себе это наслаждение, отнимая его у других. Горькое, тяжелое чувство сдавливает грудь при воспоминании о давно минувших несправедливостях и насилиях… Но радостно бьется сердце при мысли, что мы уже пережили эти времена, что теперь блестит уже новый день, что грядущие поколения ожидает не принужденный труд без вознаграждения, а свободная, живая деятельность, полная радостных надежд на собрание плодов, на неотъемлемую, собственную жатву того, что посеяно. Скорее же прочь все остатки отживших свое время предрассудков! Своекорыстные расчеты и привычная лень должны умолкнуть пред величием общего начинания ко благу человечества. Голос правды, голос любви призывает: не время оставаться в прежней праздности и апатии. Пусть воспоминания того поколения, которое возрастает теперь, представят наше общество в лучшем свете, нежели в каком являются пред нами, в воспоминаниях правдивых современников, люди конца прошедшего столетия!..
Примечания
Условные сокращения
Все ссылки на произведения Н. А. Добролюбова даются по изд.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах. М. – Л., Гослитиздат, 1961–1964, с указанием тома – римской цифрой, страницы – арабской.
Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.
БдЧ – «Библиотека для чтения»
ГИХЛ – Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. I–VI. М., ГИХЛ, 1934–1941.
Изд. 1862 г, – Добролюбов Н. А. Сочинения (под ред. Н. Г. Чернышевского), т. I–IV. СПб., 1862.
ЛН – «Литературное наследство»
Материалы – Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 гг. (Н. Г. Чернышевским), т. 1. М., 1890 (т. 2 не вышел).
ОЗ – «Отечественные записки»
РБ – «Русская беседа»
РВ – «Русский вестник»
Совр. – «Современник»
Чернышевский – Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., Гослитиздат, 1939–1953.
Впервые – Совр., 1858, № 3, отд: II, с. 1–29, без подписи. Вошла в изд. 1862 г.
Внутренняя тема статьи, написанной на материале автобиографической повести С. Т. Аксакова, – крепостное право. Появившись вскоре после разрешения обсуждать эту тему в печати (разрешения весьма относительного, что сказалось и на цензурной истории данной статьи, в которой был сделан ряд крупных и мелких купюр; см.: II, 538–540), статья Добролюбова была одной из первых попыток открыто осмыслить явление крепостничества и произнести ему приговор в то время, когда вопрос об отмене крепостного права был еще далек от своего разрешения и, осуждаемое в передовых кругах, оно для многих оставалось естественным и нормальным состоянием. Статья показывает, что своекорыстие и произвол в отношениях с крестьянами определяются не личными качествами отдельных помещиков (жестокостью, невежеством), а всем строем жизни, системой общественных отношений. Сами пороки помещиков есть пороки целого сословия, развращенного праздностью и бесконтрольной властью над крепостными. Следуя «системному» подходу к рассматриваемому явлению, Добролюбов проследил всеобъемлющий характер крепостных отношений, вносящих произвол и раболепие и во взаимоотношения внутри господствующего класса, в его семейную жизнь.
Будучи одним из ранних (вслед за «Губернскими очерками») образцов «реальной критики» Добролюбова, статья отличается в этом плане некоторыми особенностями, обусловленными противоречивым отношением критика к повести С. Т. Аксакова. С одной стороны, он видит ее правдивость, с другой – не может не воспринимать творчество этого писателя, с его объективно-созерцательным взглядом на мир, как явление идейно далекое. Тем более что в этот момент оно активно использовалось частью критики (см. примеч. 2 и 3) как аргумент в споре с «отрицательным направлением» в литературе. Поэтому в данном случае Добролюбов не просто берет произведение писателя как материал для социологического анализа явлений действительности, но определенным образом переосмысляет этот материал, извлекает из него выводы, которые хотя и не противоречат содержанию книги, однако, скорее всего, не были предусмотрены авторским замыслом. Как бы взрывая аксаковскую объективность, сознательно нарушая равновесие его акцентов, он заставляет характеры и эпизоды книги «работать» на свою публицистическую идею.
Новизна критического метода Добролюбова вместе с некоторыми издержками его применения в рассматриваемой статье (одностороннее подчеркивание «мемуарного» характера книги Аксакова, демонстративный отказ принимать во внимание ее поэтический мир), а также – под покровом иронии – ощутимая двойственность позиции критика по отношению к данному материалу послужили причиной того, что, судя по немногим известным откликам, статья не была достаточно понята современниками. Товарищ Добролюбова по Главному педагогическому институту А. П. Златовратский увидел в ней панегирик Аксакову и отказ критика от прежних убеждений. С другой стороны, Н. Г. Чернышевский, отводя эти обвинения, находил в статье «самое полное, самое едкое» «осмеяние похвал уму и таланту С. Аксакова» (Материалы, с. 439), что было явным преувеличением. Пожалуй, рельефнее всего смысл и характер статьи выступил в недоброжелательном освещении С. П. Шевырева: «Критик… воспользовался новою книгою автора, чтобы извлечь из нее новые обвинительные пункты против старой русской жизни, и нашел материал порядочный, доказав тем, как он совершенно не понимает духа произведений писателя, которым для своих целей пользуется», – хотя осуждение Добролюбовым крепостного строя в целом было истолковано им как стремление превознести современность за счет «старого времени» (РВ, 1858, № 2, с. 74).
К произведениям Аксакова Добролюбов вернулся еще раз в рецензии на «Разные сочинения С. Аксакова» (наст. изд., т. 2).








