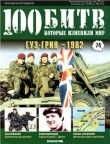Текст книги "Гель-Грин, центр земли"
Автор книги: Никки Каллен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
ДИКИЙ САД


Хоакин дежурил в ночь; с двадцать седьмого октября на двадцать восьмое; газеты назвали её наутро «страшной», потому что от ветра рухнуло столетнее дерево на трансформаторную будку в микрорайоне – во всех домах, как в рекламном ролике, погас свет. Кроме областной больницы, которая имела автономное электропитание; Хоакин проходил здесь практику, сидел на корточках в курилке, тонкой металлической площадке между лифтами; вместо стены – стеклянный коридор; и тихо-тихо, будто подкрадываясь, курил; темно-коричневые сигареты; он сам их делал – из темно-коричневой, тонкой, как волосы, и промасленной, как куртки портовиков, бумаги, набивая табаком «Капитан Блэк-Роял», пахнущим сливой и корой темных деревьев. Дождя не было, хотя тучи в полную луну серебряные неслись, как стая птиц; юноша увидел, как взметнулась в небо свечка пожара от трансформаторной будки, понеслись, разбрасывая синие снопы искр, алые пожарные машины; всё это был только цвет, как смотреть на аквариумных рыбок, – до пятого этажа не доносилось ни звука; а потом вышла из родильного отделения женщина и вытащила вонючую, как рыба, беломорину.
– Не могу, – сказала, села рядом, пахла потом и кровью, как звери в цирке, – уйду я отсюда… Умерла, молодая такая, красивая, из журналов за сто долларов…
– А ребенок? – Хоакин работал здесь месяц и наслушался как священник.
– Живой, такая лапочка… мальчик…
– В приют?
– А куда еще, если ты не возьмешь, – больница была построена в здании монастыря шестнадцатого века; медсестры носили форму, стилизованную под монашескую, – белое покрывало и синие платья ниже колен; выражались как сапожники; самыми известными отделениями были хирургическое, куда взяли Хоакина по протекции дяди, и родильное: с молчаливого согласия еще монастыря с шестнадцатого века сюда приходили женщины, рожали анонимно и оставляли детей – в приют для младенцев; в соседнем здании – красный кирпич, витраж с Мадонной – необыкновенная красота, в расписании всех туристических буклетов. Судьба детей принадлежала далее католическому приходу. – Странные у тебя сигареты, покажи; сам делаешь?
– Отец научил; разве можно усыновить ребенка до приюта?
– Нет, конечно, но я сегодня одна дежурю и никому не скажу.
Это было невозможно – словно покупал товар из-под полы на рынке; всё пестрит, продавец нервно оглядывается… Хоакин подумал об «Омене», потом о своей жизни – похожей на лунное небо; вздохнул и сказал: «пошли».
Ребенок лежал в кроватке, весь в белом, и спал, приоткрыв рот.
– Даже не заплакал, сразу открыл глаза и улыбнулся… Глянь, даже похож на тебя, смуглый, черный, – Хоакин наклонился ближе и увидел выбравшуюся из-под хлопка розовую ручку – крошечную, как зрачок.
– А что с ним делать? – женщина засмеялась, зажав рот, грудь под синим платьем заколыхалась, словно поле колосьев на ветру.
– Кормить, пеленать, покупать памперсы, потом учить ходить и читать, а потом уже само заживет, – юноша сел перед кроваткой и задумался – так надолго, что у медсестры вскипел чайник; она его заварила и разлила по кружкам – дежурным, из белого закаленного стекла. – Так берешь или нет?
– А можно на неё посмотреть? – она молча толкнула дверь соседней комнаты; пахло чем-то раскаленным, жарким, словно кто-то забыл убрать с плиты чугунную сковороду; на кушетке, тоже вся в белом, будто от работы свалилась, на пару минут вздремнуть, так неуклюже было сложено тело, запрокинута рука – с раздражающей, как комариный писк, красоты пальцами; черная коса до пола, таких уже не носят несколько веков, тонкий, как трещина в камне, профиль.
– Красивая, да? – перед ней он тоже сел, вглядываясь в лицо несостоявшейся возлюбленной; может, встречались на улице, может, приезжая, из маленькой деревни, где готовят на домашнем оливковом масле и давят виноград ногами. О смерти говорили только губы – по ним можно понять, любят ли человека или он злой, несправедливый; эти были любимы – но очень давно; совсем белые, как в сахарной пудре, над верхней – крошечная родинка; будто актриса из индийского кино; потом живые вернулись в палату с мальчиком, и Хоакин забрал его как был – в белом дежурном одеяле, с биркой, с пакетом молока и коробкой растворимой тыквенной каши – подарком на первый день от медсестры. Больше с медсестрой они не виделись – судьба не свела: дежурили в разные смены, а потом практика Хоакина закончилась, и он вернулся в город…
Так появился на свет Рири Тулуз. Оформить его в ЗАГСе как своего, родившегося в «страшную» ночь на двадцать восьмое октября, оказалось просто, как наступить в лужу. Никто даже не спросил: «где мама?» – секретарь спешил на свадьбу в соседнем зале; видно, сам Бог вел дела. Хоакин никому так и не сказал, что усыновил Рири, даже священнику, и дело было не в тайне и нарушении закона: после ночи, когда Рири несколько раз просыпался, кричал, пришла соседка, сжалилась, показала, как греть молоко и разводить кашу, принесла бутылочку, забытую невесткой, Рири вошел в кровь и подсознание Хоакина – как разрывная пуля, вместо свинца – нежность.
В ночь, когда родился Рири, Хоакину исполнился двадцать один. Он никогда не праздновал свой день рождения: так завели родители. «Адель и Альфонс Тулузы были двоюродным братом и сестрой; из-за этого их не венчал священник в церкви, не давал причастия и исповеди; они смирились с тем, что живут во грехе, хотя не пропускали ни одной воскресной службы; и до сорока лет Адель не заводили детей. Когда наконец Адель поняла, что не сможет умереть, не оставив никому их молочной фермы, виноградников, оливковых деревьев и фруктового сада, фамилии Тулуз – её родной брат в городе, знаменитый хирург, был бесплоден, – она вывела мужа в лунную полночь, – так рассказывала Хоакину кормилица Этельберта, – в зимний сад и заставила заняться любовью под Белой ивой – это было самое большое и самое старое дерево в саду; с корой серебристого цвета; даже в самую темень его было видно издалека, как маяк; по поверьям, его посадил первый из Тулузов, а потом закопал под ним горшок с золотом, и все Тулузы должны были зачинаться под этой ивой, чтобы быть богатыми и продолжать здесь жить». Альфонс не верил в легенду Белой ивы, хотя и его самого, по рассказам той же Этельберты, сделали под Белой ивой; но Адель действительно забеременела; а схватки у неё начались ночью, когда пришла с севера буря, поломала половину деревьев в округе; в доме никого, кроме Адель, не было: Альфонс уехал в город на семинар фермеров-сырников с ночевой, а Этельберта ушла в гости к племяннице и засиделась допоздна. Сад скрипел, как корабельные снасти; тучи рвало на части, словно ветхое платье; Адель, вязавшая у камина, уронила клубок, потянулась, и вдруг её словно иглой укололи внизу живота; она поняла, что рожает. «Господи», – взмолилась она впервые за те годы, когда жила с Альфонсом: холодность приходского священника прочно утвердила в ней мысль, что Господа она недостойна, как простая крестьянка – приема у генерала. «Пресвятая Богородица, помогите мне; пусть ребенок родится нормальным». Больно ей не было, а было странно – словно внутри развели костер, но не как с мужем в любви, а в лесу разбойники готовят ужин. Женщина походила по темному дому, обнаружила, что может что-то делать, – поставила забытый кувшин с молоком в холодильник, нашла полосатый носок Альфонса за креслом, переставила книги на полке. За окном бил ветер; словно пытался крикнуть важное; Адель выглянула, и ей показалось, что в саду кто-то есть. Она не испугалась – женщины из рода Тулузов что драгоценные камни; крепкие, как вина их края; она взяла дробовик из-под кровати, накинула шаль и вышла на крыльцо. Из-за ветра ничего не было видно, мелко моросило, словно летела в лицо мошкара; Адель спустилась в сад и закричала: «эй, кто здесь есть, уходи, иначе не поздоровится». У сада словно крылья выросли, он рвался в небо, как стая ворон; Адель слушала и отбирала звуки, как пряжу для вязания, и услышала возню у Белой ивы; а потом увидела силуэт – длинный, тонкий, бесчеловечный, как тени от фонарей; и выстрелила. Отдачей её швырнуло на траву, мокрую, черную, как болото, Адель закрыла голову руками, укусила землю от боли; раздался скулеж, и сквозь начавшийся, как бал, ливень она поняла, что выстрелила в приблудную собаку. «Бедная, бедная моя девочка, откуда ж ты взялась…» – пробормотала она и двинулась к Белой иве – спасти собаку; но ребенок пошел, и жить стало невозможно.
Альфонс смотрел в это время на дождь в окно гостиницы; он собирался ложиться спать: развязал шнурки на воротнике крепкой белой крестьянской рубашки и сел на кровать, ноги не держали – так он беспокоился за жену; любовь к Адель была для него как привычка курить: если трубка оставалась в другой комнате, он начинал нервно озираться, терять почву под ногами. Он тоже молился Богу, в которого верил, а не в священника; Адель же добралась до дерева, нашла собаку; незнакомую, худую, белую; выстрел раздробил ей заднюю лапу; собака, вместо того чтобы накинуться, заскулила и в ответ на ласку облизнула женскую руку. Адель обхватила её тело, большое, теплое, другой рукой вцепилась в иву – и так родился Хоакин. Мать поймала его в нижнюю юбку, перерезала пуповину ножом из кармана; отлежалась в траве, слушая, как уходит буря и приходит рассвет; потом нашла силы встать, увидеть ребенка – он был весь в крови и тяжелый, как корзина яблок; смуглый с золотом, как все Тулузы; перевязала собаку куском юбки; и вернулась с ними двумя новыми в дом. Нашла в аптечке обезболивающее, вколола собаке, та заснула у догорающего камина; потом нагрела воды и обмыла ребенка – он наконец-то показался ей красивым, как сложная по замыслу картина. Адель перекрестила его, покормила теплым молоком из бутылочки для телят; ей рассказывали, что дети только и делают, что кричат, но Хоакин – имя придумалось сразу, их с Альфонсом деда и любимого в юности актера – молчал, будто знал уже, что она этого не потерпит; отшлепает, отдаст эльфам. Когда пришла Этельберта поздним утром – розовым, голубым, алым – словно никакой бури не было и в помине – «утка» для газет, – хозяйка уже мылась сама, в тазу посреди гостиной, в свои сорок белая, гладкая, словно лебедь, черные волосы под золотой с жемчугом сеткой, из семейных драгоценностей, будто на званый ужин собралась; размазывала пену по телу, напевала что-то медленное, старинное, о замке при свечах, а в доме уже всё изменилось, как от предсказания…
Собаку назвали Буря – в честь ночи; несмотря на три лапы, бегала на охоте с Альфонсом она быстрее всех; а Хоакина принимала за своего щенка – отталкивала от всех опасных мест, если он капризил, брала за воротник и несла к Этельберте, которая стала нянькой. Ни Адель, ни Альфонс не помогали ему расти. У него были обязанности, но ни одного праздника. День рождения отличался от остальных дней только шоколадным тортом и деньгами в конверте из цветной бумаги, которые кто-то из родителей клал ему с вечера на подушку. Первые годы они опасались его, как пришельца, или как нового вида винограда, требующего по инструкции сложных условий – закрывать от солнца в одиннадцать утра куском черного бархата, дающим лиловую тень; всё ждали аномалий: слабых ног, рук, легких, рассудка; а потом, когда оказалось, что ребенок самый красивый и сильный в округе, по латыни у него высший балл, и по математике, и по литературе – наизусть знает томик Рембо в одиннадцать лет, праздника не захотел сам Хоакин. «Пригласить гостей, клоунов, дядю из города?» – спросили за два дня родители; Хоакин сказал «нет»; потому день прошел обычно.
Вставал он в пять, помогал Этельберте доить её коров. Её коровы – остальных доила машина – находились в отдельном, маленьком коровнике рядом с большим; тёплом, как ванная, с неярким желтым светом; коровы были экспериментальные: их кормили то клубникой, то яблоками, то орехами – смотрели, как изменялся вкус молока. Сыр из такого молока стоил как золото. Хоакин переносил за Этельбертой скамеечку, которую сделал сам в свои пять лет – из двух досок настоящего красного дерева, которые мальчик нашел на чердаке; и еще треснувший телескоп, карту звездного неба за восемнадцатый век, первое издание на испанском «Клуба Дюма» Перес-Реверте и малахитовый подсвечник. Коровы смотрели на них глубокими и сонными, как пруд, глазами; на рогах у них были колокольчики. С годами Этельберта ослепла; брат Адель – хирург – предлагал сделать операцию в его больнице; но Этельберта отказалась: «значит, так повелел Бог», сказала; хотя была еще молодая, спелая, как яблоко; а Хоакин заметил, что у неё совершенный слух: она насвистывала безупречно новые песенки с радио на кухне; и придумал повязать коровам на рога колокольчики – разные по звучанию, чтобы Этельберта могла называть их по именам. После дойки Хоакин сливал молоко в банки с наклейками, закупоривал их стеклянными крышками, как кофе; и шел умываться, одеваться и завтракать. На постели лежала ученическая одежда: бежевые брюки, белая рубашка с коротким рукавом, черный вязаный жилет; всегда свежие носки; Адель любила своего сына, как любят мужчину, который недоступен, – на расстоянии, лишь в письмах, стараясь не показать вблизи. Она даже старалась касаться его по минимуму. Вещи сына казались ей сыном больше, чем он сам – незнакомый, бровастый, черноволосый, родившийся из её недр под Белой ивой, сделавший её женщиной больше, чем муж. Хоакин такой и запомнил мать: прекрасной и неприступной, будто она – принцесса в верхней башне замка. Отец был проще, ближе; с загорелыми руками, узловатыми от вен и мышц, как корни; пах травами и солнцем; учил ездить на лошади, придерживая за ногу, потом отвез на конную ярмарку, купил, какой Хоакину понравился; гнедого, блестящего, словно шелковые чулки на женской ноге, черные хвост и грива; Хоакин назвал коня Парком. После завтрака он клал в карман брюк кусок черного хлеба с кориандром и шел к Парку.
Потом отец отвозил его на черном раздолбанном грузовичке в город; в суперпрестижную школу, в которой Хоакин томился семь часов из суток и почти ничего не вспомнил, кроме уроков биологии и химии. И то – покупал сам книги в городе на выходных и занимался по ночам; «мне его уже не догнать, – пошутил учитель химии в приватном разговоре с Альфонсом, – он хочет быть врачом». Альфонс удивился – молча, как это делают крупные и красивые мужчины, – поднял брови, подумал мельком о тысяче вещей: купить Адель красных шелковых ниток, изменить слоган на сыр «Ламбер», тысячу банок персикового варенья заказали в Марсель… «Врачом?» – переспросила Адель два раза, меняя интонацию, как оттенок для вышивки; зашла вечером к Хоакину в комнату. Хоакин писал сочинение по «Ночь нежна»; никто никогда не проверял у него уроков; и даже дневник не смотрел, оттого он учился хорошо. «Мама?» – встал, прибрал на столе бумаги, поправил челку, опустил глаза, как в церкви. Адель осмотрела комнату – что здесь было от него: репродукция Тулуз-Лотрека «Джен Авриль, выходящая из “Мулен Руж”» и картина, которую он купил на свои деньги, молодого художника с севера о юге – точь-в-точь их сад, совершенно невероятное совпадение: розовые камни нагреваются на солнце, огромные тополя за воротами, черная, как волосы Адель, земля, инжир, яблоки, груши; лампа, низко висящая над столом в плетеном из ивы абажуре; две статуэтки из оставшегося после скамеечки для Этельберты куска красного дерева – Марии, низко наклонившейся к младенцу Иисусу на руках, и Иосифа, протянувшего руку, чтобы обнять их обоих.
– Учитель сказал, что ты хочешь стать врачом… – у неё же в руках по-прежнему была вышивка, руки боялись остаться в одиночестве.
– Да, – учебник биологии – нет, уже серьезная книга – в твердой обложке, цена золотом.
– Кем? – вот, сейчас начнется: ты единственный сын, ты понимаешь, ты не можешь уйти в монастырь или воевать, кому мы оставим в наследство – ферму, все эти тысячи сыров, молоко с запахом и вкусом клубники, простоквашу и йогурты, кусочки фруктов из сада…
– Хирургом.
Она села, впервые села в его комнате при нём, – на краешек кровати, словно не с сыном разговаривала, а с незнакомым священником; эта сужающая лицо робость, признание своей вины – невенчанные двоюродные брат и сестра. Хоакин часто думал об этой семейной истории по ночам; другие в похожее время считают овец или вспоминают стихи; как так случилось-получилось, что его отец и мать, при всей своей почти суеверной религиозности, молодые, красивые, при живых родителях, нашли силы и смелость, подобные гладиаторским, однажды переспать друг с другом…
– Как Адриан, – её родной брат, его дядя; вздохнула, будто клубок второй раз за пять минут упал с колен и покатился под диван. – Ну что ж, если будут трудности, всегда сможешь ему позвонить, – и ушла, оставив вышивку – жасмин и розы, дорожка сада, выложенная красными кирпичами; так родители отпустили Хоакина на свободу, к своей жизни; не сказав ни слова в упрек, потому что в первую очередь считали грешными себя. Хоакин вспоминал и это в бессонницу, развившуюся после студенческих ночных дежурств, – и понимал, какие они странные, его родители, такие красивые, живущие в своем мире; и сильные – как птицы, как первые христиане…
Иногда Хоакину говорили в классе: «эй, фермер», но не больше; никаких ярлыков и попыток драться. Хоакин был сильнее любого из одноклассников – сплошь бледных городских подростков; к тому же фамилия Тулузов стояла на двадцати пяти процентах молочной продукции района; семья старинная и богатая, как история Испании. После школы Хоакин поступил в университет – никакого вмешательства дяди Адриана не потребовалось; он хоть и был среди экзаменаторов – понял, что племяннику ничего не нужно, у него всё есть: молчаливость, точность и тонкие, как тростник, пальцы. «Хирург Хоакин Тулуз» – писал первые дни учебы на клочках бумаги юноша и страшно радовался, как украденному. Потом быт работы его задавил; одиночество существования; после ночных дежурств что-то темное поджидало в углах, не хотелось есть после операций; все свободные дни и вечера Хоакин просиживал в одном маленьком кабачке в подвале: красный кирпич, настоящий камин, кувшин каберне. Домой он не ездил; однажды в город приехала Адель, привезла свои вышитые картины на выставку, нашла его адрес через дядю Адриана, испугалась его провалившихся глаз и щек: «ты что-нибудь ешь?» «очень редко, мам, не хочется». Она купила ему холодильник, набила продуктами. «Мам, зачем, я же всё равно это один не съем» «Тут и есть пока нечего, будешь учиться готовить – меня так моя мама от анорексии вылечила; я не могла есть, когда отец Оливье отказал мне в исповеди…» Хоакин оценил единственное откровение о той дальней семейной истории, не дававшей спать ему по ночам; взял неделю за свой счет, и они прожили её среди сковородок, разделочных досок, кастрюлек разного калибра, рыбы, овощей, ножей, мяса, фруктов, мерных стаканов, муки, масла, соли, перца, чабра, мускатного ореха, коньяка и вина, картофеля фри, чеснока, сельдерея и салата. Адель знала три кухни в совершенстве: испанскую, итальянскую и французскую. Готовили они круглосуточно, ели потом по ночам, кидаясь друг в друга виноградинами, дольками апельсинов из десерта, смотрели всё время телевизор – сумасшедшие ночные фильмы: фон Триера, Тарковского, Бертолуччи, Кубрика, Карвая. Так готовка еды и каннские фильмы стали страстью Хоакина; с ними он прожил семь лет учебы, а в последнем, восьмом, родился Рири.
Больше всего на свете Хоакин боялся, что Рири будет странным, плохо воспитанным, неаккуратным, крикливым, неудачником – и это будет его вина, Хоакина, что он взял на себя ответственность и будет мучиться, в чем его вина, а что – неизвестное наследственное. Но Рири рос сам по себе; словно при рождении подарили Вселенную и назначили по ней дежурным; дали красный шелковый галстук. В самый первый день совместной жизни Хоакин, устав в полночь от классического беспричинного (покормили, пеленки сухие, лампа стоит на полу, а не режет глаза) плача, наклонился над кружавчиками и сказал спокойно: «Рири, если сейчас же не заткнешься, я тебя или эльфам отдам, или продам на органы». Ребенок умолк мгновенно, будто отключили свет. «Поверил», – подумал Хоакин и упал в подушку. Ему приснилось, будто он сам маленький и ту же фразу ему говорит Адель. Время бессонницы закончилось, как засуха.
Первый год с Рири сидела соседка. Хоакин работал в реанимации – «скорая помощь», всякий экстрим с газетных полос: драки нацистов с «бундокскими братьями», жена проломила мужу затылок топором, взрывы газа, пожары; его сокурсники, молодые, бледные от ламп дневного света, оставались после смены, крови, мозгов, соплей выпить, поговорить, а Хоакин бежал-бежал домой – что еще нового – Рири рос не по дням, а по часам, как в богатырских сказках; и однажды, ночью, лил дождь, Хоакин открыл дверь, соседка улыбнулась: «а он пошел», вывела под мышки Рири в синих рейтузах и синей рубашке; Хоакин сел на корточки, не снимая плаща, перчаток, протянул руки малышу: «ну, иди же к папе». И Рири шагнул – прямо в объятия Хоакина, который пообещал себе, что никогда не будет бояться детей, как боялись его собственные родители.
В два года Хоакин привез его к Альфонсу и Адель – знакомиться. У Альфонса было новое увлечение – плетеная мебель. Он выписал себе книг, каталогов, купил ножи, лак; и весь дом, веранда, летняя кухня были заставлены плетеной мебелью, которую он делал сам. Первый опыт – рукодельный столик для Адель; самый лучший – кресла-качалки, в которых сидели и курили Альфонс и Хоакин всю неделю бытия. «Кто мать?» – спросил Альфонс. «Она умерла при родах» «Не женились?» «Я бы привез…» «Жаль, что он был зачат не под Белой ивой, – это значит, что Тулузы уедут из этих мест». И тут из кухни раздался крик: Адель варила варенье, и Рири, любопытный зверек с блестящими глазами, залез ногой в таз с остывающим вишневым. Нога была в сандалике и колготке, но Адель кричала и никак не могла остановиться, будто на её глазах рушился мост, хотя сам Рири удивленно молчал, стоял в тазу и размышлял сосредоточенно в носу пальцем, отчего так горячо ноге. Хоакин извлек сына из варенья и быстро промыл ногу, обмазал мазью из тойота-короновской аптечки; испугавшись крика бабушки, Рири тихо захныкал, и Хоакин его носил и носил на руках по веранде, укачивая, как на пароме, и мальчик заснул. «Не знаю, как извиниться, Хоакин» «Мам, всё в порядке, я понимаю, это ты прости, что испортили варенье» «Ерунда, ели же мы уху, в которую однажды Буря принесла и кинула без нашего ведома дохлую водяную крысу», – сказал Альфонс, и взрослые начали давиться смехом, как тайной; зажимая рты, как первоклассники на задних партах, стараясь не разбудить спящего в кресле-качалке Рири.
Они даже и не подумали, что Рири не его сын. Он был весь абсолютно тулузовский: с темными глазами и бровями, смуглым телом, резкими, как шрам, чертами лица. Красивый, подвижный, смелый, любопытный, он не раз бился током, резался, обжигался; но мир, незнакомые предметы, люди, животные, ветер, дождь притягивали Рири, будто он собирался писать роман. В ту же неделю его крестили – в маленькой кирпично-красной домашней часовне; священник был не отец Оливье, тот уже умер, давно, еще до рождения Хоакина, а его племянник – отец Артур – пронзительно-молодой, необыкновенной красоты человек, с синими глазами, профилем словно из Средневековья. Адель и Альфонс подарили внуку золотой крестик с рубинами на месте ран Христа и головку сыра, пахнущего грецким орехом; губы намазали чесноком и вином, как манновского Генриха; «чтобы запомнил, как пахнет его земля», – сказал Альфонс, старый фермер. Крестины праздновали шумно: пригласили всю дальнюю родню, всех соседей, дядю Адриана из города; весь сад был увешан фонариками из разноцветной бумаги, веранда оплетена розами и гирляндами; «за нового Тулуза – Анри – да благословит его Господь и примет к себе этот фруктовый сад». Рири играл со щенками Бури, одного ему дали с собой – Шторма – белого и лохматого, как астра; и теперь уже присмотр соседки не требовался: Шторм так же смотрел за Рири, как в свое время Буря – за Хоакином.
В три года Рири влюбился. Как полагается в песнях – в соседскую девочку. Соседка, помогавшая Хоакину в первую ночь и в первый год, уехала в деревню, к дочери и её мужу-виноделу; и в их квартире поселились бабушка с внучкой. Они были нездешние – с севера, причем далекого; у бабушки глаза цвета моря, внучку еле-еле видать – такая тоненькая, невесомая, прозрачная; словно ветер. Их вещи выгружали на радость всему двору: старинное пианино с подсвечниками, белые диван и кресла, зеркало в стеклянной оправе и много-много картин – все пейзажи, только два портрета: девочки – наконец-то можно было рассмотреть её почти призрачное от тонкости лицо, – она была поймана возле танцевального станка, отражалась, множилась и смотрела на себя, многочисленную, улыбаясь кому-то не в картине; и того же возраста мальчика – темноволосого, сероглазого, как король, в черной бархатной одежде. Хоакин пришел с работы поздно: заболел друг и он брал его смены; Рири спал у телевизора на ковре, мультики скакали на потолке; Хоакин сел в пальто рядом и обнял; Рири замурлыкал и проснулся, повис на нём, потом отстранился и сказал: «Пап, приехали бабушка с девочкой, они теперь наши соседи; девочка танцует в балете, бабушка вяжет и играет на пианино; пойдем с ними знакомиться?» Хоакин ничего не понял, засмеялся, поцеловал в висок, пошел на кухню разогревать ужин. И тут в дверь позвонили. Рири открыл. Это была северная бабушка, закутанная в платок из ангорской белой шерсти; она попросила соль.
– Вы проходите, – крикнул из кухни Хоакин. – Очень приятно, что вы зашли. Мой сын как раз собирался сам идти к вам в гости.
Бабушка собиралась стоять в прихожей, но Рири вежливо взял её за мягкую, как подушка, руку, привел на кухню. Бабушка была поражена: сдавая ей комнату, хозяйка дома предупредила, что сосед по площадке – молодой отец-одиночка; но уюта, соломенного абажура, полотенец и занавесок в клетку, огромного холодильника в магнитных бабочках и шкафчика специй она не ожидала. Будто вошла в романы Вудхауза и Кеннета Грэма.
– Садитесь, – у ног бабушка сразу уселись цыгански яркий мальчик в вельветовых бриджах и белая огромная собака, на ошейнике – «Шторм»; и уставились на неё в ожидании – рассказов о девочке и вкусного. Крупный, как сосна, парень возился у плиты, деревянная ложка в его руке казалась детским совочком. Черное дорогое пальто и перчатки лежали на табуретке.
– Я – Хоакин Тулуз, – накрыл крышкой, зашкварчало приглушенно, как вдалеке, – это мой сын Анри, но можно называть его Рири; и его собака Шторм. Вы, видно, с севера?
– Бледные? – и бабушка засмеялась особым смехом – белым, пушистым, негромким – как пудра. – Да, с мыса Шмидта.
– Там полгода ночь, полгода день? – спросил Рири; по телевизору он смотрел только мультики и «Вокруг света».
– Да, какой уже, – погладила Рири по голове; черные волосы его, казавшиеся нагретой землей, оказались гладкими и мягкими, как атлас. – Внучка постоянно болеет, вот и приехали – погреться; вроде как в отпуск; а родители её – ученые: отец – геолог, мой сын; мать – метеоролог; Витас и Роберта Вайтискайтис – может, слышали, они еще оба постмодернисты, написали «Синеву» – поэтический «Букер» как раз в год её рождения? Остались там, работают. Мария Максимовна, – Хоакин пожал руку. – А внучка – Юэль; это в честь теплого морского течения.
– Красиво, – сказал Хоакин. – Хотите, поужинаем вместе?
Так они познакомились. Мария Максимовна в прошлом была артистка варьете – фигура у неё по-прежнему в форме песочных часов; и чулки – Хоакин мог бы поставить пару монет, что это чулки, – в сеточку – и смотрелись безупречно, никаких варикозных вен; на каблуке даже домашние туфли. Юэль пошла в неё – танцевала без повода, как другие дети поют или задают вопросы; не сидела на месте ни минуты, как вода; за ужином крутилась – белая, сверкающая юла из стекла; Рири проносил спагетти мимо рта, залазил манжетами в пасту и смотрел на Юэль сверкающими, как гроза, глазами; поминутно оборачиваясь на отца – «правда она классная?» Юэль оказалась старше Рири на два года и два месяца – родилась двадцать восьмого декабря, под Новый год, хотя ждали к Рождеству; но из-за своей хрупкости казалась ровесницей; Рири мог в любой момент подхватить её на руки, закружить по комнате, как плюшевую. Так и случалось: Хоакин уходил на работу, наготовив полную кастрюлю борща или гуляша; а Рири и Шторм эмигрировали к Вайтискайтисам, ели там всё, не капризничая, – лишь бы Юэль смотрела на них: «эти глаза напротив». Хоакин возвращался в пустой дом, звонил к соседке, навстречу ему выбегали с новостями – клеили аппликации, рисовали розы, пекли вместе пирожки с капустой и джемом. Хоакин не ревновал; Рири был для него не шансом выправить собственную жизнь, или фрейдистским комплексом, или заемом в банке под пожизненные проценты, как для большинства взрослых их дети; Рири был масляными красками, свободой, творчеством, яблоней, богом, и Хоакин был рад, что помог ему встать на ноги, познакомился с ним. Ничего больше – Хоакин был последним Тулузом, зачатым под Белой ивой; с садом и фермой Рири ничего не связывало.
Без Юэль Рири не ел и не спал; Хоакин переживал, что она будет смеяться над его сыном, но она, кажется, тоже влюбилась в Рири. Рири был мечтой – сильный, ловкий, остроумный, как черный кот; уже бегло читал и доверял во всём огромной белой собаке. Юэль учила Рири танцевать и рисовать на стекле – её второе после танцев увлечение; Рири учил Юэль плавать и бегать по ослепительным даже в декабре пляжам, строить песочные замки, собирать на берегу моря после шторма медуз и задыхающихся рыб, отпускать и смотреть вслед, как кораблю. Вместе они обожали бабушку Марию Максимовну, не орали и не носились, только когда рассматривали её альбом с фотографиями, – она была самой красивой танцовщицей в «Мулен Руж»: огромные перья, золотые груди, ноги как змеи; и тут же она рядом с дедушкой – биржевым маклером, миллионером: белое платье до пола, скромное жемчужное ожерелье, глаза в пол-лица отражают всю комнату – как опрокинутое, как в озере берег; дедушка в очках и шляпе, похож одновременно на Чехова и Гогена. Благоразумное безумие. Их сын стал геологом на Крайнем Севере. Хоакин думал – всё дело в Джеке Лондоне – чтобы вовремя попался; надо купить Рири. «Рири, пора спать, скажи людям до свидания, до завтра» – и начинались бои за Москву: «пап, ну еще чуть-чуть» «Мария Максимовна и Юэль уже устали от вас со Штормом» «Мария Максимовна, Юэль, вы устали? Нет, папочка, слышишь, не устали; папа, ну еще чуть-чуть!» «Юэль, наверное, тоже спать пора; правда, Мария Максимовна?» «тогда я буду спать с Юэль!» – и они мчались вдвоем на диван – ужасно непохожие – серебряное-золотое, – хватали толстую книгу Андерсена и укрывались ей, как щитом, сверху на диван с лаем взлетал Шторм. «Ну что с ними делать?» – Мария Максимовна разводила руками, как крыльями, – из-за шали; смеялась пудреным смехом; несмотря на прошлое, кажущееся шелухой, она была не пошлая, не вульгарная, не старая, а необыкновенно мудрая, как черепаха, и веселая, как выигрывающая в покер, – просто отличная бабушка. «Может, поженим их?» – предлагал Хоакин, и она соглашалась: «они уже часть друг друга; чья это нога? а чья это рука? непонятно», и Юэль и Рири спали вместе; а однажды пошли гулять в дождь, потеряли зонтик в луже, целуясь. Никто их не ругал.