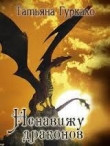Текст книги "Прекрасность паранойи (СИ)"
Автор книги: Никита Гладилин
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Annotation
На примере романов "Якутия" Е. Радова и "Укус ангела" П. Крусанова опровергается известный тезис о том, что литературный постмодернизм всегда тесно связан с либеральным мировоззрением.
Гладилин Никита Валерьевич
Гладилин Никита Валерьевич
Прекрасность паранойи
Густав Шлезингер
ПРЕКРАСНОСТЬ ПАРАНОЙИ
(2005)
Судьбы метанарративов в русском постмодернистском романе
Принято считать, что вся культура, в том числе литература постмодерна, неразрывно связана с либеральной общественной парадигмой и её победой в глобальном масштабе. Плюрализм, толерантность, иронизм, недоверие к любым метанарративам, «лого-» и всякому иному «центризму», телеологии истории и т. д. рассматриваются как фундаментальные доминанты постмодернистского мироощущения. Постмодернизм манифестирует себя как культура постиндустриального и постисторического общества, где нет места ригористическому идеализму, строгой иерархии, тоталитаризму и связанной с ними воинственной готовности любыми средствами отстаивать единственно «правое» дело. Руководствуясь теорией шизоанализа Ж.Делеза и Ф.Гваттари, «шизофреническую» парадигму постмодернизма обычно противопоставляют «параноидальным», характерным для всех универсальных объясняющих систем с их вертикальной структурой, зацикленностью на некой сверхидее или сверхцели. Отжившие метанарративы в ней приемлемы исключительно в виде осколочных цитат, элементов мозаичного универсума гетерогенных знаков.
Однако, политическая реальность последних лет показывает, что постисторическая утопия в глобальном масштабе ещё не достигнута и «паранойя» по-прежнему присутствует на политической сцене (достаточно вспомнить события 11 сентября 2001 года. Вместе с тем всё громче голоса, обличающие саму либеральную демократию по американскому образцу как глобальный метанарратив, как метадискурс с жёстко заданной иерархией ценностей, регламентацией и унификацией бытия, чреватый репрессиями – от доходящих до абсурда требований «политкорректности» и абсолютной прозрачности (читай – тотального контроля) в экономике и политике до ведения «священных войн» за демократические «идеалы». Мультикультурная модель мира многими, особенно в странах, ещё не вступивших в постиндустриальную фазу, воспринимается как однополярная, «параноидальная», что чревато эскалацией нетерпимости, ксенофобии, религиозного фундаментализма, т.е. ответной «паранойи».
Кроме того, «сданные в архив» нарративы в условиях постмодернистской ситуации по-прежнему обладают наибольшим эстетическим потенциалом. Пристрастие авторов-постмодернистов к инфернальным персонажам, одержимых какой-нибудь «параноидальной» идеей, объясняется не только соображениями коммерческого успеха, но и успеха собственно эстетического. Если «шизофрения» – основополагающая характеристика художника (не только постмодернистского – любого), то «паранойя» – оптимальная характеристика героя художественного произведения, простейший способ сделать его «интересным» для потребителя культурной продукции, соблазнить его, тем более, что вся постмодернистская культура есть «женская» культура соблазна. Этот соблазн не позволяет забыть, что лишь благодаря чьей-то «паранойе» кипят могучие страсти, отстаиваются величественные идеалы, совершаются исключительные поступки. Искусство и литература стали одними из тех резерваций, куда общество декларируемой шизофрении канализирует свои бессознательные параноидальные импульсы.
Например, такой репрезентативный постмодернистский «гипертекст» как «Парфюмер» П.Зюскинда принято интерпретировать как демонстрацию неприглядной изнанки проекта Просвещения, нищеты «культа гения» классико-романтической парадигмы. Однако, своим колоссальным успехом у массового читателя роман Зюскинда обязан не субверсивными интенциями в отношении названных метанарративов, а напротив, – демонстрацией их соблазнительного могущества. Недочеловек Гренуй в сознании читателя остаётся прежде всего носителем сверхчеловеческой способности. Эстетической удачей Зюскинда выступает не простенькая монолинеарная фабула романа, не возможные культурные и дискурсивные референции, а погружение читателя в неповторимый, хотя и предельно односторонний внутренний мир протагониста.
А вот широкий успех романного первенца У.Эко, «Имя розы», был бы невозможен как раз без крепко закрученного детективного сюжета. Изощрённые семиотические стратегии дознавателя Вильяма Баскервильского, пропаганда человечности и толерантности, «вычитанная» автором в текстах средневековых писателей, художественно убедительны лишь как реакция на череду загадочных убийств, организованных представителем тоталитарного дискурса, мрачным фанатиком Хорхе. При этом, если в классическом детективе, как правило, торжествовала добродетель и порок был наказан, то в «Имени розы» победа Вильяма над паранойей оказывается пирровой, потому что представление о живучести семян «порока» гораздо соблазнительнее, чем демонстрация его искоренения.
Второй роман У.Эко, «Маятник Фуко», по мысли его создателя, призван показать насколько опасным может быть соблазн «великих объясняющих систем», пусть даже в процессе увлекательной «игры в науку» и поставить пределы постмодернизму как декларируемому царству безответственности. Однако, в «Маятнике...» легко читается и другое: завороженность и даже одержимость творимым историческим мифом не только героев романа, но и самого автора. Жизненный крах героев при столкновении с ими же созданной и внезапно ожившей реальностью компенсируется стройностью, титанизмом, эстетическим совершенством грандиозной непротиворечивой концепции. Ни этот крах, ни финальные разоблачения и опровержения не могут по-настоящему уравновесить 40 печатных листов прогрессирующей паранойи. Её соблазнительность сознаёт и сам У.Эко: «Я рассказал историю наваждения, чтобы осудить наваждение. Но не исключено, что история наваждения сама может превратиться в наваждение. Но тогда, значит, не надо было писать библию, ибо всегда может найтись кто-то, кто самоотождествится с Каином, а не с Авелем»1.
Однако западная постмодернистская культура, демонстрируя соблазнительность, «прекрасность» паранойи вместе с тем выработала механизмы сдерживания, ограничения, «смягчения» соблазна. И дело здесь не столько в подчёркнутой «сконструированности», «литературности» героев-соблазнителей и не в саморазоблачительных комментариях соблазнителей-авторов, сколько в том, что сам соблазн в постиндустриальном и постисторическом обществе, как констатировал Ж.Бодрийар, стал «прохладным», «мягким» (soft), утратил свою гибельную ауру, выродился в «обольщение ради обольщения».
"Речь идёт не о соблазне как страсти, но о запросе на соблазн. О призыве желания и его исполнения на место и взамен всех отсутствующих отношений (власти, знания, любви, перенесения)... Соблазн теперь не более как истечение различий, либидинозный листопад дискурсов. Рассплывчатое пересечение спроса и предложения, соблазн теперь всего лишь меновая стоимость, он способствует торговому обороту и служит смазкой для социальных отношений.
Что осталось от колдовского лабиринта, где теряются навеки, что осталось хотя бы от обманного соблазна?"2
Русский постмодернизм, родившийся в недрах тоталитарного общества как исторически наиболее перспективная альтернатива официальной культуре, подобно своему западному аналогу, первоначально также был неотделим от свободомыслия, неприятия любых форм насилия, утверждения общечеловеческих ценностей. У его истоков стояли такие авторы как А.Терц (Синявский), А.Битов, Вен.Ерофеев, С.Соколов, мировоззрение которых антитоталитарно, антииерархично, ориентировано на возвращение в общемировое культурное пространство. «По отношению ко всему массиву современной русской литературы постмодернизм – своеобразное западничество»3, – резюмирует И.Скоропанова, увязывая постмодернистские устремления позднесоветского андеграунда с теорией конвергенции А.Д.Сахарова. В свой «катакомбный» период русский постмодернизм был подчёркнуто скептичен, чурался любых параноидальных проявлений и смеялся над ними. Излюбленным протагонистом был «юродивый», безобидный, интровертированный персонаж, чуждый «героике» исторического процесса, алкоголик и шизофреник (порой в точном «медицинском» смысле термина, как в «Школе дураков» С.Соколова). Примат частного над общественным, локального над глобальным был отражён в ёмкой формуле Вен.Ерофеева: «Человечеству душно от острых фабул»4. Интертекстуальная, «паразитическая» природа постмодернизма проявилась в его русской версии прежде всего в массированной деконструкции знаков официальной советской культуры. Те же Вен.Ерофеев, С.Соколов («Палисандрия»), поэты Д.Пригов, Вс.Некрасов, Т.Кибиров и др. с беспощадной иронией выворачивали наизнанку стереотипы «советского языка»; шизоаналитики В.Сорокин и Вик.Ерофеев подчёркнуто дистанцированно и объективированно исследовали либидо исторического процесса. На этом фоне чуть ли не единственным «соблазнителем» выглядел «метафизический реалист» Ю.Мамлеев, но и у него соблазн базировался не столько на «параноидальных» устремлениях к Запредельному, сколько на «шизофренических» представлениях о множественности реальностей.
Однако, с крушением СССР, сменой экономической формации, обвалом всех прежних общественных структур и проявившейся нежизнеспособностью прежних мировоззренческих установок сама жизнь на постсоветском пространстве стала стихийно структурироваться на постмодернистский лад, причём в гораздо более откровенной форме, нежели в странах с давними и устоявшимися либерально-демократическими традициями. Лишний раз подтвердилось, что «настоящими центрами постмодернистской цивилизации сегодня являются не культуры Запада, а вестернизирующиеся культуры ближней периферии, к каким принадлежит и постсоветская»5. Из диссидентского подполья постмодерн быстро превратился в доминирующее мироощущение, в культурный мэйнстрим. Художники-постмодернисты чуть ли не в одночасье столкнулись с необходимостью поисков нового эстетического импульса, помимо «протестного», и нового художественного материала для «паразитирования».
Периодизацию этапов постмодернизма в русской литературе вольно или невольно провели его непримиримые противники, идеологи молодёжного движения «Идущие вместе» в ходе скандальной акции по обмену «общественно вредных» книг. Именно они предложили в качестве жупела триаду «Сорокин – Пелевин – Акунин». Три совершенно разных по творческой манере автора оказались выстроены не по формальному старшинству, а по мере обретения известности среди «культурной» читательской публики. Эти три писателя олицетворяют собой три этапа в развитии русского литературного постмодерна вкупе с дрейфом доминанты запроса «продвинутого» читателя. У первого, получившего неформальную известность в 80-е гг. ещё при советской власти – полная деконструкция советского культурного пространства, вплоть до его аннигиляции. У второго, культового автора разломных 90-х – приспособление к бытию в условиях хаоса, освоение бесчисленных альтернативных языков и реальностей. У третьего, познавшего широкий успех на пороге нового тысячелетия – окостенение постмодерна в рамках традиционных массовых жанров и обращение к глубокой ретроспективе отечественной истории. Первый, «советский» период получил достаточное освещение в литературоведческой науке6, два последующих ещё ждут своего исследователя.
В дальнейшем мы проследим постепенные трансформации русского постмодернистского сознания на примере романов, относящихся соответственно ко второму периоду – «Якутия» (1993) Е.Радова, и к третьему – «Укус ангела» (2000) П.Крусанова. Эти два романа выбраны нами потому, что в них наиболее отчётливо тематизированы «параноидальные» нарративы и отображены изменения в отношении к ним со стороны писателей-постмодернистов и их читательской аудитории.
В «Якутии» Егор Радов (р.1962) «паразитирует» на патриотическом дискурсе в его различных вариантах, вплоть до национал-шовинистического. Романная Якутия у Радова не есть реальная географическая территория (там растут пусть чахлые, но пальмы, и пусть «вялые, скверные»7, но бананы), а метафора постсоветского пространства с его ещё не устоявшейся – и потому многообразной – мифологией.
В «Якутии» предостаточно элементов политической сатиры, прозрачных аллюзий к реальным политическим явлениям и событиям. Сюжет романа задан абсурдной затеей партии ЛДРПЯ – прорыть под Северным Полюсом туннель в Америку и сместить земную ось ради изменения климата, а также абсурдным поручением, данным протагонисту романа Софрону Жукаускасу – обойти «цепочку» законспирированных агентов и выяснить, почему потеряна связь с американскими партнёрами. Путешествуя по бескрайним просторам Якутии и попадая в самые невероятные переплёты, Жукаускас узнаёт, во-первых, что все агенты давным-давно забыли о своей миссии, которую в своё время сочли всего лишь забавной шуткой. (Одним из агентов оказывается жена Жукаускаса, двое других – её любовники). Во-вторых, сама затея ЛДРПЯ – лишь «пиаровский ход» её верхушки, а удаление Жукаускаса из столицы обусловлено тем, что его жены домогается и партийный лидер. В-третьих, даже придя к власти в столице, лидеры ЛДРПЯ абсолютно не знают, что творится в провинции, да и знать не хотят. А там за счёт криминального экспорта алмазов достигнуто процветание в одном отдельном взятом городе (правда, алмазы, как на грех, недавно кончились). Там жестоко бьются друг с другом самозваные местные царьки, а кадровые военные мстят родине, бросившей их на произвол судьбы, атомными бомбардировками её городов. А в иных местах за отсутствием какой-либо связи с «материком» («проходимости») люди живут себе, как при советской власти, в полной уверенности, что она, эта власть, никуда не девалась.
А главное – многонациональное государство охвачено вакханалией националистических страстей, абсурдных тем более, что «сакральная» суть национальных идей «Якутии», «Эвенкии», «Эвении», «России», «Великой Евреи» и даже «Хорватии» раскрывается в одних и тех же тонах почти одними и теми же словами, и подкрепляется множеством взаимоисключающих «космогонических мифов». Напрасно искать в этом выспреннем празднословии символические значения и глубинные смыслы. «Сакральный смысл» являет себя как заговаривание тотальной пустоты, танец симулякров, маскирующий многократно педалируемую иллюзорность реальности означаемых: «Якутия была призрачной, как и полагалось настоящей стране»8.
Романная «Якутия» предстаёт как царство тотального абсурда вполне в духе В.Сорокина. Даже стилистически Е.Радов во многом наследует пастишную стратегию Сорокина с её нехитрыми приёмами – например, деконструкцией «высокого штиля» внезапным употреблением табуированной лексики. Типичный фрагмент: «И без меня Русь не наполнена, не целиком, не вся. Я – часть, я – даль, я слаб, я смог! Во мне Русью пахнет, в конце концов! Потому что всё это – правда, и всё это – истина, наше дело – самое наиправейшее, и кривду мы зах...ячим»9. Рецепт создания этого бессмысленного «гипертекста» – бриколажное соединение пародийно видоизменённых цитат из русских классиков А.Платонова, Г.Державина, А.Пушкина и популярного лозунга советской пропаганды с нецензурной кодой, окончательно обессмысливающей патриотический дискурс. Вслед за русскими постмодернистами первого призыва Радов выделяет симуляционные языковые механизмы «параноидальных» нарративов, например, простое повторение, удвоение сигнификантов. Этому служит и особый «двоичный стиль», изобретённый одним из героев романа, поэтом Ильёй Ырыа, и порой применяемый его автором: «Он и он стоял и стоял у входа и входа в белый и белый чум и чум...»10 – и так на несколько страниц. Илья выступает не только как претенциозный творец якутского «державного» дискурса, но и как адепт дискурса сугубо художественного, как акционист, демонстрирующий его практическое применение с параноидальным ригоризмом, приравнивая бессмысленное убийство ни в чём не повинного человека к созданию поэмы. В результате Илья добивается «чести» быть распятым на кресте, где в его устах звучит богохульная травестия предсмертного возгласа Спасителя: «Искусство победило, убийство, крест, смерть, жизнь – всё искусство, всё для искусства, всё ради искусства. Мамчик мой, пушыша саваланаима, прими надпочечник мой через жир, почему ты наставил мне рога, почему ты не засунул мне в рот зук?»11
Бессодержательность самой «национальной идеи» Якутии отчётливо прослеживается на примере варьирования одного из лейтмотивов романа, заявленного уже во втором предложении – «Якутия вырастает из всего как подлинная страна, существующая в мире, полном любви, изумительности и зла»12. В дальнейшем выясняется, что это утверждение допускает произвольную замену каждого поименованного понятия, в том числе и на противоположное. Так, для пылкого патриота «Якутия есть страна, явленная в мире, полном преданности, тепла и доброты»13, а для его оппонентки, убеждённой коммунистки «Ленин есть тайна полная любви, изумительности и зла»14. Позднее предлагается ещё один «антитезис»: соперничающая с Якутией «Эвенкия произрастает во всём, как истинная страна, существующая в мире, полном величия, счастья и добра»15, и наконец, следует «синтез»: «Якутия находилась внизу как подлинная страна, явленная в мире, полном добра, прелести и красоты»16.
Впрочем, подобные метаморфозы обоснованы сразу же – третьей фразой романа, раскрывающей его поэтику: «Она таит в себе тайны и пустоту, обратимую в любое откровение этого света, который присутствует здесь, как неизбежность, или сущая красота, прекрасная, словно смысл чудес»17. Обратимость любых высказываний в романе, условность любых обозначений, их полная взаимозаменяемость приводит к тому, что все бинарные оппозиции снимаются и сливаются в единые синкретические понятия. Недаром спутник и соратник Жукаускаса убеждает его: «Любовь есть ненависть, и только в ненависти есть любовь, и кто ненавидит, тот любит, и кто любит – тот знает всё»18. Недаром текст Якутии кишит оксюморонными сочетаниями вроде «великий пригородный город»19. Недаром постоянно повторяемые субъектно-предикативные конструкции типа «Якутия есть...», «её Бог есть...» сводятся к универсальной формуле «всё есть всё» или, что то же самое, «всё слишком не то, что кажется и есть»20. Недаром бьющиеся насмерть цари эвенов и эвенков (Радов неспроста обыгрывает почти идентичные названия двух различных восточносибирских народов) носят одно и то же имя – Часатца, и у каждого на службе – экзекутор по имени Жергауль, причём у второго царя Жергаулей двое, ибо в художественном мире «Якутии» полностью взаимозаменяемы не только слова, но и числа: «– Вы видите нашу жрицу, её зовут Саргылана и Елена. (...) – Кого зовут Саргылана? – Жрицу зовут Саргылана и Елена. – А кто жрица? – Саргылана и Елена. – Но их же двое! – (...) – Тело и личность – это прах...»21.
Несерьёзное, игровое отношение как к сигнификатам, так и к сигнификантам задаётся уже фразой, открывающей роман и пародирующей знаменитый тезис Шопенгауэра, – «Мир есть моё развлечение»22. Но эта легковесность не должна вводить в заблуждение, будто «Якутия» начисто лишена мировоззренческой установки. Ключ к её пониманию эксплицитно даётся в следующем высказывании эпизодического персонажа: «Вы так удивились, как будто я что-то сказал. Но я ничего не сказал, я только произнёс несколько звуков, не имеющих смысла, но имеющих нужную интонацию. (...) И потом, так ли уж вас интересуют слова? А если они вас интересуют, вы можете внести в мою речь любое восхищение и любовь, на которую вы только способны, и новое великое слово воссияет над всеми нами, словно волшебный венец!»23. Тут же подчёркивается, что в интонации кроется и секрет такого беспрецедентного феномена как «второй русский язык». Ибо, как не раз отмечалось в филологической науке, «значение всякого матерного слова ситуативно в зависимости от контекста... и конкретный его смысл может меняться на прямо противоположный. Семантика мата целиком и полностью коннотативна, конкретные смыслы свободно поселяются в семантическом пространстве и так же свободно его покидают»24. И «первый русский язык» в романе Радова в этом отношении уподобляется «второму». Если у того же Сорокина текст заряжен деструктивной энергией, холоден и внеэмоционален даже в стилизациях, а нецензурщина смотрится безобразным пятном на экстерьере текста благодаря акцентированию своей анально-генитальной семантики, то у Радова матерная брань, напротив, служит усилению экспрессивности, энергетического заряда. Радов во многом переносит семантическую нагрузку текста с фабулы и лексических средств её изложения на доминирующую интонацию, которая восходит к античным дифирамбам, библейским псалмам, розенкрейцерским трактатам – это восторженный гимн бытию во всех его проявлениях. Действие в «Якутии» (события и поступки героев) выступает лишь как череда кратких передышек в нескончаемом потоке вдохновенного словоизвержения. Это забалтывание пустоты наполняет её иллюзией мерцающих смыслов. Этот словесный поток захлёстывает и реплики персонажей, практически не отличимых друг от друга по своей речевой характеристике и перетекающих друг в друга по своему «мировоззрению» – даже убеждённый антикоммунист-западник может запросто сказать: «Мы – главные преобразователи этих мест, помните о Ленине, о смысле!»25, и даже самый беспринципный циник, презирающий любые идеалы и использующий их в своекорыстных целях способен вдруг изречь: «Слова и имена могут быть разными и любыми. Важна истина и красота»26.
Но прекрасность говорения самого по себе у Радова неотделима от говорения «на тему». Жукаускасом (как и другими персонажами романа) движет воля к преображению убогой действительности, к обнаружению в ней «истины и красоты», которое оказывается возможным исключительно за счёт переименования невзрачных реалий:
«В этом месте реальность была словно недосозданной, как будто недоразвитый идиот с мутным взором, и она, в общем, напоминала своеобразный божественный плевок, который хотелось растереть ногой по благодатной живородящей почве, и что-то было в ней мучительно-неважное, гнусно-несущественное, почти не-истинное, и казалось, можно лишь дунуть и махнуть рукой и всё это сгинет обратно – откуда вышло – и наступит нечто совсем другое, таинственное и неизвестное. Но эта действительность тоже была якутской, и казалось, её тоже нужно было любить, преобразовывать и ласкать, и надо было сражаться за неё, плакать при каждом воспоминании о ней и задушевно наслаждаться её гнусной неброскостью и её недоделанным кедрачом. Настоящий патриот всегда увидит в трущобах сверкающие небоскрёбы, а в пихте – ананас»27.
В этом пассаже вместе с явной иронией по поводу патриотического дискурса присутствует и его оправдание, а также его направление в конструктивное русло. Радостное приятие и преображение хаоса за счёт постоянных переименований ведёт к открытию ситуативных смыслов и неповторимой красоты в любой грани бытия, где нет разницы между добром и злом, высоким и низким, прекрасным и ужасным, вплоть до: «Разве не прекрасно быть казнённым в стане гнусных достойных врагов?»28.
Сюжет романа разворачивается как инициатическое путешествие изначально невинной души, «очарованного странника» через череду испытаний и лишений к высшему знанию. Центральным символом оказывается даосский символ пути. Ни бессмысленность полученного задания, ни пережитые злоключения, ни разочарование в кукловодах политического процесса не колеблют веру Жукаускаса в исключительную важность его миссии ради блага «Якутии». «Нас возвышающий обман» для протагониста превалирует над «тьмой низких истин». Он продолжает обольщаться то неоновыми огнями и сытым благополучием жителей вестернизированного города, то жестоким состязанием слепоглухонемых старичков на потребу праздной публики, то ритуальным молебном воинов, идущих в бой за родину. И на все уговоры типа «займитесь чем-нибудь приятным; над вами издеваются; вся ваша история просто глупа; это маразм» он продолжает твердить: «Да нет же! Я счастлив! Для меня это и есть всё! Моя любимая! Путь – моя радость! Задача должна быть выполнена! Страна должна возникнуть как весь мир! Я чувствую свою цель! Я найду то, что мне поручили!»29 и мечтать «о чуде, о величии, и о Якутии, и о единственности мира, и о равнозначности прекрасного – доброго, злого и непонятного»30. Подобно Сорокину Радов выявляет либидо исторического процесса, но в отличие от предшественника подаёт его не только как цепь абсурдных злодеяний, а как манифестацию позднее исследованного А.Секацким «чистого авантюрного разума»31. По ходу путешествия для Жукаускаса «кончились иллюзии, жалобно-требовательное отношение к жизни, ощущение своей неповторимости и бессмертия и отчаянная жажда существовать. Появилось прекрасное безразличие настоящего существа, наконец-то испытавшего гибель и позор, и свет смерти зажёгся в Софроне, словно запоздалая ночная знакомая звезда, указующая на берег или конец леса»32.
«Параноидальные» метанарративы исчерпали себя как цель, но прекрасны как средство, как точка отсчёта и отталкивания. Радов начинает там, где останавливается Сорокин. Деконструкцию языка автор «Якутии» понимает не как его деструкцию, а как его постоянную перекодировку, пересоздание. И вместо погружения в безысходный вакуум мёртвых смыслов происходит бесконечное обретение новых мерцающих смыслов в осколках рухнувших нарративов. Если ранний русский постмодернизм (особенно в его концептуалистском варианте) ещё сохранял черты позднемодернистского авангарда, в пределе стремящегося к полному разрушению и исчезновению языка (знаменитое многостраничное «ааааа...» в «Норме» Сорокина) и, по мысли М.Эпштейна, был своего рода «апофатической» теологией, подчёркивающей невозможность прямого выражения невыразимого через язык33, то Радов осуществляет опыт теологии «катафатической»: вместо «не это, не это» – «и это, и это».
Сам автор «Якутии» в интервью признаётся: «мне надо создать произведение, в котором нет абсолютной разницы между антонимами... то есть произведение, состоящее из вещей, которыми можно пренебречь»34, вследствие чего «возникает какая-то абсолютная положительность, которая ни на чём не основывается, а замыкается на саму себя. Это и есть мир, и он прекрасен... Передать энергию, чтобы слова пропали, а энергия осталась, для меня важнее, чем добиться красоты отдельных фраз»35. В «Якутии» для этих целей используется энергия множества параной, и в каждой находится приятность и прекрасность, но ни одна из них не фетишизируется, в результате чего снимается сама оппозиция паранойи и шизофрении.
Радов предлагает позитивную программу для тех, кто вдруг осознал себя «слепоглухонемым», программу активного существования в условиях полной дезорганизации социума и утраты мировоззренческих ориентиров. Он выражает мироощущение, близкое дзен-буддизму и даосизму, credo постмодернистов 90-х, несколько позже сформулированное его сверстником В.Пелевиным так: «Это очень хороший процесс – потеря координат. Потому что, в конце концов, человек приходит к тому, что единственная система координат – это он сам. Потому что если он движется в другой системе координат, он сможет встретиться сам с собой»36.
«Встреча с собой» ожидает Жукаускаса в убогом, залитом экскрементами Нижнеянске, жалком реликте советского режима, где он сознаёт себя как истинного «бога Якутии», то есть подлинного творца «мира как развлечения», способного наделять его любыми смыслами и любой красотой. Последняя фраза романа Радова «И он тут же превратился в жужелицу»37, как и сама «насекомая» фамилия протагониста являют собой параллель к вышедшему в том же 1993 году роману Пелевина «Жизнь насекомых». Если воля к приключениям являет себя как воля к метаморфозам, то воля к обретению себя – как воля к самоумалению и самоутрате. Только перестав принимать самого себя всерьёз, постмодерный индивид способен жить полнокровной жизнью и наслаждаться ею. Это своего рода «паранойя наоборот». Оказывается, что русская постмодернистская литература, подобно русской классической, по-прежнему ставит «вечные вопросы» и даже дерзает давать «вечные ответы»38.
Возможно, выбор Е.Радовым именно Якутии как метафоры постсоветского мифологического пространства, абсолютно произволен и случаен. Однако, обширная малоосвоенная, наименее затронутая экологическими бедствиями территория на российском Северо-Востоке (предмете ряда утопических проектов – от М.Волошина до А.Солженицына) с её бескрайней тайгой и тундрой, бесчисленными глубокими озёрами и бессчётными богатствами в подземных недрах оптимально подходит на роль сокровищницы энигматических смыслов. Неожиданной параллелью к восторженному щебету Е.Радова звучит недавнее высказывание одного из главных леворадикальных идеологов современной России, философа-традиционалиста, эзотерика-милитариста и геополитика-евразийца А.Дугина: «Якутия – солярная страна. Это ядро сакральной географии континента. Архетипы там живут в чистом виде. Познавая Якутию, мы познаем не просто сакральный магистерий Сибири, Великой Сибири, но и обретаем ключ к Евразии»39.
Вольный или невольный привет Е.Радову через семь лет передаёт и петербургский прозаик Павел Крусанов (р.1961). Протагонист его романа «Укус ангела» с наслаждением «слушал рассказы о Якутской тайге и Яно-Индигирской тундре, где в лучшие времена помещался Эдем – люлька человечества...»40.
«Укус...», роман о российской империи и её харизматическом помазаннике – знаковое произведение русской постмодернистской прозы «акунинского» периода с его интересом к имперскому прошлому российского государства. Как заметил критик С.Князев, «последний год ушедшего и первые месяцы наступившего тысячелетия ознаменовались публикацией сразу нескольких замечательных литературных произведений... И что любопытно: едва ли не каждый из этих текстов оказался об Империи – то есть в той или иной степени имперским романом»41. Вместе с тем «Укус...», быть может, – прообраз русской литературы недалёкого будущего, где в концентрированном виде, в предельно ёмких образах предвосхищены её ключевые мифемы. В отличие от Е.Радова Крусанов не ограничивается пустопорожним «плетением словес», устами своего героя облачая в отточенные метафоры программные лозунги: «Я не хочу, чтобы мир протух. Я хочу вывести из него цыплёнка или разбить в яичницу»42.
Автор «Укуса ангела», ранее зарекомендовавший себя как мастер интеллектуальных игр, гурман по части стилистических изысков, всегда декларировал и доказывал художественной практикой свою приверженность эстетической парадигме постмодерна. Например, в текстах сборника «Бессмертник» он славил «божественный дар прозябания – призрачного, но единственно достойного занятия»43, «чудесный дар бесцельного существования»44. Вместе с тем уже в «Бессмертнике» вызревали ростки будущего «имперского романа»: «И всё же порой хочется произвола. Того самого – с величием жеста и широтой помысла»45. Или: «Стало зябко без империи на свете, как с дырой в валенке...»46. Что ж, Крусанов всегда проявлял интерес к архетипам коллективного бессознательного русского народа, к механизмам их функционирования в истории и культуре (романы «Ночь внутри», «Бом-бом»), художественно обыгрывая такие его составляющие как литературоцентричность, палладизм, мессианизм, эсхатологизм...