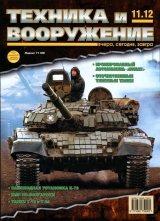
Текст книги "Техника и вооружение 2012 11"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)

Общий вид серийного танка Т-24.

Продольный разрез танка Т-24.
Первый корпус танка с Ижорского завода на ХПЗ поступил в конце января 1931 г. (акт приемки №1 от 28 января 1931 г.). В заключении по приемке говорилось: «Принимая во внимание, что присланный корпус первый, на котором должны выявиться все неполадки как на ГИЗ-е (Государственный Ижорский завод. – Прим. авт.), так и на ХПЗ, Комиссия считает возможным принять корпус № 1 условно, но обратить самое серьезное внимание ГИЗ-а на строжайшее выполнение временных технических условий…»
24 марта 1931 г. на ХПЗ в сборке находились уже три танка, а 31 марта была окончательно готова первая машина из опытной серии, которую опробовали работой на холостом ходу (без гусениц) и под нагрузкой – движением по кабестану на гусеницах. Второй танк изготовили 1 апреля 1931 г. Сборка остальных четырех машин (для которых к этому времени подали корпуса) задерживалась из-за отсутствия ряда деталей и механизмов.
При сборке и опробовании двух собранных танков были обнаружены различные дефекты. Основными причинами являлись низкое качество механической обработки деталей, недостатки конструкции самой машины (коробки передач, тормозов, вентиляторов системы охлаждения двигателя и др.), отсутствие необходимого опыта инженерно-технического персонала завода в части механической и термической обработки деталей, а также процессов сборки как механизмов, так и машины в целом.
Однако опыт сборки первых машин, несмотря на выявленные дефекты, показал, что при обеспечении скомплектованными и подогнанными механизмами сам процесс постройки Т-24 не представляет каких-либо трудностей. Тем не менее, по решению правительства, заказ на танки Т-24 в апреле 1931 г. был сокращен до 80, а затем и до 24 машин (постановление Комиссии обороны СССР от 23 мая 1931 г.) 2*
[Закрыть].
К началу лета ХПЗ не сдал ни одного танка Т-24 представителям заказчика, так как по результатам заводских испытаний выявилась необходимость совершенствования его конструкции. К этой работе, помимо конструкторов завода, привлекли и представителей УММ РККА. В течение апреля-июня 1931 г. представители УММ РККА П.С. Озеров и В.И. Заславский внесли в конструкцию Т-24 около 200 различных изменений.
9 июля 1931 г. завод провел «большое испытание» танка Т-24 пробегом на 60 км, в ходе которого проверялась работа радиатора и вентилятора системы охлаждения двигателя, тормозов, определялись тяговые качества и предельные скорости, а также управляемость машины. При этом танк показал прекрасные тяговые качества (на второй передаче скорость движения составляла до 6 км/ч, на третьей – до 16 км/ч и на четвертой – до 27 км/ч). Радиатор и вентилятор системы охлаждения двигателя функционировали без замечаний (температура воды и масла не превышала допустимых значений). Не имелось замечаний и по работе тормозов: обеспечивалась хорошая поворачиваемость машины на месте на третьей и даже на четвертой скоростях.
В августе 1931 г. ХПЗ сдал заказчику всего три танка Т-24, окончательную сборку еще трех машин завод не смог завершить из-за отсутствия башен, которые к этому времени не поставил Ижорский завод. Недостающие башни на завод поступили только в сентябре. Всего до 15 октября 1931 г. Ижорский завод отправил на ХПЗ 25 больших и 25 малых башен.
Несмотря на все трудности 3 *
[Закрыть], к 1 декабря 1931 г. ХПЗ сдал 17 танков Т-24 и подготовил к сдаче еще три машины. Еще три танка находились в сборке. По состоянию на 22 декабря 1931 г., 16 танков были отправлены в части, три находились в переборке, четыре – в стадии сборки и два прошли контрольные испытания. Таким образом, всего было выпущено 25 танков Т-24.
2*Этим же постановлением РВС СССР разрешалось ввести в систему танко-тракторно-авто-броне-вооружения танк Кристи в качестве быстроходного истребителя (БТ). К.Е. Ворошилову и Г. К. Орджоникидзе в декадный срок надлежало договориться, какое максимальное количество танков БТ (в имевшемся образце без всяких изменений) может быть изготовлено в 1931 г. на ХПЗ.
3* Согласно выводам военно-морской инспекции ЦКК ВЩ б) – НК РКИ СССР по обследованию танко-тракторного производства на ХПЗ в период с 7по 28 октября 1931 г., "…за весь период работы завода по изготовлению танков Т-24, заводоуправлением не был создан необходимый конструкторский аппарат. Техническая контора с аппаратом в 20 чел. Занималась только деталировкой чертежей. До 1 января 1931 г. это бюро даже не справлялось со своей текущей работой – деталировкой чертежей…


Танк Т-24 на испытаниях летом 1931 г.

Краткое описание конструкции Т-24
Компоновочная схема танка Т-24 отличалась от классической трехъярусным размещением оружия и представляла собой улучшенный вариант схемы компоновки танка Т-12. По сравнению с предшественником новая машина имела меньшую толщину броневых листов и измененную конструкцию корпуса и башни. В лобовом листе корпуса слева появилась установка курсового пулемета. В корпусе была также произведена перекомпоновка оборудования с увеличением жесткости днища моторно-трансмиссионного отделения и переносом топливных баков из отделения управления в боковые ниши. Кроме того, в носовой части предусмотрели место для радиостанции.
Экипаж состоял из пяти-шести человек. Механик-водитель располагался у правого борта корпуса и осуществлял управление машиной с помощью рулевой колонки. Слева от механика-водителя размещался пулеметчик. Командир танка находился в главной башне и выполнял одновременно функции наводчика и пулеметчика. Справа от него было место заряжающего, который также выполнял обязанности стрелка из лобового башенного пулемета. В малой башне имелось рабочее место пулеметчика.
В малой башне (верхний ярус) был установлен 7,62-мм пулемет ДТ, в главной башне (средний ярус) – 45-мм пушка обр. 1930 г. и два 7,62-мм пулемета ДТ (курсовой и тыльный), в подбашенной коробке (нижний ярус) – 7,62-мм пулемет ДТ. В боекомплект танка входили 89 артиллерийских выстрелов с бронебойным снарядом, осколочной гранатой и картечью, а также 8000 патронов к пулеметам.
Броневая защита корпуса и башни была противопульной, изготовленной из броневых листов толщиной 8,5 и 20 мм. Она обеспечивала защиту лобовой части машины от огня крупнокалиберных пулеметов. Соединение броневых деталей производилось с помощью заклепок. Герметизация корпуса машины была усовершенствована.
По сравнению с танком Т-12 конструкцию башни усовершенствовали с применением фасонной цилиндрической брони и обеспечив удобство использования вооружения.
В кормовой части корпуса установили четырехтактный восьмицилиндровый V-образный карбюраторный двигатель М-6 жидкостного охлаждения. Этот двигатель был задросселирован до мощности 250 л.с. (184 кВт) при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1800 об/мин. Пуск двигателя производился с помощью двух электростартеров «Бош» мощностью 2,5 л.с. (1,84 кВт). В системе зажигания использовались два четырехискровых магнето правого и левого вращения марки ВТН или Н8, А8, СЕО-Н8 и «Зингер 8Ц». Емкость топливных баков составляла 460 л. Запас хода достигал 120 км.
Улучшили систему охлаждения двигателя и трансмиссии с использованием принудительного охлаждения в радиаторах всего количества масла из системы смазки двигателя и коробки передач.
Трансмиссия состояла из главного фрикциона, четырехступенчатой реверсивной планетарной коробки передач (в качестве механизма реверса использовался конический редуктор с фрикционом реверса), двойного дифференциала в качестве механизма поворота и двух простых бортовых редукторов. В двойном цилиндрическом дифференциале применялись ленточные плавающие тормоза новой конструкции с пневмосервированием. Конструкцию трансмиссии улучшили с целью разгруженное™ работающих деталей с одновременным уменьшением передаточных отношений низших передач. Кроме того, увеличили прочность бортовых редукторов. Максимальная скорость по шоссе достигала 25 км/ч, на пересеченной местности – 15 км/ч.
Подвеска танка – блокированная, пружинная. Со стороны каждого борта размещались четыре тележки с двумя двухскатными опорными катками в каждой. В состав гусеничного движителя входили шестнадцать опорных и восемь поддерживающих сдвоенных катков с наружной амортизацией. Ведущие колеса заднего расположения имели зубовое зацепление с гусеницами. Ширина трака гусеницы составляла 460 мм, шаг – 140 мм. По сравнению с Т-12 диаметр направляющего колеса танка Т-24 был уменьшен на 200 мм. Элементы конструкции ходовой части танка использовались также в артиллерийских тягачах «Коминтерн», выпускавшихся в 1934-1940 гг.

Танк Т-24. Академия механизации и моторизации РККА. Москва, 1939 г.



Танк Т-24. Академия механизации и моторизации РККА. Москва, 1939 г.
Электрооборудование машины было выполнено по однопроводной схеме. Напряжение бортовой сети составляло 12 В. В качестве источников электроэнергии использовались аккумуляторная батарея и генератор РА-225/12. Средств внешней радиосвязи танк не имел.
В качестве противопожарного оборудования применялся ручной тетрахлорный огнетушитель.
К основным недостаткам машины относились двигатель с малым моторесурсом, громоздкая система жидкостного охлаждения двигателя и капризная в работе и трудоемкая в производстве коробка передач с дифференциальной системой управления.
Себестоимость танка Т-24 составляла 173499 руб. 51 коп.
В марте 1931 г. для Т-24 на заводе «Большевик» разработали упрощенный вариант коробки передач с бортовыми фрикционами и с использованием маховика от главного фрикциона, а также сварной корпус с уменьшенной на 400 кг массой. Кроме того, предлагался вариант спаренной установки пушки и пулемета в большой башне. Летом того же года ожидалось проведение испытаний в танке специального двигателя мощностью 180 л .с. конструкции завода «Большевик».
Предпринимались попытки модернизации Т-24, которые, впрочем, остались только в проектах. Так, в марте 1931 г. ГКБ предложило проект спаренной установки 45-мм пушки и 7,62-мм пулемета ДТ, расположенной в главной башне, а также сварного корпуса (применение сварки обещало снижение массы машины на 400 кг). В целях проверки возможности обеспечения коллективной защиты экипажа в условиях применения боевых ОВ был изготовлен один корпус танка Т-24 со специальными уплотнениями, для которого ВОХИМУ разработало противодымный фильтр.
В ноябре 1931 г. КБ №3 Оружобъединения выполнило проект модернизированного танка Т-24 с использованием трансмиссии танка Т-28. Опытный образец машины планировалось изготовить на заводе «Большевик» к 15 апреля 1932 г., но проект так и не был реализован.

Серийный танк Т-24 на учениях. Зима 1932 г.
Конец истории
Практически все изготовленные и принятые заказчиком танки Т-24 были направлены в Харьковский военный округ. Необходимо отметить, что первая выпущенная машина имела персональное название. Так, еще в процессе организации производства танка Т-24 в соответствии с указаниями начальника 1 -го отдела ТУ УММ Моргунова от 26 июля 1930 г., направленными председателю правления Машинообъединения и военпреду ХПЗ, предписывалось: «Одному из танков Т-24 – Т-12) первой партии в 15 штук надлежит присвоить наименование «имени Лепсе».
О дне готовности первого танка. С указанием его номера, из пятнадцати, к сдаче его в часть прошу меня уведомить.
Надпись «имени Лепсе» сделать на башне танка красной краской».
К 1938 г. танки Т-24 как устаревшие передали на склады. В апреле 1938 г., согласно проекту постановления Главного совета РККА «Об использовании имеющихся в РККА несерийных старых типов танков», в отношении танков Т-24 говорилось: «3. Передать Укрепрайонам Округов и НКВМФ для использования на огневых точках танков: Т-18 – 860 шт., Т-24 – 22 шт., в том числе 160 танков Т-18, использованных на это дело в 1936 г. в ЛВО». Таким образом, танки Т-24 предписывалось использовать для создания неподвижных огневых точек. К началу Великой Отечественной войны большая часть этих машин была переоборудована согласно своему новому назначению. Однако установить их в укрепрайонах не успели, и все эти машины вместе другими аналогичными огневыми точками из танков МС-1 были захвачены в местах их последней дислокации.
Танк Т-24 оказался довольно сложной и дорогой машиной с большим количеством недостатков. Тем не менее он сыграл важную роль в становлении отечественного танкостроения, став своеобразной школой по подготовке кадров конструкторов, технологов и производственников, обеспечивших создание одного из ведущих конструкторских бюро отрасли и танкового производства на ХПЗ в предвоенные годы.
В статье использованы материалы РГВА и архива авторов.
Первенец Янгеля
Станислав Воскресенский

Каждый из дней «Карибского кризиса» мог стать последним. Общепринято, что ни ранее, ни в дальнейшем мир не был так близко к краю пропасти. Но Хрущев и Кеннеди проявили мудрость. Предметом, едва не ставшего роковым спора сверхдержав стали размещенные на Кубе советские ракеты Р-12 – первые по настоящему массовые отечественные стратегические комплексы…
К середине 1950-х гг. отечественное «большое» ракетостроение оказалось на распутье. Формально предстояло сделать выбор типа топлива для перспективных баллистических ракет дальнего действия, а фактически – определиться с их назначением: только как средства первого удара или также и как оружия возмездия. В те годы отечественное твердое топливо, в отличие от американского, по своим энергетическим возможностям и технологическим свойствам было не пригодно для применения в стратегических ракетах. При создании жидкостных ракет реализовались два основных направления.
Первое направление подразумевало увеличение дальности вплоть до межконтинентальной, что вполне соответствовало основной задаче, поставленной перед ракетостроением всем ходом развития военно-политической обстановки тех лет. Такой путь предусматривал достижение наивысших энергетических показателей за счет использования мощного окислителя – жидкого кислорода. Однако этот топливный компонент обладал существенным эксплуатационным недостатком. Из-за крайне низкой температуры кипения (-183'С) он не мог длительно храниться в заправочных емкостях подвижных агрегатов стартового оборудования и в баках ракеты.
Тем не менее жидкий кислород использовался в боевых ракетах, начиная с немецкой «Фау-2» – прародительницы всех американских и советских послевоенных ракет. Но боевое применение «Фау-2» во Второй мировой войне продолжалось почти год, превратившись в своего рода рутинный технологический процесс, в ходе которого ракеты доставлялись в части, окончательно проверялись, транспортировались в район пуска, готовились и стартовали в направлении Англии или к другим целям. При этом ракеты не хранились долго и расходовались практически с тем же темпом, что и выпускались. Заправка ракеты представляла собой только одно звено в этом процессе, а ее продолжительность и допустимая задержка от ее окончания до старта не имели существенного значения.
Начиная с 1950-х гг., при наличии у вероятных противников ракетно-ядерного оружия с подлетным временем около получаса и менее, ситуация качественно изменилась. Военные могли рассчитывать только на оружие, изготовленное в мирное время. Ракеты должны были храниться годами и десятилетиями в состоянии, обеспечивающем их немедленное применение после получения достоверных данных о ракетно-ядерном нападении противника.
Тем не менее Сергей Павлович Королев, ставший первопроходцем в деле создания ракет все большей дальности пуска и уже давно занимавший исключительное положение в отрасли, вплоть до середины 1960-х гг. отстаивал целесообразность использования жидкого кислорода не только в космической технике, но и в боевых ракетах. Впрочем, он не был одинок: во всех первых американских ракетах средней дальности (РСД) и межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) также применялся этот окислитель.
Второе направление предусматривало использование в ракетах окислителей на базе азотной кислоты. При прочих равных условиях двигательные установки с использованием этого окислителя по основному показателю энергетики – удельному импульсу – не дотягивали 8-10% до уровня, уже достигнутого в кислородных двигателях. Применительно к дальности 2000 км это влекло за собой утяжеление ракеты на 25-30%, а межконтинентальных ракет – в 1,5-2 раза. С.П. Королев уделил внимание и этому направлению. В начале 1950-х гг. коллектив его ОКБ разработал оперативно-тактическую ракету Р-11 («изделие 8А61»). После ряда доработок ее приняли и для вооружения первых ракетных подводных лодок.
Однако Королев считал применение азотно-кислотных окислителей уместным только для ракет с относительно небольшой (до нескольких сотен километров) дальностью стрельбы. Он не видел перспектив создания аналога кислородной Р-5 на долгохранимом азотно-кислотном окислителе – ракеты Р-12, первые проектные проработки по которой были также выполнены в его ОКБ, в те годы входившем в структуру НИИ-88.
Нужно отметить, что в НИИ-88 перспективны ракет на долгохранимых топливах оценивались по-разному. Это направление активно поддерживалось директором, а с апреля 1954 г. – главным инженером НИИ-88 Михаилом Кузмичем Янгелем, в начале десятилетия переведенным из авиастроения в ракетную отрасль и некоторое время проработавшим заместителем С.П. Королева. Вполне естественно, что Королев, уже беззаветно отдавший ракетостроению без малого четверть века своей жизни, болезненно относился как к этой, так и к другим попыткам своего бывшего подчиненного определять техническую политику отрасли. Раньше руководители института ограничивались решением административно-хозяйственных вопросов, предоставляя Королеву самостоятельно выбирать технический курс «фирмы».
По понятным причинам военные были заинтересованы в развитии ракет на длительнохранимом топливе. С учетом отсутствия единства мнений в НИИ-88 разработку Р-12 решили поручить другому конструкторскому коллективу, сформированному к тому времени при серийном ракетном заводе в Днепропетровске. Но этот город далеко не сразу стал наиболее мощным центром советского боевого ракетостроения.
После принятия на вооружение ракеты Р-1, а затем и ее усовершенствованной версии Р-2 было принято решение об организации их серийного выпуска на заводе №385 в уральском городе Златоусте. Но возможностей этого завода явно не хватало для изготовления ракет в требуемых масштабах. Следовало подыскать более мощную производственную базу. Среди возможных заводов рассматривались и киевские предприятия, но республиканский партийный руководитель Н.С. Хрущев со всей решительностью заявил, что «нельзя закрытым городом сделать столицу Украины».
Выбор пал на Днепропетровск, хотя в этом городе отсутствовали авиационные заводы, соответствующие научные учреждения и учебные заведения. По постановлению Государственного комитета обороны от 21 июля 1944 г. там был построен очень крупный автомобильный завод, на котором успешно развернули производство народнохозяйственных грузовиков ДАЗ-150 «Украинец» (усовершенствованной версии ЗиС-150), а затем «большого автомобиля водоплавающего» (БАВ) ДАЗ-485, созданного под руководством замечательного конструктора В.А. Грачева по образцу американской армейской амфибии GMC-DUKW-353. Но автомобильный этап истории днепропетровского завода продолжался недолго.
Правительственным постановлением №1628-768 от 9 мая 1951 г. «О передаче Министерству вооружения Днепропетровского автомобильного завода Министерства автотракторной промышленности и строящегося шинного завода Министерства химической промышленности и объединении их в единый Днепропетровский машиностроительный завод №586 Министерства вооружения» это предприятие переключили на ракетостроение. Предусматривалось до конца 1951 г. выпустить 50 ракет Р-1, а через три года выйти на ежегодное изготовление 2500 изделий.
Директором завода стал Л.В. Смирнов – один из крупнейших деятелей отечественной «оборонки». В дальнейшем, с начала 1960-х гг., он на протяжении двух с лишним десятилетий руководил основным координационным межведомственным органом при правительстве СССР – Военно-промышленной комиссией (ВПК).
В июне 1952 г. на заводе с использованием изготовленных на других предприятиях узлов и агрегатов собрали первую Р-1, которая была испытана в Капустином Яре в ноябре, а спустя год освоили самостоятельный выпуск Р-2.
Для технологического сопровождения серийного ракетного производства при заводе создали отдел главного конструктора (ОГК) во главе с Василием Сергеевичем Будником, ранее являвшимся заместителем Королева.
B.А. Грачев перебрался в Москву, где плодотворно работал заместителем главного конструктора московского автозавода ЗИС. Большинство бывших автомобилестроителей наряду с прибывшими из Москвы ракетчиками стали сотрудниками ОГК.
Одновременно с множеством задач, решаемых при освоении заводом новой оборонной продукции, молодой инженерный коллектив взялся за модернизацию Р-1. За счет совершенствования системы управления вдвое улучшили точность и существенно снизили трудоемкость изделия. Правильность внедренных новшеств подтвердилась в ходе десяти пусков, выполненных в 1955 г. К тому времени эта работа уже утратила какой-либо смысл, но испытания в Капустиной Яре стали своего рода экзаменом на профессиональную пригодность коллектива днепропетровского КБ.
Как всякий самостоятельный творческий коллектив, ОКБ-586 стремилось преступить к разработке достаточно перспективного изделия собственной конструкции.
Постановлением правительства от 13 февраля 1953 г. №442-212 «О плане опытно-конструкторских работ по ракетам дальнего действия» днепропетровскому КБ задавалась разработка ракеты Р-12 (наряду с созданием в ОКБ C.П. Королева ракет Р-5 и Р-11). Ракета со стартовой массой 35 т длиной до 25 м рассчитывалась на доставку головную части с тонным зарядом взрывчатки на дальность 1500 км. Двигатель, работавший на азотнокислотном окислителе, должен был развивать в наземных условиях тягу 50 т. Р-12 предусматривалось оснастить системой управления с радиокоррекцией. Максимальные отклонения – не больше ±6 км по дальности и ±5 км в боковом направлении.
В августе 1955 г. десять ракет Р-12 следовало представить на испытания.
Головным исполнителем был определен завод №586 (директор – Л.В. Смирнов), главным конструктором – B.C. Будник. Разработку предписывалось вести при участии НИИ-88 (директор – М.К. Янгель, начальник ОКБ – С.П. Королев).
Как и для ракет Р-5 и Р-11, заданных постановлением, главным конструктором по системе управления в целом был назначен Н.А. Пилюгин, по системе радиоуправления дальностью – Б.М Коноплев, по боковой радиокоррекции – М.И. Борисенко, по гироприборам – В.И. Кузнекцов, по наземному оборудованию – В.П. Бармин.
Материалы предварительных проработок по Р-12, выполненные в НИИ-88, передали в Днепропетровск в апреле 1953 г. Постановлением от 10 апреля 1954 г. №674-292 ОГК завода преобразовали в ОКБ-586.
Для того чтобы исключить ситуацию «два медведя в одной берлоге», порождавшую нездоровую атмосферу в коллективе НИИ-88,10 июля 1954 г. М.К. Янгеля перевели на должность главного конструктора ОКБ-586. Как и ранее в Подлипках, здесь он оказался «варягом», занявшим место уже немало сделавшего, но пониженного до должности заместителя главного конструктора B.C. Будника. Тем не менее в ОКБ-586 в дальнейшем сложилась вполне здоровая атмосфера, Янгель утвердил себя как выдающийся конструктор и руководитель, о чем свидетельствуют последующие успехи днепропетровских специалистов.
Создание для ракеты Р-12 двигателя РД-211 (8Д57) со стартовой тягой 56 т было поручено основному (а в те годы – практически единственному) разработчику мощных ракетных двигателей – ОКБ-456 главного конструктора В.П. Глушко. В качестве окислителя использовалась АК-20 – азотная кислота с 20% добавкой повышающего энергетику азотного тетраоксида, а горючего – предложенный ленинградским Государственным институтом прикладной химии ТМ-185 (керосин с присадками других продуктов переработки нефти, повышающими устойчивость горения). В ходе огневой стендовой отработки испытывались и другие горючие – ТГ-02 (50%-ная смесь триэтиламина и ксилидина, известная также под наименованием «тонка»), ТМ-117, ТМ-120, ТМ-200. В отличие от прочих горючих, ТГ-02 самовоспламенялось при контакте с азотной кислотой, что обеспечивало устойчивый запуск и последующую работу двигателя. К середине 1950-х гг. ТГ-02 уже широко применялось в отечественных зенитных ракетах. Однако ее сочли слишком дорогой для использования в качестве основного компонента топлива в на порядок более тяжелой баллистической ракеты и задействовали лишь в качестве пускового горючего.
Для двигателя приняли четырехкамерную схему, которая (по сравнению с однокамерной схемой) позволяла снизить его длину и упрощала отработку камеры двигателя за счет уменьшения размеров, что снижало риск возникновения высокочастотных колебаний. Подача компонентов топлива осуществлялась турбонасосным агрегатом, работавшим на продуктах разложения перекиси водорода.
Ракеты Р-5 и Р-11 уже в 1954 г. вышли на летные испытания, а работы по Р-12 ограничились выпущенным в марте 1955г. и представленным Заказчику совместно с натурным макетом ракеты эскизным проектом «изделия 8А63».
Днепропетровцы проектировали ракету Р– 12 применительно к заданному правительством традиционному неядерному боевому оснащению. Как и королевская Р-5 («изделие 8А62»), при пусках на среднюю и минимальную дальности Р-12 могла оснащаться дополнительными боевыми частями, подвешивавшимися к корпусу сбоку от межбакового отсека.
Однако время ракет дальнего действия с обычными боевыми частями прошло. Вслед за преобразованием Р-5 в Р-5М ракета Р-12 также подлежала доработке с переоснащением на головную часть с тем же атомным зарядом на базе первой тактической атомной бомбы РДС-4, что использовался и на Р-5М. Предусматривалось и применение головной части с обычным взрывчатым веществом.
В соответствии с правительственным Постановлением №1501-839 от 13 августа 1955 г.
«О снаряжении ракеты Р-12 специальным зарядом и улучшении ее тактико-технических данных» наряду с требованием по применению новой головной части ставилась задача увеличения максимальной дальности с 1500 до 2000 км. Отклонения от цели для 90% ракет не должны были превышать ± 5 км, а для оставшихся 10% изделий – ±7 км. При этом Р-12 планировалась оснастить только автономной системой управления (СУ), без предусмотренной ранее системы радиокоррекции.
Наращивание дальности до величины, более чем в 1,5 раза превышающей реализуемую на Р-5М, достигалось за счет увеличения запаса топлива, что вело к росту стартового веса и длины ракеты. Но в результате этого решалась важнейшая задача – поражение большинства целей в Западной Европе со стартовых позиций на территории СССР.
Постановление отражало субординацию, сложившуюся в ОКБ-586. Впервые в документе столь высокого уровня М.К. Янгель был утвержден как главный конструктор ракетного комплекса. B.C. Будник стал его заместителем.
Устанавливалась кооперация разработчиков СУ. Кроме трудившегося в составе московского НИИ-885 коллектива Н.А Пилюгина, к проектированию СУ привлекли харьковское СКБ-897.
А.М. Гинзбург стал заместителем главного конструктора по системе управления, В.Ф. Катков возглавил создание бортовой аппаратуры. Постановление предписывало выпустить в августе-сентябре 1956 г. дополнение к эскизному проекту, а технический проект следовало подготовить в октябре следующего года, т.е. уже после начала экспериментальной летной отработки ракеты. Первые огневые стендовые испытания намечались на 2 марта 1956 г. Летно-конструкторские испытания определялось провести пусками восьми ракет в апреле-мае 1956 г. и десяти – в феврале-апреле 1957 г., а государственные – стрельбами пяти пристрелочных и десяти зачетных ракет в сентябре-октябре того же года. Таким образом, Р-12 должна была поступить на вооружение Советской Армии к очередному юбилею – сороковой годовщине Великого Октября.
Постановлением также задавалось доведение дальности Р-12 до 3000 км и применение на ней термоядерного заряда – в 2,5 раза более тяжелого, чем атомный. Забегая вперед, отметим, что результаты этих проектных исследований в дальнейшем реализовали в другой ракете ОКБ-586-Р-14.
Первоначально работы шли в полном соответствии с намеченными планами. В октябре 1955 г. выпустили второй эскизный проект Р-12 – уже «изделия 8К63», в котором определился технический облик ракеты и ее важнейших систем.
Для нового, более тяжелого, варианта ракеты предусматривалось использование усовершенствованного двигателя. Разрабатывавшийся с 1953 г. РД-211 послужил основной для двигателя РД-212(Д-41), предназначавшегося для жидкостных ракетных ускорителей сверхзвуковой стратегической межконтинентальной крылатой ракеты «Буран» («изделие 40»), проектировавшейся в ОКБ-23 главного конструктора В.М. Мясищева параллельно с более известной «Бурей» ОКБ-301 С.А. Лавочкина. Основные отличия РД-212 от РД-211 были связаны с меньшей степенью расширения сопла: двигатели ускорителей крылатой ракеты заканчивали работу на меньшей высоте, функционируя в более плотных слоях атмосферы.
В ходе проектирования характеристики крылатой ракеты неоднократно менялись, что повлекло за собой ее утяжеление. Для обеспечения старта и разгона требовались более мощные укорители. Тягу их двигателей увеличили с 57 до 70 т – в основном за счет повышения давления в камере с 40 до 47 кг/см² , что вызвало наращивание мощности турбонасосного агрегата с 2400 до 2560 л.с. Энергетику окислителя немного увеличили, доведя содержание азотного тетраксида до 27%, при этом коррозионную активность снизили введением ингибитора – йода. В соответствии с изменением состава окислитель стал именоваться АК-27И. Камеру сгорания усовершенствованного двигателя, получившего обозначение РД-213, укоротили.
Разработку «Бурана» не довели до летных испытаний – ее прекратили после первых успешных пусков ракеты Р-7. Но конструктивные мероприятия, реализованные в РД-213, нашли применение в новом варианте двигателя для Р-12 – РД-214 (8Д59).
Отметим, что РД-214, как и все двигатели тех лет, был выполнен по «открытой схеме»: отработавший газ выбрасывался из турбонасосного агрегата за хвостовой срез ракеты через обычную трубу, даже не снабженную соплом Лаваля для увеличения скорости его истечения. В двигателе реализовали так называемый «пушечный запуск», что позволило сэкономить топливо, в более ранних ракетах непроизводительно расходовавшееся при работе на «предварительном» режиме» тяги.








