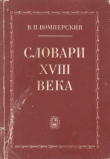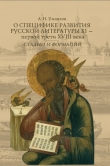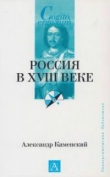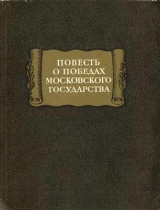
Текст книги "повесть о победах московского государства"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Без официально признанного положительного отношения к Василию Шуйскому вряд ли было возможно проявление столь откровенных симпатий и в “Повести…”. Однако установившаяся в литературе 1620– 1630-х гг. оценка Василия Шуйского предполагает скорее отсутствие критики, чем панегирики этому царю, оправданные и обычные только по отношению к представителям новой династии.
Ответ на вопрос, почему мы встречаемся здесь именно с такой характеристикой Василия Шуйского, дает сам текст "Повести…". В ней настойчиво подчеркиваются взаимные симпатии смоленского дворянства и Василия Шуйского, которые возникли в условиях гражданской войны на основе верности смольнян именно этому царю. Смольняне оказали царю помощь в самые трудные моменты его царствования. И царь всякий раз “…смолян много жаловал и их службу и радение пред всеми похва-лял…” (л. 19 об.). Причина взаимной расположенности друг к другу смоленских дворян и Василия Шуйского отчетливо выражена в рассказе об увозе бывшего царя из-под Смоленска в Польшу. Обезоруженные смольняне наблюдали посадку Шуйского в судно, “…болшим плачем рвущеся, понеже бо он, государь, изо всех градов смольяном любяше за их многие службы и радение” (л. 42 об.-43). Для автора “Повести…” нет принципиальной разницы между Шуйским и Михаилом Федоровичем.
Для него не имеет значения, кто именно занимает престол, лишь бы это был царь, который удовлетворяет требованиям смоленского дворянства.
Сходным образом понимается автором “Повести…” патриотический долг. Вся “Повесть…” проникнута высоким патриотическим духом. Патриотизм автора проявляется и в сетованиях о трудностях, выпавших на долю страны, и в радости по поводу больших и малых побед, одержанных в сражениях с противником. Однако его патриотизм имеет особое преломление. Хотя он искренне и не в меньшей мере, чем авторы остальных произведений о “Смуте”, озабочен судьбами всей страны, выражает он патриотизм своего сословия, патриотизм дворянский. Он видит свой патриотический долг в том, чтобы защищать Россию самодержавную от любых посягательств, независимо от того, кто выступает противником царя. Однако в эти годы далеко не все дворяне были готовы поддерживать любого царя. Патриотизм автора “Повести…” особый – это патриотизм смоленского дворянства, одного из самых богатых и отличаемых царями, потому и наиболее верных отрядов русского дворянства. С точки зрения смоленского дворянина, все русские монархи, начиная с Василия III, отвоевавшего Смоленск у польского короля, одинаково хороши, поскольку “…той град Смоленск исперва пред всеми грады многою честию почтен бяше”, а “воины града Смоленска от государя в велицей чести и славе бываше…” (л. 46 об.). У смольнян, по мнению автора “Повести…”, не было оснований быть недовольными русскими царями.
Представления о самодержавии, полностью соответствовавшие дворянской идеологии XVI в. и преломленные через призму смоленского патриотизма, симпатии смоленских дворян к этому царю, наконец, литературные традиции, в которых отразились традиции идейные, привели к тому, что автор “Повести…” нашел возможным охарактеризовать Василия Шуйского с не меньшей эмоциональностью и так же положительно, как и первого представителя новой династии, в царствование которого была написана “Повесть…”.
Хронологические границы повествования строго подчинены главной задаче автора. Они охватывают период, в котором заслуги смольнян были очевидными и бесспорными в глазах современников. Этим объясняется необычное для литературы о “Смутном времени” начало “Повести…”. За исключением “Новой повести о преславном российском царстве”, исторические повести о “Смуте” начинаются издалека, со времени Ивана Грозного. “Повесть…” же начинается с царствования Василия Шуйского, причем с известия о критическом положении царя в осажденной И. И. Болотниковым Москве, полученного в Смоленске. Такое начало позволяло автору сразу же представить смольнян спасителями Московского государства, поскольку в его понимании восставшие крестьянские массы ничем не отличались от внешнего врага.
Заканчивается “Повесть…”, как и многие другие произведения в “Смуте”, описанной в панегирическом стиле картиной возвращения из плена Филарета и установления порядка в стране. Однако перед этим находится подробный рассказ об упорной борьбе за возвращение Смоленска, отсутствующий в других произведениях. В “Повести…” этот рассказ имеет особый смысл. “Повесть…” – это не только история в память “предъидущим родам”. Хотя события “Смуты” уже миновали, “Повесть…” не теряет злободневности, ибо в отличие от других произведений этого периода в ней затронуты актуальные для ее героев проблемы: Смоленск не возвращен и за него идет борьба; следовательно, смоленские дворяне все еще остаются бездомными. Явное желание автора “Повести…” подчеркнуть заслуги смольнян имеет практический смысл: обратить внимание на заслуженных воинов, которые должны получить достойную награду за их подвиги. О том, что далеко не все из них были удовлетворены царскими пожалованиями, свидетельствуют челобитные смоленского сына боярского Дмитрия Дернова, который даже в 1648 г. напоминал, что он “…был на всей службе в Московском приходе, и под Калугою з бояры, и под Тулою с царем и великим князем Василием Ивановичем всеа Русии, и во Брянской осаде з боярином со князем Михаилом Федоровичем Кашиным и з боярином Михаилом Васильевичем Шуйским, на всей службе с боярином на боях на всех был, и прежним государем служил, и тебе, государю, на всех боях бился”, и жаловался, что вместо установленного еще до польской интервенции поместного оклада в шестьсот четвертей ему “… было… дано триста пятьдесят четвертей”, в то время как его товарищи получили полный оклад. [16]
Интересы смольнян всегда ставятся в “Повести…” на первое место, но все же “Повесть…” – это еще один рассказ о “Смутном времени”, ибо в ней фигурирует множество людей и последовательно и довольно полно излагаются события протяженностью в двадцать лет, которые лежат в основе и всех других произведений о “Смуте”.
2
В своей работе над “Повестью о победах Московского государства” автор ее использовал три вида источников.
К первому виду относятся богатства собственной памяти автора (знание истории Смоленска, легенды о смоленских святых, личные наблюдения, сделанные во время Крестьянской войны и освобождения Москвы Скопиным-Шуйским и Нижегородским ополчением и т. д.) и сведения, полученные от земляков (знание в деталях истории осады Смоленска).
В литературе о “Смутном времени” широко используются документальные материалы. [17] “Повесть…” тоже отразила эту тенденцию. В ней явственно ощущаются следы разрядных записей, составляющих второй вид источников, к которым обращается автор “Повести…”.
К Разрядной книге он прибегает во всех случаях, когда изложение касается событий, которые автор сам не мог наблюдать. Примером этому служит рассказ о мерах, принятых правительством Михаила Романова при известии о движении королевича Владислава к Москве в 1618 г. Здесь описывается вся система обороны и называются воеводы, возглавлявшие полки в Волоколамске, Можайске и Калуге, подробно рассказывается о безуспешном штурме Владиславом Арбатских ворот Кремля, Все эти данные полностью соответствуют Разрядной книге. [18] Точно так же, на основе разрядных записей, излагаются в “Повести…” первые мероприятия царя Михаила Федоровича – борьба с Иваном Заруцким и военные действия под Смоленском.
К разрядным записям автор “Повести…” обращается и в тех случаях, когда он хотя и был сам участником событий, но в силу их размаха и большой длительности не мог знать многих деталей происходящего. Так он последовательно и правильно излагает всю историю борьбы с осажденным в Калуге, а затем в Туле Иваном Болотниковым, упоминая в этом рассказе о столкновениях, которые тогда происходили в других районах восстания и уверенно перечисляя всех воевод, руководивших царскими войсками, так же как и в рассказе о выступлении под Волхов против Лжедимитрия II. Именно обращением автора к разрядным записям объясняется та уверенность и точность в передаче фактов, имен, географических названий, которую обнаруживает “Повесть…”. Если при использовании разрядных записей появляется возможность подчеркнуть героизм и воинские доблести смольнян, автор не упускает такого случая. Например, рассказывая о походе смоленской рати к Торжку на соединение с князем М. В. Скопиным-Шуйским, автор старательно отмечает, какие города смольняне “очистили” от польских гарнизонов и кого из воевод “освободили” от осады. Весь поход описывается в строгом соответствии с разрядными записями, [19] но в “Повести…” рассказ приобретает панегирический характер за счет некоторой их переделки. Изменения, которым подверглись разрядные записи в “Повести…”, незначительны и заключаются иногда в их сокращении, а иногда в расширении за счет авторских добавлений. [20]
Третий вид источников представлен произведениями древнерусской литературы. Зависимость “Повести…” от этих произведений иллюстрирует прежде всего рассказ о молодом воеводе князе М. В. Скопине-Шуйском, занимающий центральное место в ней.
Появление обширного повествования о князе Скопине-Шуйском в “Повести…” вполне оправданно и объяснимо. Если исходить из ее содержания, можно заметить, что наибольшую активность смоленское дворянство за весь период “Смуты” проявило трижды: во время подавления восстания Болотникова, похода под руководством князя Скопина-Шуйского и при освобождении Москвы Нижегородским ополчением. Именно тогда были, по мнению автора, одержаны крупнейшие “победы”, о которых говорится в названии “Повести…”, причем две из них при непосредственном участии и смольнян, и князя. Автор старательно подчеркивает этот факт, сознавая, что заслуги смольнян делаются заметнее на фоне подвигов князя.
Кроме того, смерть единственного человека, способного возглавить освобождение страны от интервентов, повлекла за собой самые тяжелые последствия как для всей страны, так и для смольнян. Рассказ о князе в “Повести…” нужен был еще и для того, чтобы объяснить причины дальнейших мытарств смоленских дворян.
В соответствии с задачами произведения решена композиция повествования о Скопине-Шуйском. Весь рассказ о нем разбит на три части, соотнесенные между собой так, чтобы наилучшим образом продемонстрировать постоянные контакты князя со смольнянами и описать самые значительные его деяния.
Начинается этот рассказ с момента появления смольнян в осажденной Иваном Болотниковым Москве. В “Повести…” говорится, что, узнав об их приходе, князь сам явился к ним, и сразу же следует пышный панегирик Скопину-Шуйскому: “Той бо государев воевода князь Михаило Васильевич благочестив, и многосмыслен, и доброумен, и разсуден, и многою мудростию от бога одарен к ратному делу, стройством и храбростию и красотою, приветом и милостию ко всем сияя, яко милосердый отец и чадолюбивый” (л. 19 об.). Славословия князю в тот момент, когда он ничем еще не проявил себя, объясняются тем, что автор стремится с первого же момента показать близость смольнян к народному герою, под началом которого они одержали на следующий день первую из побед, и, следовательно, подчеркнуть воинскую доблесть смольнян, к которым этот герой проявил свое внимание. Фразой о разгроме “изменников и воров” Скопиным-Шуйским заканчивается первая часть повествования о князе.
Вторая часть полностью посвящена новгородскому периоду деятельности князя. В ней говорится о приходе “немцев”, которые появились в Новгороде исключительно благодаря необыкновенным личным качествам Скопина-Шуйского. Третья часть, самая пространная, начинается рассказом о присоединении смольнян к рати Скопина-Шуйского в Торжке и заканчивается описанием его неожиданной смерти.
Считать эти три отрывка частями единого повествования о князе позволяют не только указанные выше особенности идейного содержания “Повести…”, но и стилистическое единство отрывков. Характеристики князя во всех трех частях представляют собой панегирики, состоящие в основном из синонимических оценочных эпитетов и повторяющихся словосочетаний. Повествование о нем ведется в торжественно-приподнятом тоне.
Начиная с появления Скопина-Шуйского в Москве третья часть рассказа о нем в “Повести…” композиционно построена по схеме написанного около 1612 г. “Писания о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, рекомого Скопина”. [21] Сначала и в “Повести…”, и в “Писании…” следует рассказ об отравлении князя. Затем в “Повести…” “сердоболи” “…недоумевающеся, что сотворити, токмо от сердца рыдающе и скорбно плачуще” (л. 32 об.), подобно тому как в “Писании…” “весь двор его слез и горького вопля и кричания испол-нися”. [22] Так же как в “Писании…”, “врачеве… мнози… не возмогоша ему никоея помощи сотворити” (л. 32 об.). После краткого описания болезни рассказывается о дне смерти Скопина, приводятся плачи его матери и жены; как и в “Писании…”, в дом князя приходят безутешные царь и патриарх.
Как и в “Писании…”, равнодушным во время похорон не остается никто: “И не бысть такова человека, иже бы в то время не плакал и не рыдал о смерти его и о преставлении” (л. 36). После описания погребения в “Повести…”, как и в “Писании…”, снова идут плачи, и заканчивается сказание о Скопине авторским заключением, главной темой которого является тема осиротения страны; подобное заключение имеется и в “Писании…”.
Сохранена в “Повести…” не только общая структура “Писания…”. Почти не изменен по сравнению с “Писанием…” и состав действующих лиц. Все это говорит о том, что автору “Повести…” было известно “Писание…”, послужившее ему одним из источников. В то же время существенные отличия в содержании, лексике и фразеологии приводят к выводу о том, что рассказ о Скопине в “Повести…” по сравнению с “Писанием…” сильно переделан.
Различие рассказа о смерти и погребении Скопина в “Повести…” и в “Писании…” вытекает из их неодинакового функционального назначения. “Писание…” было отдельным самостоятельным произведением, рассказывающим только о смерти Скопина-Шуйского. В “Повести…” указанная тема, хотя она и имеет большое значение, подчинена задачам общего повествования. Этим объясняется отсутствие в ней родословия в духе Степенной книги и видения, которым заканчивается “Писание… ”, т. е. тех моментов, которые не имеют прямого отношения к содержанию рассказа о смерти и погребении.
Суть видения, воплощающего религиозное осмысление события, состояла в предсказании падения Василия Шуйского, которое должно былс последовать и последовало в результате смерти Скопина. В “Повести…” видение было ненужным, ибо мысль о смерти князя как о причине последующих бедствий страны как раз и раскрывается в дальнейшем повествовании.
Еще одно отличие “Повести…” и “Писания…” заключается в частичном изменении и в разном использовании изобразительных средств. В “Писании…” история отравления Скопина изложена частью повествовательно, а частью в виде сохранившей былинные черты народной песни. В “Повести…” следов фольклорного заимствования очень мало. Ее автор отказался от народных художественных приемов, поскольку для его замысла больше подходили привычные книжные средства.
Используя традиционную форму риторического отступления, автор “Повести…” нашел возможность показать причину ненависти к Скопину-Шуйскому со стороны бояр и добавить новые оттенки к идеализированному портрету князя. Скопин погиб как раз из-за своих высоких добродетелей, “…ни от кого себе пакости и злаго умышления чаяше”, ибо не за что было его ненавидеть – он был “милосердый и незлобивый”, никого не обидел, “…не высокоумием возношаяся, ни гордостию гордяся, но паче себе уничижаше…” (л. 32). Однако дьяволу удалось вложить в бояр “злоненавистную зависть” именно потому, что они не могли “…многие его чести видети и славы о нем слышати…”, “…видя его премудра, и многосмысленна, и разумна, и доброразумна, и силна, храбра и мужественна, и премногою красотою от бога всячески украшенна…” (л. 31 об.).
Скопин – один из главных героев “Повести…”; злоключения смоль-нян и всей страны последовали за его смертью. Автору необходимо было показать всю тяжесть и невосполнимость утраты, и он воспользовался формой плача-причети по умершему. [23] Эта форма, известная еще с XI в., хорошо разработанная в княжеских житиях и широко распространенная в древнерусской литературе, позволяла добиться наибольшей эмоциональной выразительности.
В обращении к плачам-причетям как художественному приему автор “Повести…” несомненно следует за “Писанием…”, но не слепо, а проявляя очевидную самостоятельность.
Некоторые моменты истории смерти и погребения Скопина, переданные в “Писании…” в авторском изложении, в “Повести…” приведены в виде плача, и, наоборот, то, что в “Писании…” содержится в плачах, в “Повести…” дается повествовательно. Например, скорбь “ратных людей” Скопина, выраженная в “Писании…” в плаче, в “Повести…” описана без использования этой художественной формы.
В “Писании…” образ прославленного полководца создается именно в плачах русских соратников князя, шведа Делагарди и народа. В “Повести…” идеализированная характеристика Скопина, многократно приводимая по разным поводам, вобрала в себя еще до рассказа о его кончине все детали портрета князя; в плачах же, где эта характеристика повторяется, ничего существенно нового не добавляется к сказанному раньше.
Заметные отличия в “Повести…” имеют плачи и сами по себе. В “Повести…” их больше (в ней нет имеющихся в “Писании…” плачей русских соратников князя и Делагарди, вместо них введены плачи Василия Шуйского, иноземцев и народа, но плачи матери и жены Скопина сохранены), они пространны и многословны, в “Писании…” же выглядят как краткие реплики. Плачи в “Повести…” лиричнее, чем в “Писании…”, для них характерно большее разнообразие выразительных средств.
Все плачи в “Повести…”, за исключением причитаний Василия Шуйского, содержат обширную эпическую часть, в которой рассказывается о подвигах князя; в “Писании…” этой особенностью отличается только плач соратников.
В отличие от плачей в “Писании…”, в которых явственно ощущается фольклорное влияние, плачи в “Повести…” имеют книжный характер, в особенности плач Василия Шуйского, оставляющий, несмотря на форму и все стилистические признаки плача-причети, впечатление совершенно искусственного образования и нисколько не убеждающий читателя в искренности горя царя.
Появление этого плача в “Повести…” вызвано идейными установками автора. Он до конца остается последовательным в стремлении идеализировать Василия Шуйского. Мудрый государь не может не понимать, какую потерю понесла его страна” и поступает должным образом. В “Писании…” о безутешном горе царя сообщается от автора, в “Повести…” же Шуйский произносит проникновенный монолог. Кроме того, автор стремится, вероятно, опровергнуть широко распространившиеся в народе слухи о подозрительном отношении царя к своему племяннику как к опасному сопернику [24] и о том, что царь был виновником смерти Скопина. Поэтому он подчеркивает особую близость князя к царю. Явившись “на двор” Скопина, царь, как и в “Писании…”, плачет, “видев любимаго своего друга умерщвлена”. И, чтобы совсем устранить всякие сомнения, автор продолжает: “…и о смерти его сам государь тайно размышляще…” (л. 35).
Плачи матери и жены, написанные в традициях вдовьих плачей из княжеских житий, более лиричны и правдивы, хотя и здесь для выражения безутешности, отчаяния автор пользуется почти исключительно книжными стилистическими средствами. Однако делает он это осторожно и умело. Так, он избегает церковной фразеологии, допустив только в плаче матери единственный церковно-риторический оборот: “Кая ли душа, не убойся бога, сотворшаго тя…оболстиша тя…” (л. 33 об.).
Плач матери Скопина, сохраняя форму причети и многие стилистические средства предшествующих женских плачей, [25] в то же время имеет свои особенности. Как и в плаче царя, оплакивание “единочадаго и любезнаго сына” имеет вид повторяющегося вопроса об убийцах князя с одповременным изложением всех достоинств и заслуг Скопина. Мать не может понять причины, по которой погиб ее единственный сын, “столп и подпор” ее “старости”, и не может представить себе, “кий злый человек” и “коим злым лукавством” погубил его. Автор выбрал такую форму, видимо, потому, что хотел подчеркнуть насильственный характер смерти Скопина. На это он указывает и более явно – княгиня Елена Петровна начинает причитать, “…видящи злую смерть его от злых ненавистников…” (л. 32 об.).
Еще более, чем плач матери, выразителен и насыщен лиризмом плач молодой вдовы. И в нем есть особенности, выделяющие плач княгини Александры Васильевны из ряда повторяющих друг друга в древнерусской литературе вдовьих плачей, начало которому положил плач жены князя Дмитрия Донского Евдокии. [26]
Создавая этот плач, автор широко использовал хорошо известный ему литературный материал, взяв из него то, что, по его мнению, более всего подходило для плача жены Скопина. В нем есть традиционное заявление о желании умереть вместе с мужем, указание на его славу и известность и т. д., но нет, например, обычной просьбы к умершему обратиться к богу, чтобы он быстрее соединил их вновь. В то же время многие структурные элементы вдовьих плачей в “Повести…” творчески переработаны. Так, сожаление о слишком ранней смерти мужа присутствует во всех известных вдовьих плачах, но всегда в большей или меньшей степени носит условный характер. [27] В плаче княгини Александры Васильевны этот мотив совершенно конкретен, ибо князь Скопин-Шуйский умер всего 23 лет от роду. Молодость умершего воеводы делала слова о его безвременной смерти в плаче жены правдоподобными и выразительными.
Не менее сильное впечатление производят, именно в силу правдивости жизненной ситуации, причитания жены о слишком ранней горькой вдовьей участи. Не могли не вызвать у читателей сочувствия жалобы молодой женщины на несчастье, обрушившееся на нее всего лишь после двух лет замужества. Княгиня такими образными словами определяет свое состояние; “…аз, яко едина точию от убогих жен, жена твоя: яко птица оху-дех, яко серна осиротех… плачу премногия твоея красоты и своего убогаго вдовства” (л. 34). Заканчивается плач традиционными для вдовьих плачей словами о нежелании жить после смерти мужа.
В своем исследовании о вдовьих плачах в древнерусской литературе В. П. Адрианова-Перетц писала: “Последним по времени отголоском плача Евдокии была риторическая его переделка патриархом Иовом в Житии царя Федора Ивановича”. [28] Теперь есть все основания считать, что наиболее поздним в серии вдовьих плачей, исходным образцом которых был плач Евдокии, является плач княгини Александры Васильевны в “Повести…”.
В “Писании…” плач народа очень краток. “Повесть…” в этом смысле оказалась более традиционной, поэтому всенародный плач в ней намного пространнее. Плач народа в ней не добавляет ничего нового в смысле содержания и стиля к устоявшейся формуле подобных плачей. В этом плаче содержится прославление князя, перечисляются все благодеяния Скопина и приводятся обычные слова о незаменимости умершего воеводы и о полной безнадежности положения после его смерти: “…к кому прибегнем, и кто нас свободит от нахождения иноверных, и государство Московское очистит…” (л. 35 об.).
Обращает на себя внимание заключительная фраза народного плача в “Повести…”, примечательная тем, что она близко напоминает поэтическое восклицание автора “Слово о полку Игореве” в конце рассказа о поражении князя Игоря.
���� Слово о полку Игореве Повесть…
���� Уже бо, братие, веселие наше в тугу и ла, уже пустыни силу прикрыла. [29] Уже бо, братие, невеселая година встаскорбь и во многое сетование преложися! (л. 36).
Вместо двух плачей шведского полководца Якова Делагарди, включенных в “Писание…”, в “Повести…” присутствует только один плач иноземцев. Он больше по объему, чем оба плача Делагарди, вместе взятые, и принадлежит не конкретной личности, а всем иностранным наемникам, которых автор называет “немецкие полки”. Хотя их переживания переданы в “Повести…” в типичном для подобной ситуации в житийных произведениях древнерусской литературы гиперболизированном виде, [30] выражены они даже драматичнее, чем переживания русских. Поведение иноземцев при погребении Скопина говорит об их безграничном отчаянии: они “…по своему их немецкому обычаю во главы своя биюще, и власы своя рвуще, и лица своя до пролития крови одираху, и со многими слезами, и своими иновещанными языки вещающе, и много причи-тающе…” (л. 36-36 об.).
Главный смысл плача иноземных воинов состоит в том, что похвальное мнение о князе высказывается чужестранцами. При этом прославление Скопина иностранными наемниками превосходит даже возвеличивание его в других плачах. Иностранцы оценивают полководческие таланты Скопина еще выше, чем соотечественники. Они заявляют, что в своих походах по разным странам нигде не встречали человека, наделенного такими достоинствами, как Скопин, и удостаивают его высшей похвалы, сравнивая с Александром Македонским. [31]
Оценка Скопина в плаче иностранных наемников подтверждает зависимость “Повести…” от “Писания…”, где Яков Делагарди восклицает: “Московский народи! Да уж мне не будет не токмо на Руси вашей, но и в своей немецкой земли, но и от королевских величеств государя такова мне”. [32] В “Писании…” эта характеристика появилась в свою очередь как подражание Житию Александра Невского, влияние которого на “Писание…” уже давно отмечалось в научной литературе. [33]
Таким образом, “Повесть…” испытала через посредство “Писания…” воздействие со стороны Жития Александра Невского.
“Повесть о честнем житии царя и великаго князя Феодора Ивановича”, написанная патриархом Иовом еще в царствование Бориса Годунова, [34] также послужила важным литературным источником “Повести…” и оставила заметные следы не только в рассказе о князе М. В. Скопине-Шуйском.
По своим задачам и особенностям художественного метода труд Иова вполне может быть признан продолжением Степенной книги. [35] Царь Федор, последний представитель династии Рюриковичей, не попал в Степенную книгу. Патриарх Иов ликвидировал этот пробел, написав повесть, посвященную царю Федору и представляющую собой еще как бы одну степень в дополнение к Степенной книге.
Следует отметить особенность, отличающую “Повесть о честнем житии…” от других агиобиографий русских государей. В “Повести о честнем житии…” рядом с идеальным образом царя Федора нарисован не менее идеализированный образ Бориса Годунова; последнему уделено много внимания, он почти всегда называется “великим воином”, “непобедимым воеводой”.
Если учесть, что характеристики царя Василия Шуйского в “Повести…” совпадают по содержанию с характеристиками царя Федора в “Повести о честнем житии…”, а Борис Годунов, так же как князь Скопин, “премудростию украшен и к бранному ополчению, зело искусен и во всех воинских исправлениих непобедимый воевода явися”, [36] то обнаруживается параллель: в “Повести о честнем житии…” царь Федор и его боярин Борис Годунов, в “Повести…” царь Шуйский и его боярин князь Скопин. Василий Шуйский ведет себя так же, как царь Федор, который заботился о вере, благочестии и церквах, по ночам “своими царскими непрестанными к богу молитвами всю богохранимую царскую державу в мире и тишине соблюдая”. [37] Характеристики Скопина вобрали в себя многие элементы характеристик Бориса Годунова, наделенного в “Повести о честнем житии…” такими достоинствами, что сам царь “дивится превысокой его мудрости и храбрости и мужеству”, а посланцы из всех стран, где “пройде слава о нем”, “пресветлой красоте лица его и премудрости, разуму его чюдящеся”. [38] Князь Скопин-Шуйский лишь повторяет поступки боярина Бориса Годунова, который, по мнению Иова, был выдающимся воином и “непобедимым” полководцем. Автор “Повести…” следует за Иовом, когда подчеркивает, что Скопин перед каждым боем сам расставлял войска и вдохновлял, их словом и делом. В “Повести о честнем житии…” Борис Годунов перед сражением “своим бодроопасным разсужением сам окрест воинства непрестанно обходит, и полки изрядно устрояет, и к бранному ополчению всех поощряет, и не отпадати надежда повелевает, и на подвиг всех укрепляет”. [39] Подобных аналогий повести Иова в “Повести…” встречается немало.
Кроме рассказа о М. В. Скопине-Шуйском, в “Повести…” есть еще ряд эпизодов, выделяющихся в общем повествовании самостоятельностью и завершенностью сюжета, смысловой нагрузкой и особой украшенностью стиля. В них наглядно отразились характерные черты авторской идеологии. Это эпизоды, в которых либо тем или иным способом выражается отношение автора к царям и патриархам, причем личные симпатии автора не имеют решающего значения для характеристики отдельных царей и подчиняются общей идее прославления самодержавия, либо описываются события, которые, по его мнению, имели чрезвычайную важность для страны. Все эти отрывки носят следы подражания различным произведениям древнерусской литературы.
К таким эпизодам, имеющим самостоятельное значение, относятся вымышленные предсказания будущей судьбы Филарета и Михаила Романовых, принадлежащие в одном случае патриарху Гермогену, а в другом – царю Федору Ивановичу. Эти легенды обращают на себя внимание не только тем, что они совсем не известны по другим произведениям о “Смуте”. Одна из них, посвященная Михаилу Романову, исправляет другую легенду о передаче престола Федором Ивановичем боярину Федору Никитичу, отцу Михаила Романова, содержащуюся в мемуарах Конрада Буссова [40] и в Хронографе редакции 1617 г. [41] Другая легенда в том, что Гермоген “…патриархом нарече, и на своем престоле быти благослови великому господину и государю, святейшему патриарху Филарету Никитичу… издалеча бо прежде провиде и духом святым прорече…” (л. 60), повторяется в “Повести…” дважды. В первый раз она помещена перед рассказом об отъезде Филарета с посольством под Смоленск. Автор подчеркивает таким образом значительность личности Филарета, которому он дает панегирическую характеристику. Кроме того, пророчество патриарха Гермогена выражало в “Повести…” мысль о том, что последовавшая вскоре его смерть не обезглавила русскую церковь, так как существовал, хотя и в плену, “тайно” нареченный им самим наследник на патриарший стол. Повторение легенды преследует ту же цель – доказать правомерность и даже необходимость принятия Филаретом высшего духовного звания, а также то, что долговременное отсутствие церковного главы в России объясняется только тем, что избранный Гермогеном патриарх находился на чужбине. В основе легенды о Михаиле Романове лежит подобная же цель – доказать законность его избрания царем.