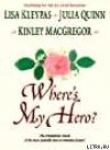Текст книги "Гарри Поттер и Сестры Блэк. Альтернатива. ЛП (СИ)"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Элизабет Гоудж
Маленькая белая лошадка в серебряном свете луны
Уолтеру Гоудж с благодарностью
* * *
Я увидел ее под блестящей луной,
Ее грива сияла красой неземной.
С гордо выгнутой шеей – ко мне… не ко мне?
Она будто летела в серебряном сне.
Без единой помарки, вне добра или зла,
Жизнь мою за собою она повела.
Ни скорбей, ни смущенья, ни тяжкой вины —
Совершенство мгновенья в белом свете луны.
Так под солнцем сверкнет исчезающий снег,
Луч во тьме промелькнет, чтобы скрыться навек.
Так мерцает трава под рукою косца,
И от Божьего гласа смолкают сердца,
Когда времени шаг раздается вдали,
И пора наступает отнять у земли
Этот белый цветок, устремившийся в свет,
Совершенство мгновенья, которого нет.
И она исчезает, тряхнув головой —
О, останься, лошадка, останься со мной!
Но движением легким, как блик на воде,
Обернулась кругом – и не видно нигде!
Не узнать никогда – это ты ли была,
Или просто луна ко мне ночью пришла?
И, утратив тебя, я молю об одном, —
Чтобы помнить всегда о виденьи моем.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Экипаж тряхнуло еще раз, и Мария Мерривезер, мисс Гелиотроп и Виггинс снова попадали друг другу в объятья, вдохнули, выдохнули, выпрямились и опять сосредоточились на том, в чем каждый из них пытался в тот момент обрести источник мужества и силы.
Мария принялась разглядывать свои башмачки. Мисс Гелиотроп утвердила очки там, где им полагалось находиться, подобрала с пола потертый коричневый томик французских эссе, сунула в рот мятную пастилку и снова уставилась в тусклом вечернем свете на мелькающие черные буковки на пожелтевших страницах. Между тем Виггинс облизывал язычком усы, в которых еще таился вкус давно переваренного обеда.
Человечество можно грубо разделить на три типа – тех, кто находят утешение в литературе, тех, кто находят утешение в украшении самих себя, и тех, кто находят утешение в еде; мисс Гелиотроп, Мария и Вигтинс были типичными представителями каждого из этих типов.
Марию следует описывать первой, потому что именно она героиня этой истории. В лето Господне 1842 ей было тринадцать лет, она была не слишком красива со своими странными серебристо-серыми смущающе-проникновенными глазами, прямыми рыжеватыми волосами и тоненьким, бледным личиком с приводящими ее в отчаянье веснушками. Несмотря на миниатюрность, свойственную скорее феям, она держалась с достоинством и никогда не сутулилась, а своими исключительно крошечными ножками просто-таки гордилась. Она знала, что ножки – ее главное достоинство, и потому, если было возможно, проявляла куда больший интерес к башмачкам, чем к перчаткам, платьям или шляпкам.
Башмачки, надетые на ней сегодня, были рассчитаны на то, чтобы выводить из самого глубокого уныния. Они были сделаны из мягчайшей серой кожи, отделаны по верху хрустальными бусинками и расшиты белоснежной овечьей шерстью. В тот момент хрустальные бусинки разглядеть было нельзя, потому что серое шелковое платье и теплая серая шерстяная пелерина, также отделанная белой овечьей шерстью, доходили ей до лодыжек, но она-то знала, что бусинки на месте, и мысль об этом придавала ей силы, что едва ли можно было переоценить в этих тяжелых обстоятельствах.
Мысль о бусинках утешала ее, как в несколько меньшей степени и мысль о фиолетовом пояске, которым была перевязана ее стройная талия под пелеринкой, маленьком букетике фиалок, так глубоко заткнутом за ленту серой бархатной шляпки, что он был почти не виден, и серых шелковых перчатках, украшающих маленькие ручки, прячущиеся внутри большой белой муфты. Мария была истинной аристократкой, совершенство того, что не на виду, оказывалось для нее даже важнее, чем то, что было выставлено напоказ. Не то чтобы она не любила выставлять себя напоказ. Нет-нет, конечно, любила. Она, даже одетая в серый с фиолетовым траурный наряд, смотрелась весьма эффектно.
Мария была сиротой. Ее мать умерла, когда она была еще малюткой, а отец – два месяца тому назад, оставив столько долгов, что все его имущество, включая прекрасный лондонский дом с красивым окном над дверью и высокими стрельчатыми окнами, выходящими в спокойный лондонский Сквер, где Мария прожила всю свою короткую жизнь, было продано в уплату за долги. Когда адвокаты закончили все дела к своему удовлетворению, они обнаружили, что денег осталось ровно столько, чтобы отправить ее, мисс Гелиотроп и Виггинса в почтовом дилижансе на запад Англии, где они никогда не были, чтобы они жили там у двоюродного дяди Марии, ее ближайшего родственника, сэра Бенджамина Мерривезера, которого они никогда раньше не видели, в его поместье под названием Лунная Долина в деревне Сильвердью.
Но не от своего сиротства так грустила Мария, и не оно заставляло ее искать утешения в созерцании своих башмачков. Матери своей она не помнила, отец ее, солдат, почти всегда служил за границей и не много думал о дочери, и потому она не слишком любила его; не то что мисс Гелиотроп, которая была с ней с первых же месяцев ее жизни, сначала няней, потом гувернанткой, и изливала на нее всю свою любовь. Нет, грустила Мария от ужасного путешествия и перспективы деревенской жизни безо всяких удобств.
Мария ничего не знала о жизни в деревне. По рождению и по воспитанию она была истинная лондонская леди, она любила роскошь и всегда жила в прекрасном лондонском доме, выходящем окнами на лондонский Сквер. Но со смертью отца все перевернулось, и они всего лишились, потому что не было денег, чтобы платить за дом.
А что теперь? Судя по экипажу, в Лунной Долине не слишком много удобств. Это была ужасная колымага. Она ждала их в Эксетере и была еще неудобней, чем почтовая карета, в которой они ехали из Лондона. Обивка сидений была жесткой, поеденной молью, пол был усеян куриными перьями и соломой, взлетающими вверх от потоков ледяного воздуха, врывающегося через плохо пригнанные дверцы. Две пегие лошади, несмотря на начищенную сбрую и ухоженный вид – Мария сразу это заметила, потому что сама обожала лошадей – были старыми, растолстевшими и медлительными.
Кучер был умный маленький человечек, больше похожий на гнома, чем на человеческое существо, одетый в плащ с пелериной со столькими заплатками, что нельзя было уже угадать его первоначальный цвет, и в потертую бобровую шляпу с закрученными полями, которая была ему настолько велика, что спадала на лоб и останавливалась только на переносице, так что из всего его лица видна была только широкая беззубая улыбка и седая щетина на плохо выбритом подбородке. Но настроен он был по-дружески и все время болтал, пока подсаживал их в экипаж, укрывал им колени разодранной старой попоной, однако из-за отсутствия у него зубов им было очень трудно его понимать. Сейчас, в густом февральском тумане, скрывавшем все вокруг, они с трудом видели его через маленькое окошко в передней части экипажа. Разглядеть местность, по которой они проезжали, было невозможно. Они чувствовали только, что дорога полна рытвин ухабов, потому что их мотало из стороны в сторону, бросало вверх и вниз, как будто они были воланчиками, а экипаж ракеткой. Скоро стемнело, новомодных газовых фонарей, которые в те дни освещали лондонские улицы, не было, и глубокая тьма окутала все вокруг. Было страшно холодно, и им казалось, что они путешествуют уже целую вечность, а никаких знаков приближающегося жилья не показывалось.
Мисс Гелиотроп подняла повыше книгу эссе и уткнулась в нее носом, решив, что дочитает одно из них, посвященное выносливости, до темноты. Она не сомневалась, что в ближайшие месяцы ей не раз придется его перечитывать, вместе с другим эссе о любви, которая никогда не исчезает. Она помнила, что первый раз прочла это эссе в тот вечер, когда начала заботиться об осиротевшей маленькой Марии и поняла, что ей придется ухаживать за самым малоприятным образчиком младенца женского пола из всех, с которыми ей приходилось встречаться раньше, со странными серебристыми глазами, твердо знавшими с самого младенчества о своей Голубой Крови, и от того много о себе понимавшими. Тем не менее, прочитав то эссе, она твердо решила, что должна любить Марию и никогда не лишать этого ребенка своей любви, пока смерть не разлучит их обеих.
Сначала любовь мисс Гелиотроп к Марии требовала от нее невероятных усилий. Она шила и чинила ее одежду с угрюмой необходимостью и с еще более расстраивающим ее отсутствием воображения, но в ответ на капризы применяла телесные наказания очень умеренно, достигая больших успехов в привязанности к ней ребенка, чем в спасении его бессмертной души. Но постепенно все изменилось. Теперь, когда Мария была чем-то огорчена, она проявляла к ней все большую и большую нежность, одежда девочки, которую она мастерила с необыкновенным пылом, в каждой маленькой детали оказывалась произведением искусства; и поскольку ее саму всю жизнь наказывали за все маленькие грешки, мисс Гелиотроп теперь не заботило, любит ли ее Мария или нет, ее единственной задачей было превратить ребенка в прекрасную и благородную даму.
Это была истинная любовь, и Мария об этом знала, и даже когда то, что сзади, болело так, что нельзя было даже сесть, ее чувства к мисс Гелиотроп нисколько не ослабевали. Теперь она уже была не ребенок, а юная леди тринадцати лет, и это было лучше всего.
С младенческих лет Мария умела распознавать хорошее. Она всегда хотела самого лучшего, и быстро узнавала его, даже когда, как в случае с мисс Гелиотроп, наружный вид шкатулки не обещал обилия золота внутри. Может быть, только она одна разглядела, как замечательна мисс Гелиотроп на самом деле, и поэтому, без сомнения, чувства мисс Гелиотроп к ней стали такими пылкими.
Так сказать, наружный вид шкатулки мисс Гелиотроп и впрямь был странноват, и это только доказывало, как глубоко умели проникать серебристые глаза Марии, если она так быстро разобралась в этом. Большинство людей, сталкиваясь с носом и манерой одеваться мисс Гелиотроп, останавливались на этом и дальше не шли. Нос у мисс Гелиотроп загибался наподобие орлиного клюва, и он был того невообразимо красноватого цвета, который у большинства людей рождает немедленные подозрения. Они думали, что она ест и пьет слишком много, и потому у нее такой красный нос, но на самом деле мисс Гелиотроп не могла есть почти ничего, потому что у нее было ужасное несварение желудка.
Именно оно, а не излишества, так разукрасило ей нос. Она никогда не жаловалась на свое несварение, она просто терпела его, и из-за того, что она никогда не жаловалась, никто, кроме Марии, так и не понял ее. Но даже Марии она никогда не упоминала о своем несварении, ибо она усвоила еще от своей матери, что истинная леди никогда и никому ничего не говорит о себе. Но страсть мисс Гелиотроп к мяте в конце концов позволила Марии добраться до сути вещей.
Нос, приносивший мисс Гелиотроп одно расстройство, занимал столько места на ее тощем бледном лице, что невозможно было разглядеть прекрасные незабудковые глаза и нежные дуги красивых темных бровей. Редкие седые волосы она скручивала в тугое кольцо вокруг головы, эта прическа шла ей, когда она впервые так причесалась в шестнадцать лет, но в шестьдесят она была не слишком подходящей.
Мисс Гелиотроп была высокой, тощей и сутулой, но ее худоба не замечалась, потому что одевалась она в старомодное платье с кринолином из фиолетового бомбазина и зимой и летом куталась в черную шаль, которую так затягивала на груди, что казалась даже пухлой. На улицу она всегда выходила с большим черным зонтом, надевая объемистое потрепанное черное пальто и громадную черную шляпу с фиолетовым перышком, а дома носила белоснежный чепец, отделанный черной бархатной тесьмой. Она всегда была в черных шелковых перчатках и носила с собой черный ридикюль, в котором был белый, без единого пятнышка, носовой платок, надушенный лавандой, очки и коробка с мятными пастилками, на шее у нее был золотой медальон размером с гусиное яйцо, а что в нем было, Мария не знала, потому что когда она спросила мисс Гелиотроп, что внутри медальона, та ей не ответила. Мисс Гелиотроп редко что запрещала своей возлюбленной Марии, когда то, что Мария хотела, не грозило погубить ее бессмертную душу, но она категорически отказалась открывать медальон. Это, как она сказала, касается только ее самой… У. Марии не было возможности заглянуть туда украдкой, потому что мисс Гелиотроп никогда не расставалась с медальоном, и даже ночью клала его под подушку. Да Мария и не собиралась заглядывать туда тайком, не такая она была девочка. Мария, несмотря на некоторую суетность и излишнее любопытство, обладала такими качествами, как гордость, смелость и утонченность, а мисс Гелиотроп была полна любви и терпения.
Трудно описать добродетели Виггинса… Вернее, невозможно, потому что у него их не было… Виггинс был жаден, самонадеян, вспыльчив, эгоистичен и ленив. Мария и мисс Гелиотроп считали, что он любит их беспредельно, потому что он всегда жался к их ногам, вежливо вилял хвостом, когда с ним заговаривали и даже иногда облизывал им лицо. Но все это было не от любви, а от того, что он знал – так будет лучше. Он сознавал, что все, что делает его жизнь приятной, исходит от мисс Гелиотроп и Марии – еда, всегда отличного качества, своевременно появляющаяся в его зеленой миске, к которой он был так привязан, зеленый кожаный ошейник, его щетка и расческа, приятно пахнущее мыло. Другие хозяйки, как он понял из бесед с собаками, которых встречал в парке, не всегда ставили удобство своих домашних животных на первое место… Но не его… Поэтому Виггинс смолоду сообразил, что надо снискать расположение Марии и мисс Гелиотроп, и оставаться с ними до тех пор, пока они будут заботиться о нем.
Но несмотря на то, что нравственные качества Виггинса оставляли желать лучшего, не надо думать, что он был бесполезным членом общества, ибо красота приносит радость всем, а красота Виггинса была такова, что описать ее можно только громоподобным трубным звуком слова «несравненный». Он был чистопородный кинг-чарльз спаниель. Шерстка его по всему телу была густого кремового цвета, гладкая и блестящая, и только на груди был необычайный каскад мягких завитков, напоминающих жабо на рубашке джентльмена. В то время не было модно обрубать спаниелям хвосты, и хвост Виггинса напоминал перья страуса. Он им очень гордился, и в ветреную погоду хвост всегда развевался как флаг, а иногда, когда солнце просвечивало сквозь его чудную шерстку, она так сияла, что нельзя было отвести глаз.
Только длинные шелковистые уши Виггинса и пятна над глазами были не кремовыми, а нежнейшего каштанового цвета. Глаза были карие, их подернутая влагой нежность завоевывала все сердца; владельцы этих сердец и не подозревали, что вся эта нежность направлена не на них, а на самого себя. Лапы его были покрыты длинной шерстью, как у геральдических зверей. Нос был длинный и аристократический, и дивные золотистые усы помогали ему держать ситуацию под контролем. Нос был черный, блестящий и холодный, а прелестный розовый язычок всегда был приятно влажным. Виггинс не был из тех нервных собак, которые позволяют себе иметь дрожащие усы, горячий нос и слюнявый язык.
Виггинс знал, что чрезмерные эмоции опасны для красоты, и никогда не позволял себе волноваться… Ну, может быть, немножко при виде еды. Хорошая еда вызывала в нем бурные чувства, и так силен был в нем восторг, так глубока благодарность тем добрым феям, которые от рождения наделили его хорошим пищеварением, потому что, сколько бы он ни объедался, это никак не отражалось на его исключительно великолепной фигуре… Обед, который он съел в гостинице в Эксетере действительно был прекрасен: отбивная, зелень и жареный картофель, конечно, были приготовлены для мисс Гелиотроп, но она не смогла с ними справиться… Его розовый язычок раздумчиво вылизывал золотистые усики. Если еда на Западе будет такой же хорошей, как в Эксетере, подумал он, можно будет спокойно и терпеливо переносить этот холодный туман и тряский экипаж.
Наступила полная тьма, и странный старый кучер слез с козел, ухмыльнулся им и зажег два старинных фонаря, висевших с обеих сторон. Но они давали не слишком много света, и в окна экипажа можно было разглядеть только колышущийся туман и круто обрывающиеся холмы, покрытые мокрым папоротником. Дорога становилась все уже и уже, так что папоротники с обеих сторон подступали прямо к экипажу, все ухабистей и ухабистей и все круче и круче, так что они то с трудом карабкались вверх, то с риском для жизни скользили вниз по какому-то ужасному крутому утесу.
В темноте мисс Гелиотроп не могла больше читать, а Мария разглядывать свои башмачки. Но они не ворчали, потому что Истинные Леди никогда не ворчат. Мария засунула руки в муфту,.а мисс Гелиотроп спрятала свои под пальто, они сжали зубы и терпели.
Все трое, наверное из-за холода, впали в забытье и какую-то странную усталость, и поэтому страшно удивились, когда вдруг обнаружили, что экипаж остановился. Должно быть, между тем, как они потеряли сознание, а тем, когда они очнулись, прошло много времени, потому что вокруг все изменилось. Исчез туман и взошла луна, так что теперь они могли совершенно отчетливо разглядеть друг друга.
Грусть куда-то пропала, и сердца бились быстрее в предвкушении приключения. Мисс Гелиотроп и Мария, взволнованные, как малые дети, спустили каждая со своей стороны стекла экипажа и высунулись в окна, а Виггинс втиснулся рядом с Марией, как будто тоже мог высунуться в окно.
Покрытые папоротником холмы с обеих сторон исчезли, и их место заняли подступающие прямо к окнам экипажа стены, сложенные из красивого грубого серебристо-серого камня, и прямо перед ними, совершенно закрывая дорогу, оказался такой же камень.
– Может быть, мы сбились с пути? – спросила мисс Гелиотроп.
– Тут в камне ворота! – закричала Мария, которая высунулась в свое окно так далеко, что подверглась опасности свалиться в узкую щель между стеной и экипажем. – Смотрите!
Мисс Гелиотроп изогнулась под невероятным углом и увидела, что Мария совершенно права. В камне были ворота мореного дуба, одного цвета с камнем от старости, и поэтому их трудно было отличить от стены. Они были большие, и достаточно широкие, чтобы пропустить экипаж. Рядом с ними из отверстия в стене свисала ржавая цепь.
– Кучер слез! – выпалила Мария, и ее глаза засветились от волнения, когда она увидела, что похожий на гнома маленький человечек подскочил к ржавой цепи, ухватился за нее, поджал обе ноги и закачался на ней, как обезьяна на ветке. В результате где-то за стеной раздалось низкое глухое звяканье. Прозвонив так три раза, кучер спрыгнул на землю, ухмыльнулся Марии и опять взобрался на козлы.
Медленно отворились огромные ворота. Кучер хлестнул старых пегих лошадок, мисс Гелиотроп и Мария снова уселись на свои места, и экипаж покатил вперед, ворота за ними закрылись так же бесшумно, как и открылись, отрезав лунный свет и оставив их в темноте, с одним только мигающим фонарем, в свете которого видны были покрытые мокрым мхом стены подземного туннеля. Марии казалось, что фонарь осветил какую-то неясную фигуру, но она не была в этом уверена, потому что раньше, чем она смогла ее как следует рассмотреть, экипаж уже проехал вперед.
– Ой-ой, – сказала мисс Гелиотроп, радости в ней поуменьшилось, потому что воздух был влажным и холодным, туннель казался бесконечным, а эхо от стука колес напоминало гром. Но раньше, чем они снова испугались, они уже выехали на лунный свет и оказались в таком красивом месте, что трудно было представить себе, что такое еще бывает на нашей земле.
Все сияло серебром. По обеим сторонам от них поднимались стволы высоких деревьев, а трава так серебрилась в лунном свете, что напоминала сверкающую воду. Деревья были посажены не часто и между ними открывались очаровательные полянки, над которыми в эбонито-во-черном небе виднелись серебристые звезды. Все замерло. Царил полный покой, хотя все переливалось в лунном сиянии. Серебристый узор крон над стволами был таким нежным, что лунный свет проходил сквозь него, как поток серебристой пыли.
Однако среди деревьев была жизнь, хотя эти живые существа не двигались. Мария заметила, что на серебристой ветке сидит серебристая сова, а у дороги, поблескивающей в свете фонаря, на задних лапках сидит серебристый кролик, а рядом прелестная группа серебристых оленей… И на какое-то мгновенье в дальнем конце прогалины она увидела маленькую белую лошадку с развевающейся гривой и хвостом, с поднятой головой, застывшую в середине прыжка, как будто она заметила ее и обрадовалась ей.
– Посмотрите, – закричала она мисс Гелиотроп. Но когда та обернулась, все уже пропало.
Они катили еще какое-то время по толстому ковру мха, заглушавшему стук колес, пока, наконец, не проехали под аркой в старой серой стене, на этот раз сложенной не из естественных глыб, а из обработанных людьми камней. Стена была увенчана башенками. Мария встретила эти башенки с восторгом, но тут они очутились уже за стеной, и прекрасный парк уступил место аккуратному саду с цветочными клумбами и мощеными дорожками, окружающими прудик с лилиями, кустами, подстриженными так, что получались фантастические очертания петухов и рыцарей на конях.
Сад, как и парк, казался в лунном свете серебристо-черным, и Мария слегка задрожала от страха, пока они катили по нему, потому что ей показалось, что черные рыцари и черные петухи повернули головы и холодно смотрят на нее. Виггинс, хоть и сидел на полу и не мог видеть черных теней, тоже, похоже, почувствовал себя неуютно и заворчал. Мисс Гелиотроп, наверно, тоже стало не слишком весело, потому что она спросила странным тоном: «А скоро мы доберемся до дома?
– Мы уже у дома, – обрадовала ее Мария. – Смотрите, вот свет!
– Где? – спросила мисс Гелиотроп.
– Вот, – ответила Мария. – В вышине, прямо за этим деревом. И она указала туда, где желтый огонек света весело подмигивал им сквозь верхние ветви огромного черного кедра, горой возвышавшегося прямо перед ними. Какая-то чудесная радость поднималась в душе от этого желтого света, который покоился, как драгоценный камень на черно-серебристом бархатном фоне. Это было что-то земное среди всей этой неземной красоты, и оно приглашало ее войти и было ей радо, несмотря на то, что холодные черные тени не желали ее приезда.
– Да оно прямо где-то в небе! – выпалила мисс Гелиотроп в изумлении, но тут экипаж сделал широкий круг вокруг кедра, и они поняли, почему свет сияет так высоко. Этот дом не был похож на тот современный дом, к которому они привыкли, это Оыл странный дом, больше походивший на замок, а не на дом, и свет лился из окна на вершине высокой башни.
Мисс Гелиотроп тревожно вскрикнула (но быстро затихла, потому что только дурно воспитанный человек кричит, сталкиваясь с пугающей перспективой), подумав о мышах и пауках, которые приводили ее в ужас, но Мария вскрикнула от восторга. Она будет жить в доме с башней, как принцесса в волшебной сказке.
До чего же это был роскошный дом! Он возвышался перед ними, его серые стены противостояли полному теней саду с какой-то вечной силой, ободрявшей, как свет в окне башни. Хотя она никогда не видела его раньше, ей показалось, что она вернулась домой. Здесь жили многие поколения Мерривезеров, и она тоже была Мерривезер. Ей стало стыдно за свои дорожные опасения. Ее дом был здесь, а не там, в Лондоне. Лучше жить здешней простой жизнью, чем в самом роскошном дворце мира.
Она выскочила из экипажа раньше, чем он остановился, взбежала по каменным ступеням, которые одним боком упирались в стену и вели к большой дубовой двери, и застучала в нее со всей силой, на которую были способны ее кулачки. Конечно, ни ее легкие ножки, ни маленькие кулачки не произвели много шума, но кто-то внутри уже услышал стук колес, потому что огромная дверь немедленно отворилась, и показался самый необычный немолодой джентльмен, которого когда-нибудь доводилось видеть Марии. Он стоял на пороге с высоко поднятым фонарем.
– Добро пожаловать, племянница, – сказал он низким, глубоким, мелодичным голосом и протянул ей свободную руку.
– Благодарю вас, сэр, – ответила она, присела в реверансе, вложила в его руку свою и поняла, что должна полюбить его с этого мгновенья и навсегда,
Но ее дядюшка был несколько странноват на…вид, и когда она начала разглядывать его, ей было очень трудно остановиться. Он был очень высокий и такой широкий в плечах, что, казалось, заполнял собой весь огромный дверной проем. Лицо у него было круглое, красноватое, чисто выбритое, и большой крючковатый нос чем-то напоминал нос мисс Гелиотроп, У него было три двойных подбородка, маленький улыбающийся рот и моргающие теплые красноватые карие глазки, наполовину скрытые нависающими кустистыми седыми бровями. Его одежда, о которой очень тщательно заботились, была старомодной и крайне странно подобранной.
На голове у него был огромный седой парик, напоминающий кочан цветной капусты, а его двойные подбородки утопали в старомодном шейном платке. Жилет был шелковый, бледно-голубой с желтыми розами и малиновыми гвоздиками, и такой красивый ято он странно контрастировал с потертой и заплатанной курткой для верховой езды, бриджами и забрызганными грязью высокими ботинками. Он был слегка кривоног, как человек, большую часть своей жизни проводящий в седле. Руки его были большие и красноватые, как лицо, с ладонями, твердыми, как дубленая кожа, от сжимания конской упряжи, но на запястья падали прекрасные кружева, а на одном из пальцев сверкало, как огонь, кольцо с огромным рубином.
Казалось, все в сэре Бенджамине Мерривезере распространяло вокруг себя тепло, его круглое красное лицо, его голос, красноватые глазки и кольцо с рубином. Взяв Марию за руку, он внимательно посмотрел на нее, как будто сам себе задавал вопрос о том, что она такое. Она вздрогнула под его пристальным взглядом, словно испугалась, что в ней не найдется того, чего он ищет, однако твердо поглядела ему в лицо и даже не смигнула.
– Настоящая Мерривезер, – сказал он наконец низким грохочущим голосом. – Из серебристых Мерривезеров, прямая, надменная, разборчивая, отважная и горделивая, рожденная в полнолуние. Мы друг другу понравимся, дорогая, потому что я рожден в полдень, а лунные и солнечные Мерривезеры всегда по душе друг другу…
Он внезапно прервал сам себя, вдруг осознав присутствие мисс Гелиотроп и Виггинса, которые за это время выбрались из экипажа, поднялись по ступенькам и стали позади Марии.
– Дорогая мадам! – обратился он к мисс Гелиотроп, окинув ее долгим внимательным взглядом. – Дорогая мадам, разрешите! – Он низко поклонился, взял ее под руку и церемонно перевел через порог. – Добро пожаловать, мадам! Добро пожаловать в мой бедный, убогий дом.
Его слова поражали своей искренностью. Он действительно думал, что его жилище слишком убого для того, чтобы служить домом мисс Гелиотроп.
– Дорогой сэр! – воскликнула мисс Гелиотроп, трепеща от волнения, потому что джентльмены редко удостаивали вниманием ее непривлекательную особу. – Дорогой сэр, вы слишком добры!
Мария, подняв Виггинса, который недовольно ворчал, потому что никто не обращал на него достаточного внимания, толкнула дверь, чтобы та захлопнулась, и с одобрением взглянула на взрослых. Она поняла, что сэр Бенджамин оценил, из какого прекрасного материала была сделана ее дорогая мисс Гелиотроп… Они все должны понравиться друг другу.
Но нет, возможно не все, потому что несогласное ворчание у нее под мышкой, где был Виггинс, было только эхом громоподобного рычания, шедшего от камина, в котором горели огромные бревна, обогревавшего облицованную камнем залу, куда их ввел сэр Бенджамин,
Некий зверь, пугающе огромный зверь, чье тело, казалось, простиралось на всю длину камина, поднял огромную лохматую голову, лежавшую на лапах, и уставился на крошечную мордочку Виггинса, видневшуюся из-под руки Марии. Он громко чихнул, унюхав аромат, присущий Виггинсу, немножко поразмыслил об этом, презрительно моргнул и опять положил голову на лапы. Но спать он не собирался. Через каскад рыжеватой шерсти, спадающей ему на морду, его глаза, как две желтых лампы, уставились на них к смущению всей собравшейся компании – к смущению, потому что глаза эти были ужасно проницательны.
Если глаза сэра Бенджамина искали, казалось, что есть доброго, глаза лохматого создания у камина видели значительно больше. Мария не могла понять, что же это был за зверь. Она решила, что это собака, хотя он был не совсем похож на обычную собаку…
– Это пес Рольв, – ответил сэр Бенджамин на невысказанный вопрос. – Некоторые его опасаются, но я уверен, что тебе опасаться его не нужно. Это очень старый пес. Он пришел из соснового бора, что начинается за домом, в Рождественский Сочельник двадцать лет тому назад, и какое-то время оставался с нами, а после некоторых неприятностей в усадьбе снова ушел. Но год тому назад – опять в Сочельник – он вернулся и с тех пор живет со мной и ни разу, насколько мне известно, не обидел и мышонка.
– У вас есть мыши? – прошептала мисс Гелиотроп.
– Тысячи, – весело раскатился сэр Бенджамин. – Но мы ставим мышеловки. Мышеловки, а еще кот Захария. Захарии сейчас здесь нет. А теперь, дорогие леди, вы должны посмотреть свои комнаты и снять теплую одежду, а потом спускайтесь вниз в залу, и мы все вместе поедим.
Сэр Бенджамин взял со стола у камина три медных подсвечника, зажег свечи, вручил по одному мисс Гелиотроп и Марии, и повел их в смежную комнату, которая, как догадалась Мария, служила гостиной, хотя при тусклом свете трудно было что-нибудь разглядеть.
Он открыл дверь в стене, прошел в нее, и они очутились на винтовой лестнице. Ступени ее были стерты посредине, столько ног шагали по ней в течении многих веков, а сама она столько раз загибалась вокруг центрального столба, что у бедной мисс Гелиотроп совсем закружилась голова, хотя сэр Бенджамин, несший над головой свечу, несмотря на свой возраст и немалый вес, шагал по ступеням весело, как мальчик, а Мария, шедшая последней, скакала по ним с ловкостью веселой обезьянки.
– Ей шестьсот лет, – радостно сказал сэр Бенджамин. – Построена в тринадцатом веке Рольвом Мерривезером, оруженосцем короля Эдуарда I и основателем нашей семьи, на землях, пожалованных ему королем в награду за геройское поведение в битве. В нашей семье мы, мисс Гелиотроп, мы пишем Рольв через «в», потому что мы происходим от викингов и великих воинов.
– Да, – вставила мисс Гелиотроп, – когда Мария была маленькой, ради того, чтобы она съела рисовый пудинг, разыгрывалось целое сражение.
– Вы назвали собаку, пришедшую из соснового бора, в честь этого Рольва? – спросила Мария. Она на секунду задумалась прежде, чем назвать это громадное создание, что было в зале внизу, собакой, потому что ей как-то не верилось, что это на самом деле собака.