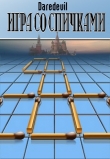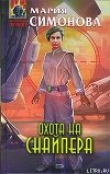Текст книги "Нонсенс"
Автор книги: Натиг Расулзаде
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
– Ну, вот, – сказала, усевшись в кресло, дочь. Она одна сняла сапоги и надела тапочки, за что Кязым по-настоящему был ей благодарен, сам в душе насмехаясь над собой, понимая, какие это мелочи и как они выпирают в старости. Лет двадцать-тридцать назад ему было бы начхать на подобную чушь, он бы и внимания не обратил – жена приберет после, или же придет утром домработница и почистит. Теперь он на все обращал внимание и, несмотря на врожденное жизнелюбие, от любой мелочи приходил в дурное расположение духа.
– Ну вот, – повторила дочь и снова замолчала, и непонятно было, хотела ли она начать разговор или вызывала на это отца. Когда пауза, между прочим, абсолютно не тяготившая внуков, достигла своего естественного предела, Кязым осторожно спросил:
– Что?
– А? – задумавшись, рассеянно спросила дочь.
– Я спрашиваю, что – "ну вот"? – сказал Кязым.
– Ну, вот, говорю, и доигрались, – встрепенулась дочь, как бы вспомнив главное, из-за чего и пришла, и тут же напустив на себя воинственный вид, будто Кязым был в чем-то виновен, и она его вину, которую он не сознавал, пришла ему доказывать. – Несколько дней назад у тебя был сердечный приступ, я знаю. От чужих людей приходится узнавать такие вещи, со стыда сгореть можно, честное слово! Ты разве сам не мог позвонить? Ты же здесь совсем один, не дай бог, случится что...
– Как же я буду звонить, если твой муж, едва услышав мой голос, бросает трубку? – сказал Кязым. – Думаешь, это приятно? А к телефону постоянно он подходит. Как же _ хозяин! И телефон, следовательно, его, – Кязым все время искоса поглядывал на помалкивавших внуков, ему хотелось заговорить с ними, приласкать их, потрепать по плечам, но при дочери не хотелось обнаруживать своих чувств, и, кроме того, он ждал, когда она скажет о цели своего прихода.
– Это было четыре года назад, – сказала дочь. – Ты знаешь, мы люди лояльные, так что... – она не договорила, очевидно любуясь словом "лояльные", повисшим в воздухе. Кязым знал о неутолимой страсти дочери к месту ли, не к месту употреблять недавно узнанные, где-то случайно вычитанные слова, понравившиеся ей своим звучанием, и потому не стал переспрашивать, какие они люди и что из этого следует, мальчики же одновременно прыснули.
– Если что-то изменилось и теперь мне в ухо не будут давать отбой, можно было бы позвонить и сообщить, клянусь честью, – проворчал Кязым. – К тому же вы зря волновались. Просто схватило сердце, это и приступом не назовешь... В "Зоне здоровья", в парке, врач сделал мне укол, и все прошло... – Когда он это говорил, лица внуков, Кямала и Кямиля напряглись, они чуть обернулись к нему и нахмурились, озабоченно глянули на деда, отчего у Кязыма сладко заныло внутри и воспряла душа, взлетела, мимолетно осчастливленная – казалось, больше ему ничего не нужно в жизни. – Так что, Зарифа, – продолжал Кязым, обращаясь к дочери, – ничего необычного, как видишь, не произошло, и поводов к тому, чтобы что-то в существующем порядке вещей менять, не имеется... – он оборвал себя, поняв, что не следовало бы столь желчно и искусственно говорить в присутствии внуков, нервно почесал перстнем переносицу и уже более мягко продолжил: Разве что у вас что-то случилось, и нужна моя помощь... Я готов... Я готов, и в самом деле с неподдельной готовностью в голосе повторил он. – Если только просьба эта принесет... вернее, исполнение этой просьбы принесет вам пользу, а не вред, – говоря "вам", Кязым сделал легкий жест, разом охватывающий всех троих – Зарифу, Кямала, Кямиля, сидевших перед ним, уставившись на многочисленные язычки огня из оригинально сконструированной газовой горелки в камине.
– Никакой просьбы у нас к тебе нет, – сказала Зарифа, не отрывая взгляда от огня в камине.– Я с Ялчыном вчера крупно поругалась...
– Папа и мама резвились, – прервал ее вдруг Кямал.
– Упражнялись в гибкости языка, – поддержал его
Кямиль.
– Помолчите! – прикрикнула на них Зарифа.
– Уже замолчали, – сказал Кямал.
– Он вчера будто взбесился, – продолжала Зарифа, обращаясь к отцу, умопомрачительная была сцена...
– Как ты сказала? – спросил Кязым.
– Умопомрачительная...
– Хм, – сказал Кязым, заметив, как внуки перемигнулись, улыбаясь.
– А ребята меня поддержали...
– Нечего вам ругаться. – Кязым слабо махнул рукой. – Чего не поделили? Вот у вас какие красавцы выросли, клянусь честью...
– Красавец среди овец, – неожиданно вставил Кямал.
– А среди красавца и сам овца, – прибавил Кямиль.
Они одновременно хмыкнули сказанному, и Кязым, посчитав, что теперь самая удобная минута, протянул руку и легонько потрепал Кямиля, сидевшего к нему ближе Кямала, по заросшей шее.
– Нехорошие мальчики, – сказал он, – совсем дедушку забыли...
– Мы же недавно были у тебя, – сказал Кямиль, – месяц назад...
– Ровно два месяца прошло, – поправил его Кязым.
– Папа не разрешает, – подчеркнуто серьезно произнес Кямал и захихикал.
– А, вот как, – улыбнулся Кязым, – значит, слово отца для вас закон, а слово деда – нет? Ну, шучу, шучу, отца надо слушаться, даже если он такой болван, как ваш...
– Папа! – укоризненно воскликнула Зарифа, а внуки переглянулись, усмехаясь. – Вечно ты ляпнешь что-нибудь экстраординарное.
Кязым поморщился, услышав последнее, не совсем понятное слово.
– Все некогда, дед, ты же должен понять нас, – сказал Кямал, – то одно, то другое, ни одного свободного вечера в итоге...
– Понимаю, – кивнул Кязым с серьезным видом.
– Вот если б с тобой что-нибудь случилось, мы бы тут же заскочили, не оставили бы тебя одного, будь уверен, – сказал Кямиль.
– Кямиль! – прикрикнула мать.
– Я не сомневаюсь, – усмехнулся Кязым, – спасибо, внучек.
Рука с перстнем на безымянном пальце снова потянулась к переносице. В таком духе, с продолжительными паузами, оттого, что отвыкли разговаривать друг с другом, отец с дочерью проговорили еще с полчаса, и Зарифа стала собираться домой. Внуки поднялись неохотно, за окнами завывал ветер, кружил и швырял в стекла капли влаги, и на их лицах было написано, что им не хочется уходить отсюда, ехать почти в другой конец города сквозь непогоду и слякоть в свою квартиру, где наверняка между родителями продолжится скандал, не совсем завершенный накануне. А поднявшись, Кямал вдруг, подойдя к деду, неожиданно чмокнул его в щеку. У Кязыма сердце замерло, облилось горячей волной любви и забилось отчаянно, хотя явно чувствовалось, что Кямал сделал это назло родителям, и, в частности, присутствующей здесь матери. После Кямала и Кямиль поцеловал деда, а Зарифа сказала:
– Ты, папа, береги себя, а если что, не дай бог, сейчас же позвони, понял?
Он кивнул, а в дверях, когда уже внуки вышли и вызвали старый, довоенного образца лифт, громоздкий и торжественный, как катафалк, вполне соответствующий этому старому дому с непомерно толстыми стенами, Кязым придержал дочь за локоть и, глядя ей в глаза только затем, чтобы увидеть ее реакцию, тихо произнес:
– Ты не думай... Случись что со мной – все вам оставлю, клянусь честью... Для кого же еще, как не для них? – он повел головой в сторону внуков на лестничной площадке и остановил на них долгий, тяжелый взгляд.
– Не говори глупостей, – отрезала Зарифа, но в глазах ее до того, как она решительным голосом произнесла эту фразу, засветились золотистые искорки, и они говорили Кязыму куда больше, чем слова.
Кямал, видимо почувствовав затылком взгляд деда, обернулся и подмигнул ему.
– Дедушка, будь готов, – сказал он.
– К чему? – не понял Кязым.
– Ко всему, – таинственно ответил Кямал и еще раз хитро подмигнул.
– Это верно, – вздохнул Кязым и, дождавшись, пока они поехали вниз на лифте, закрыл дверь. Когда щелкнул замок захлопнувшейся двери, у него вдруг появилось странное ощущение нереальности визита дочери с внуками к нему и какой-то болезненной незавершенности всего окружающего.
Совершенно неожиданно пришла блестящая мысль (как обычно и любят они приходить), и была она до того простая, к тому же просто осуществимая, что Кязыма обожгла летучая радость от того, что наконец-то решение так сильно мучившего его вопроса найдено. Впрочем, позднее было и легкое разочарование слишком долго и мучительно шел он к такому простому, чтобы не сказать, примитивному, решению своей, засевшей в голове, навязчивой идеи. Уже потом, спокойно взвешивая все практические стороны своей задумки, Кязым стал понимать, что претворение его идеи потребует немало сил и труда. Нужно было посовещаться со знающими людьми, со специалистами. А для этого прежде всего нужно было найти таких людей. Что и было сделано в кратчайший срок Кязымом, привыкшим к оперативности во всех делах.
– Прежде всего следует осмотреть место, – сказал ему один молодой архитектор, с которым Кязыма познакомили друзья. – Многое зависит от места. Иное место своим своеобразным рельефом и окружением само довольно точно указывает решение. Тут фантазировать нельзя, надо привязывать к месту, – со знанием дела, изо всех сил стараясь казаться солиднее и значительнее, чем он был на самом деле, говорил молодой архитектор, и, узнав, что пресловутое место, не сходившее с его языка, еще даже не присмотрено, ужаснулся: – Как! Это же надо делать в первую очередь. В противном случае и начинать не стоит...
– Ты не волнуйся, сынок, – успокоил его Кязым, – место я тебе найду великолепное, можешь не сомневаться. Клянусь честью!
– Не мне, а вам, – поправил его молодой человек, суеверно дернув себя за мочку уха и, кажется, немного обидевшись.
– Себе, конечно, себе, – добродушно поправился Кязым, коротко хохотнув, я в том смысле, что место тебе для работы.
– Понятно, – кивнул архитектор, тоже улыбнувшись, желая показать, что нисколько не обиделся, все-таки нечасто человеку, всего лишь три года назад окончившему институт и пока ничем не проявившему себя, как специалист, может повезти на такую крупную халтурку: есть возможность, если услужишь, хапнуть у старика столько, сколько в своем проектном институте получаешь за полгода – не шутка!
– В ближайшие дни отыщется такое место, будь уверен, – продолжал Кязым. Я слов на ветер не бросаю. Если дня через три-четыре не приглашу тебя смотреть место, клянусь честью – имя себе поменяю!
– Да что вы, – промямлил молодой человек, испуганный таким неожиданно яростным деловым напором старика, – я верю, верю...
– Вообще-то, – подумав немного, сказал Кязым, -> есть, конечно... Как не быть, сам понимаешь. Старое... Ну, одним словом, уже заселенное. Но мне оно не нравится, тесновато. Знаешь, я с молодых лет, вот как ты примерно был, привык к размаху, простору, душа не терпела тесноты... Там, где тесно, темно, нельзя руками вволю намахаться, там я задыхаюсь. Такой у меня характер, клянусь тебе. Поэтому я и не принимаю ту тесноту, а приищу что-нибудь более подходящее, так сказать, отвечающее душевному складу... А? Я прав или нет?
– Безусловно, вы правы, – с готовностью откликнулся молодой архитектор. Человеку вашего масштаба, безусловно, необходимы простор, широта...
– Безусловно, говоришь? – хитро прищурился на него Кязым. – Что же. Это так. По мне чувствуется это, я знаю. С молодости я такой. Все видели во мне широкую натуру. И гульнуть любил с друзьями, причем – заметь себе – никогда никому в своем присутствии не позволял платить. В моем присутствии – нет. Подожди, пока я выйду, тогда плати на здоровье. Ха-ха-ха! Шучу! Да и работы никогда не боялся. Работал в молодости – да почему только в молодости? – до самого последнего дня, до выхода на пенсию работал, как вол. И бог меня не забывал. Вознаграждал. Сказано: трудись и воздается тебе. Так-то. Широта, что и говорить, свойственна моей натуре. Я не случайно об этом заговорил: надо будет учесть при работе.
– Это уже не по моей части, мое дело маленькое, – сказал архитектор, но тут же спохватился, что ляпнул глупость, и, не желая умалять своей доли работы, добавил: – То есть мне тоже придется порядком попыхтеть, но то, что вы говорите, к моей части работы не относится...
– Я тебя, сынок, понял, – Кязым поглядел на него так, что молодой человек почувствовал себя не очень уютно, – но потому и говорю тебе, чтобы передал мои слова тому, к кому они относятся. Хотя будет время и с ним поговорить.
– Конечно.
– Только ты с этим не тяни, найди мне хорошего специалиста, и побыстрей. Я в ваших делах не очень силен и потому доверяю это тебе. Но смотри – хорошего. Предупреждаю: наведу справки.
– Ну, о чем речь, – возмущенно, но как-то осторожно, заискивающе возмущаясь, пожал плечами архитектор. – Конечно, хорошего найду. Зачем мне вас обманывать?
– Найдется зачем, – проворчал Кязым. – Вдруг захочешь дружка своего пристроить к выгодному дельцу, а он окажется как специалист – пустое место, ноль? У меня такие штучки не пройдут. Заранее предупреждаю – не пройдут. Разных там именитых и маститых не надо. Да и сами не захотят... Ну и черт с ними. Только чтобы парень был толковый, дело свое хорошо знал. Понял?
– Понял, – кивнул молодой человек, – не беспокойтесь. Все сделаем в лучшем виде.
– Посмотрим, – сказал Кязым, перстнем со своими инициалами почесывая переносицу.
Этот разговор происходил во вторник, а уже в воскресенье они втроем: Кязым, архитектор и немолодой, толстый, с одышкой скульптор (странно, но Кязыму казалось, что тоненький, несерьезный с виду архитектор приведет дружка себе под стать, а тут вполне солидный гражданин, даже с одышкой, что еще выше поднимало его солидность в глазах заказчика) поехали смотреть место, которое Кязым облюбовал в селении Маштаги.
– Не люблю города, – говорил Кязым в машине. – В селениях гораздо просторнее. Да и уладить формальности намного легче, здесь ублажишь, там нажмешь, глядишь, если надо, живого похоронят. Ха-ха-ха!.. А в городе то же самое, но волынку будут тянуть, пока человек на самом деле не скончается, клянусь честью, и тогда все будет самым законнейшим образом... Но тогда уже неинтересно... Ха-ха-ха! – загрохотал он, тряся своим большим животом, чуть не упиравшимся в руль.
Они вышли из машины, прошли в глубь кладбища и шагов через двести остановились почти в центре его, раскинувшегося широким четырехугольником, усеянным торчащими надгробиями под хмурым, похоронным, под стать, месту, небом.
– Вот здесь, – широко улыбаясь, будто после долгого отсутствия наконец-то узрел родной дом, объявил Кязым, кивая головой архитектору и скульптору на выбранное им место, отвоеванное большими усилиями и трудом.
– Чудесное место, – сказал архитектор, и Кязым еще шире расплылся в улыбке, словно похвалили нечто, созданное его собственными руками. – А какой здесь воздух! – воскликнул он, не замечая удивленных взглядов.
– И как только вам это удалось? – хмуро проворчал скульптор, зябко поеживаясь в потертом пальто, и непонятно было, чем он недоволен.
Кязым мельком – в который раз – глянул на поношенное пальто скульптора и отметил про себя, что, видимо, несмотря на всю его кажущуюся солидность, скульптор этот не из самых почитаемых будет. Ну да бог с ним, тут же присовокупил в мыслях Кязым, лишь бы дело свое знал. Архитектор широкими, энергичными шагами ходил вокруг доставшегося Кязыму места, осматривал его со всех сторон, примеривался, что-то записывал себе в книжечку, прищуривался на ближние могилы, на иные с такой откровенной злостью, как бы намереваясь своим взглядом стереть их с лица земли. Верно, они ему мешали. Но тут ничего уж не поделаешь, он прекрасно понимал, что даже Кязым с его почти фантастическим умением все устраивать был в данном случае бессилен. Могилы были самые разнообразные – от дешевых с простым серым камнем в изголовье покойника до мраморных плит с начертанными на них датами, портретами, прощальными словами, непонятно для кого предназначенными: самому покойнику они вряд ли понадобятся, посещавшим могилу родным очень скоро начинают мозолить глаза (слова – всего лишь слова, не больше), получалось, что предназначены они для чужих, приходящих в сию обитель печали.., Быстро осознав это, скульптор стал знакомиться с текстами на ближайших плитах, потом, оставаясь по-прежнему хмурым, подошел к Кязыму и, глухо кашлянув, сказал:
– С завтрашнего дня начнем, если не возражаете.
– Не возражаю.
– Мастерскую мою вы видели, так что прямо утром, часов в одиннадцать, и приезжайте.
– Договорились, – сказал Кязым. – Как насчет задатка?
– Завтра поговорим, – буркнул скульптор, как показалось Кязыму, почти обиженным тоном, но, глянув мельком ему в глаза, старик заметил мгновенно вспыхнувшие в них золотистые искорки, тут же угасшие под наплывом век.
Они уселись в машину. Кязым выехал на асфальт.
– Вот и отлично, – сказал он, непонятно к кому обращаясь, и, переключив на четвертую скорость, погнал машину по относительно ровной пригородной дороге на недозволенно высокой на этом участке шоссе скорости, хотя никуда, в общем-то, не спешил.
– Алло, Салман?
– Да. Кто говорит?
– Зарифа говорит, уже голос родной сестры не узнаешь, бессовестный.
– У тебя голос какой-то не свой.
– Тут еще не таким голосом запоешь... А ты не узнал, так мог бы сказать, что богатой буду, язык бы не отвалился.
– А что, ждешь богатства?
– Не говори глупостей! А-а, как я сразу не догадалась, ты, кажется, в своем обычном состоянии?
– Не угадала.
– Тем лучше. Ты только послушай, что я тебе скажу... Хотя даже не знаю, стоит ли к тебе обращаться по этому вопросу. Ведь для тебя родственные отношения – не главное. Но мне больше не с кем поделиться.
– Ошибаешься. Родственные отношения для меня так же важны, как и для тебя. И если хочешь знать, я больше не пью. Черт побери, все-таки странные люди в этом городе: стоит тебе начать пить – об этом трубят на каждом углу, бросаешь пить – ни гугу... Ну, давай выкладывай, что там у тебя. Меня уже капитально переделали, перевоспитали, переиначили, так что можешь обращаться с любым вопросом, сделаю все, что в моих силах.
– Ты правду говоришь, Салман, ты на самом деле бросил?
– Еще как бросил! Несколько сеансов у одного знаменитого экстрасенса возьми это слово на вооружение, пригодится, – не буду называть его имени, скажу только, задолжал я ему кучу денег, такие вещи за копейки не вылечиваются – и я уже довольно продолжительное время испытываю отвращение к спиртному, даже говорить о вине мне противно, вот сейчас говорю, и как будто поташнивать стало...
– Правда, Салман? Ох, как я рада! Теперь ты полноценный, так сказать, родственник и можешь... можешь вернуться...
– Говори, не стесняйся. В лоно родной семьи, ты хотела сказать?
– Да, примерно так.
– Возвращение блудного сына... Хорошо хоть ты поверила. Старик ни за что не хотел верить, думал – обманываю, чтобы денег у него выпросить, а мне нужно было заплатить за лечение. Ну, ладно, хватит об этом. Что там у тебя? Теперь ничто не мешает мне с новыми силами приняться за исправление семейных ошибок и устранение неприятностей, свою я уже, можно считать, устранил. Мальчики что-то натворили? Угадал?
– Нет, не угадал. Речь как раз о старике. Я расскажу тебе, только не перебивай, не то я очень нервничаю, я предельно взволнована...
– Предельно – значит, на пределе. Внимательно тебя слушаю.
– Да, слушай внимательно, но прежде,, если стоишь, то, пожалуйста, сядь, иначе, боюсь, как бы ты не упал.
– О! Интриговать, значит, вздумала?
– Нет, Салман, на самом деле произошло что-то ужасное...
– А! Старик умер!
– Гораздо худшее...
– Затрудняюсь разгадать, с годами, знаешь, фантазия все хуже работает. Умер, полагаю, потом воскрес и отобрал у тебя все свои деньги, которые ты уже распланировала потратить в ближайшие сто пятьдесят лет.
– Хватит паясничать! Говорю тебе, произошло что-то невероятное! У папы был как-то, не так давно, не помню уже когда, может, месяца три назад...
– Неважно, что именно было?
– Был сердечный приступ, потом еще один, уже посильнее, второй – совсем недавно, кардиограмма инфаркта не показала, но сердце у него в последние дни все же немного побаливает, врач советовал постоянно иметь при себе валидол и нитроглицерин.
– Ему нужно достать эти лекарства?
– Ничего ему не нужно, он сам может достать все, что угодно и кого угодно... Просто я издалека подхожу к цели своего рассказа.
– Понятно, подходи быстрее.
– Старика после этих двух приступов обуяли мысли о смерти. И ты представь, что он отмочил, на какую предельную глупость он пошел.
– В данном случае лучше сказать – беспредельную.
– Помолчи. В Маштагах на кладбище он оформил и купил себе участок для могилы и, не доверяя нам, что, мол... нет, ты представь себе, какой ужас – я это слышала от посторонних людей, каких-то его приятелей, слышала совершенно случайно... что, мол, мы его деньги растратим и не исполним его завещания, он сам взялся исполнить: заказал памятник себе на могилу, большой памятник, во весь рост. Стоит, наверно, кучу денег. Теперь он хочет при жизни еще установить этот памятник над своей пустой могилой. Ну как? Ты меня слышишь? Алло, алло!
– Да-а... Хорошенькое дельце... Черт знает, что такое! Старик сделается посмешищем у всего города. Кстати, а почему он выбрал кладбище в Маштагах, а не в городе?
– Не знаю. Это, думаю, не самое страшное из того, что он надумал.
– Да, шуточка, достойная премии "Золотого теленка"... Но что же делать? Надо же что-то делать!
– Над нами уже смеются. Он сам ни от кого не скрывает. Спрашивают отвечает: да, правда, готовят с меня памятник. Над нами уже смеются... Надо что-то делать, Салман! Это нонсенс!
– Как ты сказала?
– Нонсенс!
– Ты, наверно, хотела сказать – беспрецедентный случай, а-не нонсенс.
– Нет, нонсенс, именно нонсенс, настоящий нонсенс!
– Ладно, пусть будет нонсенс.
– Теперь самое главное – поговорить с ним, сначала надо поговорить, объяснить ему.
– Это уж ты сама, со мной он и говорить не будет.
–Да, я поговорю, а ты подумай, что можно сделать. Надо действовать – не дать ему стать посмешищем самому и сделать посмешищем нас. Скажу тебе откровенно – второе меня волнует гораздо больше. Я поговорю, но заранее знаю: толку от этого будет мало, старик если что вобьет себе в голову, разубедить его – гиблое дело. Так что вся надежда на тебя... Ялчын, естественно, все знает, но никоим образом не хочет вмешиваться. Ты должен что-то придумать.
– Ты, когда будешь говорить с ним, скажи, пусть не срамит нас...
– Нет, так нельзя, он обозлится и перестанет слушать. Надо быть предельно осторожной.
– Ну и будь предельно осторожной...
– Я чувствую, старик нас сделает посмешищем, стыдно будет людям в глаза смотреть...
– Ладно, раньше времени не кричи "караул". Что-нибудь придумаю.
– Да, да, я прошу, ты ведь всю жизнь был ловок придумывать, находить выходы из трудных ситуаций. Теперь я немножко успокоилась... А то была ну просто предельно взволнована.
– Желаю твоей предельности вечной беспредельности.
– Нашел время острить.
– Остроумному не надо для этого находить время. Он острит, как дышит.
– Ну, не отвлекайся. Начинай уже думать. Надо спешить. Ну, ладно, пока!
Боль тихими наплывами, но с каждой новой волной делаясь все ощутимее и острее, наплывала на шею, на виски, на затылок, отпуская лишь на короткие, совсем уже незначительные промежутки, и очень скоро сделалась постоянной и почти невыносимой, вонзила свои когти и не отпускала, терзая и мучая. Ноги подкашивались...
– Ох! – невольно вырвался у него тихий, еле слышный стон. Скульптор Мурад поднял голову, оторвался от работы и сердито глянул на натуру. По губам его, как тень, скользнула ухмылка.
– Вы можете отдохнуть, Кязым-муаллим. Пройдите и сядьте в кресло, вы мне пока не нужны.
– Ох-хо-хо! Да упокоит аллах прах твоего отца, давно бы сказал, а то я последние несколько минут без всяких сил стоял, чуть не падал от усталости. Кязым осторожно повертел головой, разминая шею, повздыхал и рухнул в пыльное кресло, стоявшее в углу мастерской Мурада. Мастерская с самого первого раза, как он здесь побывал, не вызывала в нем, мягко говоря, восторга; он без особого доверия отнесся к ней, не очень светлой, на краю города, с убийственно пропахшими дешевым табаком стенами, уставленной убогой, старой мебелью-рухлядью, а недоверие к мастерской порой невольно перерастало в недоверие к ее хозяину; и потому Кязым каждый раз, как его охватывало недоверие, старался утвердиться в мысли, что все идет как надо.
– Значит, – начинал он осторожно, таким тоном, будто возвращался к прерванному разговору, – как договорились: памятник будет в полный рост?
Мурад удивленно глядел на него.
– Конечно, – говорил он, пожимая плечами. – В натуральную величину, а как же иначе? Мы же договорились... Да и работа, вы сами видите, идет полным ходом.
– Да это я так, – неопределенно отмахивался Кязым и неуклюже врал: – По стариковской забывчивости. Склероз, понимаешь.
– А-а, – равнодушно кивал Мурад. – Это бывает...
Сейчас Кязым уселся в кресле и несколько минут молчал, и Мурад несколько минут работал молча. Кязым не отвлекал его, но скоро он стал тяготиться столь долгим молчанием, для начала поерзал в скрипучем кресле и спросил:
– Из мрамора, значит?
– Что? – не понял, вернее, даже не расслышал Мурад; уйдя с головой в работу, он забыл о присутствии Кязыма в углу мастерской, в кресле.
– Я говорю, из мрамора, значит?
– Что из мрамора? – откровенно досадуя, что его отрывают от работы, поморщился Мурад.
– Памятник из мрамора, значит, будет, говорю, – на этот раз более утвердительно, будто самому себе и даже как бы не имея намерения столь глупым вопросом отвлекать Мурада от важного дела, чуть дрогнувшим голосом повторил Кязым.
Мурад внимательно посмотрел на него, потом вдруг ласково, как разговаривают с ребенком, произнес:
– Конечно, из мрамора, Кязым-муаллим. Мрамор ведь вы сами и достали. С лихвой хватит этого куска, что вам привезли. Вот закончу работать на глине, потом буду переносить на мрамор. Вы не беспокойтесь, все сделаем отлично.
– Нет, нет, я не беспокоюсь, – промямлил Кязым. – Какое беспокойство может быть, если сам Мурад-бек взялся за дело! Просто интересно, вот и спрашиваю...
Когда Кязым, с трудом высидев еще минут десять в молчании, задал свой очередной риторический вопрос, Мурад отложил стеку, вытер руки мокрой тряпочкой (Кязым с готовностью поднялся, чтобы полить ему на руки из трехлитрового баллона, так как вода в это время дня во всем районе города – и не одном – не шла), тщательно смыл с рук грязь над раковиной, и они с Кязымом, объявив перерыв минут на пятнадцать, сели пить чай. Чай заваривал Кязым сам, не доверяя дурному, богемному вкусу Мурада, который, как выяснилось, был далеко не гурман и умел (что, видимо, осталось в нем со времен студенчества в Суриковском) довольствоваться малым, в том числе – пить чай позавчерашней заварки, что Кязым считал просто неприличным, да к тому же кощунством по отношению к этому прекрасному напитку. Поэтому Кязым заваривал сам, смешивая два сорта принесенного им же сюда в мастерскую чая – индийский и цейлонский, делая смесь, как он говорил, обнаруживая великолепное остроумие, "цейдийского" или "инлонского" чая. Услышав это в пятый раз, Мурад с трудом выжимал из себя улыбку ради приличия. Чаепитие было лучшими минутами для Кязыма в мастерской. Позировать он, как выяснилось, не любил, в его годы это было нелегко и как человека, всю жизнь проведшего в активном движении, быстро утомляло. А когда Мурад работал, его нельзя было отвлекать, и Кязым откровенно скучал. Чаепитие же было настоящим отдыхом, во время которого он отводил душу и когда можно было вволю наговориться. Но на этот раз инициативу взял в руки Мурад и стал спрашивать старика обо всем, что его интересовало, не смущаясь неприкрытой прямолинейности своих вопросов. Как следователь, подумал Кязым.
– Кязым-муаллим, а почему вы не поручили детям заказать вам памятник на могилу? После вашей смерти. Обычно так делается. – Мурад, отхлебывая чай из щербатого блюдечка, выкатил на Кязыма свои наивные глаза.
– Ну... Как тебе сказать? – нерешительно пробормотал Кязым, но прямо поставленный вопрос требовал такого же прямого ответа, и, кроме того, Мурад ему нравился, он симпатизировал парню, как человеку, по всей видимости, честному, добывающему хлеб своим тяжелым трудом, очень трудолюбивому, могущему по десять-двенадцать, а то и по четырнадцать часов самозабвенно работать в мастерской; и Кязыма порой даже тянуло пооткровенничать с этим молодым человеком, поделиться с ним своим богатым жизненным опытом, может, в чем-то помочь, посоветовать что-то полезное, да и просто рассказать о своей жизни, о молодости, и сейчас как раз был подходящий случай, и Кязым подумал: а почему бы и нет? И нерешительность, с которой он подступил к рассказу, еще не зная, рассказывать или нет, постепенно исчезла.
– Видишь ли, сынок, – сказал он, поглаживая своими толстыми пальцами горячий стакан с чаем, – всю жизнь я старался, чтобы семья моя ни в чем не нуждалась, да и то сказать: рыба ищет, где глубже, человек – где лучше... Хотел, чтобы у моих детей всего было в достатке, чтобы они ни в чем не знали отказа, и вроде бы добился своей цели; но тут ошибочка вышла, получился небольшой, а вернее, даже большей перегиб – дети мои выросли на всем готовом, выросли, окруженные заботой, я бы даже сказал – окруженные роскошью. Не стану долго на этом останавливаться, роскошь есть роскошь, ты прекрасно понимаешь значение этого слова. – Кязым чувствовал необъяснимое облегчение, оттого, что делится с Мурадом, открывая ему душу, и был благодарен Мураду за то, что тот внимательно слушает его. – Да... Но оказалось, что палка о двух концах, и вторым концом она угодила мне, глупцу, прямо по моей глупой голове. Клянусь честью. Конечно, я и раньше знал, что чрезмерное может испортить детей, но ведь, с другой стороны, от детей тоже многое зависит, и среди роскоши можно вырасти умными и добрыми, еще как можно! Мне не повезло. И вина моя, что я никогда ни в чем не отказывал своим детям, даже тогда, когда у них появились свои дети, и они уже давно должны были стать на ноги, как все нормальные люди... А с другой стороны, скажи мне: какой родитель станет давать своим детям мало, когда имеет много? Для кого же, как не для них, для кого же еще? Одним словом, сын стал пить... Клянчит у меня время от времени, уверяет, что бросил, а потом все спускает с друзьями. А дочь танцует под дудочку зятя, который невзлюбил меня... – Кязым потянулся пальцем с перстнем почесать переносицу. – Только вот внуки ко мне хорошо относятся...
– А за что зять невзлюбил? – спросил Мурад.
– За что? За то, что я пожелал, чтобы внуки мои выросли настоящими людьми... чтобы привыкли надеяться только на свои силы...
– Понятно, – кивнул Мурад, глубоко затягиваясь крепкой сигаретой.