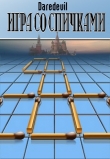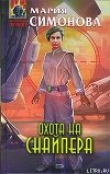Текст книги "Нонсенс"
Автор книги: Натиг Расулзаде
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Расул-заде Натиг
Нонсенс
Натиг Расул-заде
НОНСЕНС
Первый день апреля – так уж пришлось – стал для Кязыма переломным между прожитыми семьюдесятью девятью годами и оставшимся ему временем; будто от целого, роскошного, золотистого каравая, до того на вид цельного, что рука не поднялась бы разрезать его, злодейски отломили кусок и тут же, не показывая, спрятали за спину. Кусок – будущее Кязыма на земле, а судя по здоровью и энергии, спрятанный кусок должен был быть приличным, то есть имелись все основания полагать: если не случится ничего непредвиденного, то оставалось Кязыму еще немало. Тем горше было сознавать незаслуженно возникший перелом, но делать нечего – давно пора было выходить на пенсию; и Кязым, человек по природе своей жизнерадостный и быстро приспосабливающийся к самым неожиданным и стремительным событиям, не способен был долго переживать. Пора и честь знать, как говорится, подумал при этом Кязым. На семьдесят девятом году жизни, первого апреля. Однако перелом, наступивший именно первого апреля, давал повод записным острякам, знакомым Кязыма, ожидающим вокруг себя одного только подвоха и подшучиваний, услышав эту весть, поверить ей приблизительно настолько же, насколько могли они поверить вести о смерти того же Кязыма, пышущего здоровьем и долгие годы ничем не болевшего. Разве что в далекой молодости болел однажды Кязым, еще не будучи женатым, да и болезнь такая... не от слабости здоровья, а по юношеской неопытности и неосторожности. И все. С тех пор Кязым почти никогда ничем не болел. Но, надо заметить, кстати, что и за здоровьем своим он следил, не употреблял спиртного, не находя в этом никакого удовольствия, и не курил даже на фронте, не говоря уж о мирной, спокойной жизни, а удовольствие получал от избытка здоровья в своем здоровом теле. Что же касается духа в этом здоровом теле, то недостаточно нескольких слов, чтобы сказать об этом, как того предмет заслуживает.
Значит, вот так. Никто не хотел – чего? верить, чего же еще? – никто не хотел верить, что Кязым вышел на пенсию, или, будет точнее, что его наконец-то спихнули на пенсию с его теплого, насиженного, удобного места. Это удобное, а вернее, доходное место (не будем уточнять, какое именно, так как главное не это, главное – иметь хитрую голову на плечах, умение приспосабливаться к любым обстоятельствам и к любому начальству, побольше заботиться о своей выгоде и уметь ладить с тем, что у многих из людей обычно находится в эмбриональном состоянии, и это свойство называется – как вы сказали? – так и есть: совесть) приносило Кязыму неплохую прибыль, или, как он любил скромно выражаться, "обеспечивало его старость", а тем, кто более точно и конкретно интересуется суммой, периодически приплывающей – скажем так, впрочем, кто найдет более верное слово, может его вставить – в руки Кязыма, сообщим вполне точно и конкретно: очень и очень немало. Сделай, аллах, изобилие, пусть все живут в достатке, пусть у каждого будет то, что он заслужил... Да воздается каждому по заслугам, просил он у бога, заговариваясь под конец и сам понимая, что сказал глупость, но при этом не забывал суеверно дергать себя за мочку уха, шумно причмокивая губами, что означало нечто вроде: боже нас упаси, и одновременно: боже, не обращай внимания на мои слова, это шутка, клянусь честью, шутка, ты же должен понимать шутки!
Жена Кязыма давно умерла, из детей были у него сын и дочь. Итого, двое. Неудачно получилось с детьми, не повезло. Сын Салман пребывал в разводе со своей второй супругой, бывшей намного моложе его и с недавних пор вменившей себе в обязанность наряжать лоб своего благоверного невидимым для постороннего глаза ветвистым украшением в стиле сюрреализма. Впрочем, знавшие близко эту супружескую пару, не обзаведшуюся детьми за три года совместной жизни, не особенно-то и обвиняли жену, зная, как давно и безнадежно потребляет Салман, в котором, видимо, отцовская неприязнь к спиртному облеклась в обратную форму, и как много, прежде чем махнуть на него рукой, сделала бывшая жена – вторая по счету, а не первая, прошу не путать ^– для его излечения. Ничего не вышло. Это что касается сына. Хотя еще небольшой штришок: был у Салмана сын от первого брака, уже взрослый, женатый и махнувший рукой на папашу, спокойно проживающий в городе Риге, столице Латвийской ССР. Что называется, отрезанный ломоть. Но судя по тому, что сын Салмана поддерживал самые тесные отношения со своей матерью, оставшейся в Баку, помогая ей материально и морально, отрезанным ломтем скорее всего можно было бы назвать самого Салмана. Да и Кязым часто и, надо сказать, без всякой видимой нужды помогал первой жене сына и внуку, стараясь, чтобы они ни в чем не нуждались. Что они и делали весьма охотно. Значит, это пока все, что касается Салмана.
С дочерью тоже неувязочка вышла. Муж ее, после одного, в общем-то, довольно пустякового случая, близко к сердцу приняв этот самый случай, ожесточился против тестя, в свое время отвалившего за дочерью солидное приданое – что было успешно забыто зятем, – и стал помаленьку да потихоньку, постепенно да планомерно настраивать жену против ее собственного папеньки, что ему вполне и удалось в сжатые сроки и, можно сказать, с перевыполнением поставленной перед собой задачи: мало того, что дочь была настроена против отца, она и детям, то есть внукам Кязыма, старалась привить неприязнь к деду. Просто Кязым вполне резонно считал, что сорокадвухлетней дочери и сорокасемилетнему зятю уже давно приспела пора жить своим умом, быть самостоятельными и не надеяться на папеньку, ну, хотя бы потому, что сами они уже больше двадцати лет являются папенькой и маменькой. Но мысли старого Кязыма не совпадали с мыслями дочери, зятя, сына и прочих, вследствие чего и возникали разногласия и конфликты. Все они: и дочь, и сын, и зять, и невестки – первая и вторая – и даже не совсем близкие родственники хотели надеяться на то, что вскорости старость и преклонные годы возьмут свое, что природа и в данном конкретном случае не изменит своим законам, благодаря которым старое не молодеет, а, напротив, дряхлеет и умирает, и, отойдя в лучший мир, добрый раб божий не забудет их и что-нибудь оставит. Короче говоря, люди, состоявшие в близких родственных отношениях с Кязымом, желали ему – из добрых побуждений, видимо, – чтобы он поскорее отошел в лучший мир. И всех их очень удручал цветущий вид Кязыма, и некоторые усматривали в упорном нежелании старика болеть и умирать какое-то патологическое упрямство, видимо, и придававшее ему силы жить. Хотя всей остальной части человечества, не претендовавшей на наследство Кязыма, он казался вполне обычным, несколько чуть более энергичным для своих лет, не утратившим вкуса к жизни стариком. Ни больше, ни меньше. Когда же до сына, дочери и иже с ними вдруг дошел слух, что отец в свои почти восемьдесят лет надумал жениться, они пришли в неописуемый ужас. Тут же были призваны лучшие силы из родственных резервов и брошены в бой. Молодая, которая и в самом деле оказалась если уж не первой молодости, то, во всяком случае, по сравнению со стариком совершенной девчонкой – лет сорока – сорока двух, была успешно выслежена и опутана сетями коварства. Впрочем, сети оказались для нее скорее паутиной воздушной, непрочной. Она же была далеко не мухой. Она невозмутимо выслушала рассказ о странностях и чудачествах старика, чтобы не сказать больше, о его старой, можно сказать, неприличной болезни и еще о многом, а выслушав, сообщила, что у нее есть законный супруг и ни за кого больше выходить нет решительно никакого желания. Тут родственники ненадолго воспряли духом.
Впрочем, перелом в трудовой жизни (имеется в виду выход на пенсию) не очень-то болезненно отразился на психике Кязыма. Старость свою он обеспечил (мало того, злые языки утверждали, что он мог бы содержать небольшой дом призрения для престарелых где-нибудь на окраине Баку; однако не будем относиться к слухам более серьезно, чем они того заслуживают) и теперь только взял себе в привычку вместо работы ходить ежедневно на приморский бульвар. Там, среди стариков, таких же пенсионеров, как он сам (таких же, да не совсем, сами понимаете), заядлых доминошников и нардистов, он крепко ввел в обычай любую партию играть на интерес, хотя бы по копеечной ставке, но непременно на интерес, чтобы игра сделалась острее. Скоро это ему прискучило. Энергия искала выхода. И так как теперь он часто проводил свое время на бульваре, то, не мешкая, нашел нужных людей и поделился с ними своими планами возможной очистки моря от нефти со стороны одного участка бульвара и организации на этом небольшом участке прекрасно оборудованного пляжа, который – вот увидите – с лихвой оправдает себя в первый же сезон, и людям будет удобнее, отпадет необходимость тащиться на ближайший, не очень хороший пляж в десяти километрах от бульвара, ездить в переполненном автобусе, где тебя так стискивает толпа, будто задалась целью к концу поездки сделать на четыре размера меньше. Лично я никогда не ездил в автобусах, счел нужным прибавить Кязым, но надо же о людях подумать. Выслушали, качнули головой, усмехнулись. Подумали: фантазер. Старик еще много чего придумывал, полностью теперь предоставленный самому себе, как ребенок, которого наконец-то оставили одного дома с кисточкой, красками и девственно-чистыми стенами. Но все его идеи оказывались на уровне, как бы тут помягче выразиться? – прожектов. Скучновато становилось на пенсии. Надо было срочно что-то придумать.
– А-а, здравствуй, Кязым, давно тебя не видел. Ну, как поживаешь? Какие-то глупцы поговаривали, будто на пенсию ты вышел, да я не поверил клевете. Выглядишь ты великолепно, огурчик, просто огурчик!
– Здравствуй, Мамедгусейн, здравствуй, дорогой... Насчет пенсии верно ты слышал, вышел я на пенсию, а что же? – пора и честь знать... Скоро девятый десяток разменивать буду, куда ж столько горбатиться! Стариться, скажу тебе, тоже уметь надо. Не теряя человеческого достоинства. Не хочу уподобляться некоторым начальникам, которые так держатся за свое кресло, что вынести из кабинета их можно только вперед ногами... Ха-ха-ха!
– Ха-ха-ха-ха! – подхватывает Мамедгусейн. – Это верно, есть такие, это ты точно заметил, – говорит он, а сам думает: "Вот ты и есть такой, которого надо было вперед ногами вынести..."
– А на здоровье я не жалуюсь, слава богу, тьфу-тьфу от дурного глаза... Да и ты смотришься бодрячком, клянусь честью, на молодого петушка похож, почеши ягодицу от сглаза, – говорит Кязым, широко, дружелюбно улыбаясь, а сам думает: "Да уж, тебя сглазить, не найдется такого дурного глаза, который мог бы пробиться сквозь твою бегемотовую шкуру, черт бы тебя побрал, когда ты мне встретился, настроение теперь на весь день испортится... Вот, уже что-то в груди закололо, ох! Чтоб тебя!"
– Да чего там, скажешь тоже, на петушка, восьмой десяток пошел на прошлой неделе...
– А, поздравляю! Дай бог тебе еще столько прожить, дай бог счастья (чтобы не дожить тебе до следующего твоего дня .рождения!).
– Спасибо, дорогой, спасибо... Ты вот гораздо старше меня, а выглядишь как мой ровесник, даже моложе выглядишь. Ну, теперь начнется у тебя райская жизнь. Хорошо быть на пенсии, ни забот, ни хлопот, а у меня ежедневная нервотрепка... Хотя и у тебя, даже на пенсии, я думаю, забот хватает (чтобы тебе захлебнуться в этих заботах!).
– Ох, не говори, еще как хватает... Клянусь честью.
– Слышал, сын твой опять недолечился, пьет сильно. И развелся, говорят. Это, конечно, ничего, это сейчас модно стало разводиться. А вот пьет – это очень плохо... Я все Агарзу вспоминаю, как он пил, господи, как пил! Белая горячка была у него, ты знаешь? От водки и скончался, да успокоит аллах его грешную душу, хороший был человек, вот уж точно – сгорел от водки. Пил страшно. А твой сын тоже вроде не просыхает, как говорится, в бочку с головой ныряет. Да всегда так, хорошие люди помирают, плохие остаются, да простит мне аллах, что лезу в его дела...
– Ты что моего сына в покойники записал?? Он еще нас с тобой переживет, говорит Кязым, нервно почесывая переносицу массивным золотым перстнем на безымянном пальце.
– При чем тут твой сын, это я Агарзу вспомнил... А то, что переживет, дай ему бог, так и должно быть, дети должны хоронить родителей, а не наоборот. Ну а как твоя дочь? Вроде бы не ладят они с тобой, вроде бы внуков к тебе не пускают? Что же они так?
– Ничего, сами разберемся.
– Конечно, разберетесь. Главное, Кязым, – здоровье, ты следи за своим здоровьем, остальное пустяки. В твоем возрасте, даже при отменном, как у тебя, здоровье нельзя волноваться, несчастье, не дай тебе аллах, случается один раз, когда случится, уже поздно будет пенять, береги себя. Не то знаешь, как бывает? Вот был у меня один знакомый, всю жизнь был крепкий как железо, ничем не болел до самого преклонного возраста, и вдруг – обнаружили у него рак... Говорят, нервничал, постепенно нажил. Умер, бедняга. Но это я так, к слову, ты не забирай себе в голову. Только не нервничай, а неприятности с родными – так это ведь временно, ничего на этом свете нет вечного. Ну ладно, заговорился я с тобой, увидел тебя, так обрадовался, давно не виделись, дай, думаю, вволю поговорим, а тут время поджимает... Вам, пенсионерам, что – гуляй с утра до вечера, забот не знай, а мне на работу. Еще увидимся, – говорит Мамедгусейн, энергично пожимая вялую, ускользающую руку Кязыма, с удовольствием отмечая про себя этот факт и думая: "Чтоб я тебя больше никогда не встречал в добром здравии, чтобы в следующий раз увидеть мне тебя лежащим в гробу, поскорее бы мне на твоих поминальных четвергах бозбаш кушать! Чтоб ты сдох!"
– Я тоже очень рад был тебя видеть, – как-то сонно говорит Кязым. Передавай приветы дома... Всего тебе хорошего... – "Иди, сукин сын, чтоб тебе ноги обломать по дороге и не дойти до твоей лакейской работы! Всю жизнь был лизоблюдом и лакеем, лизоблюдом и подохнешь".
– Будь здоров!
– Будь здоров!
И старики пошли каждый своей дорогой. Кязым с вконец испорченным настроением, проклиная Мамедгусейна и не зная теперь куда себя деть, а Мамедгусейн, напротив, с приподнятым настроением оттого, что сумел испортить его своему давнему недругу, и, бодро вышагивая, давал себе слово как можно чаще видеться с Кязымом и по мере сил портить ему кровь и укорачивать жизнь...
Как порой успокаивает нас случайный разговор с незнакомым человеком, ничего о нас не знающим и воспринимающим нас добродушно-спокойно, такими, какими кажемся мы ему с первого взгляда. Шофер такси, попутчик в купе поезда, пассажир, сидящий рядом в салоне самолета, иногда, кажется, лучше понимают и за короткое время общения глубже проникаются нашими заботами и тревогами, чем знакомые, приятели и даже родные, которым неприятности наши и, наверное, мы сами давным-давно надоели.
Кязым сидел на скамейке в одной из тенистых аллей бульвара и тихо беседовал с благообразным на вид старичком, читавшим до знакомства с Кязымом "Медицинскую га-" зету". Старичок при ближайшем знакомстве оказался профессором, доктором медицинских наук, теперь, последние два года, так же, как и Кязым, на пенсии, но не оставляющим научной деятельности и писавшим научно-популярные статьи в медицинские издания. Он так мило, непринужденно и ненавязчиво беседовал с Кязымом, перескакивая с одной темы на другую, поглядывая на Кязыма своими умными маленькими глазками, почти прикрытыми мохнатыми балкончиками бровей, выказывал природную сметливость и опыт в любой, самой далекой от медицины теме, что Кязым постепенно проникся к~ профессору большой симпатией и доверием и чувствовал себя в его обществе так, будто по крайней мере полжизни знает его и пользуется его дружбой. И вот уже, разоткровенничавшись, Кязым, забыв обычную осторожность, делится с профессором самым наболевшим, самым, казалось бы, личным, чего с ним очень давно не было в силу природной хитрости и нажитой осторожности, а профессор внимательно и участливо слушает, и глаза его становятся все грустнее, и лицо – все озабоченнее.
– Поверишь ли, – говорил Кязым, горестно качая головой, давая понять, что то, что он сейчас скажет, очень печально и он ждет от собеседника, что тот разделит с ним его печаль. – Поверишь ли, всю жизнь только и думал, что горбатился из-за этих проклятых денег, всеми правдами и неправдами зарабатывал, даже более или менее путной профессии ,не приобрел, клянусь честью... но всю жизнь, надо сказать, был на хороших должностях, хватка у меня есть, что правда, то правда, – внезапно вырвалось у Кязыма самодовольное бахвальство, но тотчас же он послушно вошел в прежнюю колею, как лошадь, с глаз которой на минуту сняли шоры, и она вдруг обнаружила, что мир гораздо шире, чем та узкая дорожка, по которой она везет фаэтон, и взбрыкнула, воли ей захотелось, но тут же ей снова надели шоры на глаза. – Ну что мне в деньгах, если жизни моей жене они не в силах были продлить, а детей моих смолоду я ими только испортил, постепенно настроил против себя, и теперь все только ждут не дождутся, когда я умру, думают, много у меня этих вонючих денег... Эх! Теперь ты понимаешь, как впустую потрачена моя жизнь, моя единственная жизнь, такая долгая, что, несмотря на крепкое здоровье, иногда мне кажется: зажился я на свете, пора и честь знать. Ты понимаешь?
В силу простого своего воспитания Кязым почти сразу же после знакомства перешел с профессором на "ты", и в силу своей интеллигентности профессор не стал осаживать его, подумав: "К чему? Ведь это гораздо естественней, чем если бы мы обращались друг к другу на "вы"; мы же оба старики, а что такое старики, как не те же дети, и разве не противоестественно, если вдруг два пятилетних мальчугана, познакомившись, станут называть друг друга на "вы"?" И профессор продолжал внимательно и сердечно слушать про все беды, которые Кязым вываливал из своей жизни перед ним, как орехи из мешка.
– И теперь я остался совсем один... – продолжал Кязым, где-то в глубине души мимолетно удивляясь, что вот он, Кязым, который, можно сказать, за всю свою сознательную жизнь ни с кем так не откровенничал, вдруг ни с того, ни с сего делится с этим незнакомым человеком самым наболевшим, сокровенным, но это удивление исчезло так же стремительно, как и появилось, не успев пустить корни в сознании Кязыма, и, по правде говоря, было неприятно ему, потому что приятно было говорить, выговариваться и выворачивать свою душу наизнанку перед незнакомым человеком – случайным собеседником, и он продолжал говорить, с удовольствием, однако сознавая, что, может, больше никогда не свидится с профессором и ему никогда не станет стыдно за свои неожиданные излияния. Остался один, – повторил Кязым. – Детей у меня все равно что нет, прости мне аллах... Я уже говорил тебе, им не я нужен, не отец, а деньги. Жены, которая одна была мне ближе всех на свете, тоже нет. Один я, и, умри я сегодня в своей квартире, не сразу даже хватятся, потому что не чаще чем раз в неделю приходит ко мне домработница прибирать в квартире. А больше никто почти и не заходит... Изредка только внуки зайдут, дать знать, что не забыли еще о своем старом дедушке. Вот она, моя жизнь... клянусь честью... – Кязым тяжело вздохнул, глянул в лицо профессора, заметил его неподдельно заинтересованный взгляд и стал рассказывать даже о своих недоброжелателях, которых нажил за долгую и неправедную жизнь, о Мамедгусейне, о частых, к сожалению, встречах с ним, после чего он долго не может восстановить обычное свое душевное равновесие. Все было, говорил Кязым, качая головой, печально усмехаясь, и анонимки писали друг на друга в вышестоящие инстанции, и угрожали друг другу, иной раз доходило и до кулачной расправы, и, конечно же, во многих случаях он, Кязым, бывал не прав, да и как тут все время оставаться правым – жизнь очень уж разнообразна, люди, окружающие тебя, разные, да и сам человек очень непостоянен, тоже меняется человек, одним словом, все было, много гадостей было в жизни, но ведь с тех пор столько лет прошло, пора бы и забыть все это гадкое, оставить его в прошлом, не ворошить, так нет же, не забывают, а Мамедгусейн, тот вообще озверел: вот уже несколько месяцев чуть ли не преследует его, вроде бы случайно встречаясь, покою не дает. Да, злопамятен человек, цепкая у него память на зло, ничего не поделаешь... Да что с других спрашивать, если родные такие же?
Кязым опять глубоко вздохнул. Помолчали.
– Если вы ждете от меня какого-то конкретного совета на этот случай, заговорил профессор, выждав паузу: не последует ли еще что-нибудь со стороны Кязыма? – и только убедившись, что Кязым выговорился и ждет теперь, чтобы, и собеседник его подал голос, произнес первую фразу: – ...То могу вам совершенно определенно сказать, что в делах житейских, несмотря на свой возраст, как это ни покажется вам странным, я абсолютный профан. Всю жизнь я занимался наукой .и только недавно стал понимать, как мало сделал, хотя лет двадцать – двадцать пять назад мне казалось, что я многого достиг... Всю жизнь я посвятил науке, а дома, в семье, все, слава богу, шло своим, чередом, дети рождались на свет, болели, вырастали, женились, становились самостоятельными, сами рожали детей, моих внуков, и те вырастали, в свою очередь... Все как-то проходило мимо меня, хотя я и ласкал детей, переживал, когда они болели, огорчался, когда совершали ошибки, радовался их удачам, но все это было как-то... ну, как вам сказать? не по-настоящему, что ли? Поверхностно, не полнокровно, как во сне, когда спишь и знаешь, что все тебе снится, и это не главное, сон скоро кончится, и начнется утро и настоящая жизнь. Все чувства и мысли отнимала у меня наука, одна лишь наука... Я был твердо уверен – да что был, я и сейчас убежден, – что человек приходит на свет, чтобы оставить по себе память, чтобы след оставить. Дети детьми, это прекрасно, это самой природой вменено нам в обязанность, но ведь и у зверей – детеныши, а у человека еще должен быть след от труда, от того, что сделано им его руками, мозгом, фантазией, чтобы он не угас бесследно... Будут ли люди помнить тебя? И как сделать, чтобы помнили? Понимаете, эти вопросы меня страшно волновали и беспокоили всю мою жизнь, особенно в молодые годы. Позже я понял, что все это суета, рожденная честолюбием, и просто на земле нужно на каждом шагу делать добро своему ближнему. Вот для чего человек...
– Будут ли люди помнить? – повторил Кязым, задумчиво глядя перед собой. Как сделать, чтобы помнили? Чтобы помнили после смерти... – сказал он, видимо глубоко проникнувшись этой мыслью профессора и вовсе не обратив внимания на его последующие, показавшиеся заумными слова насчет суеты и тщеславия, вернее, даже не расслышав их как следует, последние слова скользнули по краешку сознания Кязыма, уже занятого более понравившимся ему высказыванием. – Будут ли помнить, вот что главное... – повторил он еще раз и убежденно добавил: Да, клянусь честью, ты прав, дорогой, я совершенно с тобой согласен. Это главное – оставить память о себе...
Профессор, задумавшись о чем-то своем, рассеянно покачал головой, улыбаясь своим мыслям, и, судя по его доброй, ласковой улыбке, мысли эти были о медицине.
Они еще немного поговорили и разошлись, так и не удосужившись познакомиться. Разошлись, вполне довольные собой, своим собеседником и их случайной, весьма теплой беседой.
Несколько дней после этого разговора Кязым ходил переполненный мыслями, о чем-то сосредоточенно, озабоченно думая. Звонил Салман, просил денег.
– Ну, допустим, дам я тебе сотню или две, – сказал ему Кязым, чувствуя неодолимое отвращение к подобному разговору, – ты же все равно их пропьешь, как два рубля, и снова начнешь просить, придумывать, клянчить... Самому не противно?
– Бросил я пить, бросил, – в сердцах ответил Салман, – не для этого мне нужны деньги.
– Ты мне уже раз двадцать говорил то же самое, а стоило дать денег начинал снова.
– Нет, отец, клянусь тебе, на этот раз.,.
– Грош цена твоей пьяной клятве, – прервал его, не повышая голоса, Кязым. – Лечиться тебе надо, лечиться. Лечись, станешь нормальным человеком. Зачем ты себе жизнь укорачиваешь? – И Кязым бросил трубку.
Необычные мысли смущали в последние дни его душу. Слова профессора на бульваре разбередили сердце, заставили задуматься. И в самом деле, думал Кязым, умру, что останется после меня? Память на жалкое время поминок – сорок дней? А дальше что? Нет, нет, прав профессор, тысячу раз прав, нужно оставить после себя что-нибудь на свете... С детьми все ясно – такие дети не то что хвалить после смерти, дай бог, чтобы не поносили на людях. Нужно такую память оставить после себя, чтобы все глядели и вспоминали, что жил на свете такой грешный человек Самедов Кязым Алигулу оглы, рожденный достойной женщиной, мир праху ее, в селении Новханы в одна тысяча девятьсот первом году, от не менее благородного мужа, да упокоит аллах его душу. Но что же, что? Правда, сейчас вроде я не собираюсь умирать, думал Кязым, но о таких вещах следует позаботиться заранее, на смертном одре не успеешь, клянусь честью...
Прошло несколько недель, в течение которых Кязым продолжал терзаться непривычными по своей возвышенности и непрактичности мыслями, когда неожиданно к нему явились вечером дочь с внуками. Это было тем более неожиданно, что дочь с зятем вот уже четыре года как прервали с Кязымом родственные отношения, прекратили визиты, и последние четыре года Кязым только невзначай встречает на улице то дочь, то внуков (которые, кстати, изредка и тайно все же заходили к дедушке) и никогда почти зятя, так как зять на работу и домой с работы ездил обычно на метро, а Кязым в метро не спускался с тех пор (когда, только что запустили в Баку метро, Кязым ради интереса проехал на поезде несколько станций и, что часто бывает в Бакинском метро, поезд вдруг остановился между двумя станциями, где и проторчал успешно минут пять, в течение которых Кязым казался себе подопытным кроликом в клетке), как обнаружилось, что под землей у него постоянно появляется ощущение нехватки воздуха, что он задыхается, и, кроме того, у Кязыма постоянно были машины, он был заядлым водителем и только за последние лет пятнадцать ухитрился поменять семь машин, каждый раз стараясь купить более усовершенствованную модель и не останавливаясь на достигнутом. Сейчас у него была новенькая "Волга" ГАЗ-24. Так что необходимости лезть в метро и дышать в толпе спертым воздухом у него не имелось. Одним словом, зятя он в эти четыре с лишним года не встречал ни разу, и, честно говоря, не испытывал особой нужды в этом, и постепенно стал даже забывать, как тот выглядит, вернее, выглядел четыре года назад, но по дочери он откровенно скучал. Скучал он и по внукам, редко, во всяком случае, реже, чем ему хотелось бы, навещавшим его; вот сейчас, например, он видел их последний раз месяца два назад, а ведь как он нянчился с ними, когда они были малышами, ни в чем им не отказывал в детстве! Но теперь, зная, что все необходимое у них есть, да еще с лихвой, и имея перед глазами пример испорченного деньгами и безотказностью сына, Кязым старался уже с юных лет внуков не очень потакать им. И когда четыре года назад зять с дочерью попросили у него денег, чтобы сделать подарки кое-каким нужным людям, чтобы те помогли устроить старшего в институт, Кязым наотрез отказал, зная, куда это может повести. Не портите мальчишку, сказал он тогда дочери, пусть приучается надеяться только на свои силы, на свою голову, пусть сам поступает и сам учится, без всяких подарков "нужным людям", а кто за подарки поступает, обычно все пять лет за подарки и учится, тянут его за уши с курса на курс, так что не калечьте своего ребенка, дайте ему стать человеком, и не ищите непорядочных людей, чтобы совать им деньги и подарки, непорядочным ничего не стоит и самих вас обмануть, на то они и непорядочные, не ищите вы их, порядочных гораздо больше... Кто бы говорил, ответил ему тогда сильно рассерженный отказом зять (до того сильно рассерженный, что забыл, с кем разговаривал, забыл, что Кязыму даже слов не надо, одним взглядом заставлял людей замолкнуть), кто бы говорил, продолжал, все больше закипая, зять, сам он как будто ангел, как будто сам всю жизнь прожил честно, о порядочности заговорил... Я – другое дело, не повышая голоса, ответил Кязым, у меня с самого начала все шиворот-навыворот пошло в жизни, я даже ремесла какого-нибудь не нажил себе, просто я привык трудиться, но труд никогда не был в радость мне, потому что не было у меня в жизни любимого дела, и это очень страшно, поверьте мне, и я не хочу, чтобы мои внуки стали на меня похожи, пусть у них будет в жизни любимое дело, которым и станут добывать они кусок хлеба в поте лица, но зато пусть испытают они радость от своего дела... В общем, уперся старик и денег не дал. На этой почве и повздорили, потом дальше – больше: рассорились, ходить друг к другу перестали. Но и старший, и младший внуки Кязыма поступили в институт и сейчас неплохо, без всякой посторонней помощи и поддержки учатся. Кязым был рад, что получилось так, как он хотел. На хорошее дело почему не дать? – думал Кязым, попроси он у меня втрое больше, чтобы, скажем, старшего женить или купить новую мебель, разве б я отказал? Но зять с тех пор вдруг сделался гордым и перестал признавать Кязыма, считая, что старик его обидел. Кто знает, а вдруг бы не поступил сын, что тогда, поди разберись с этими конкурсами в институтах, и разве плохо, когда есть какая-никакая гарантия. У-у, старый жмот! Короче говоря, уже больше четырех лет ни дочь, ни зять не обращались к Кязыму за помощью, разумеется, материальной, что десятки раз они делали до размолвки. И вот теперь пришла вдруг дочь, да еще с внуками. Конечно, Кязым был рад, но когда открыл дверь и увидел на пороге трех родных людей, постарался не очень-то выглядеть счастливым и по привычке даже немного насторожился.
– Может, ты нас пригласишь все-таки, а, папа? – сказала дочь растерянно стоявшему на пороге отцу.
– А? Да, да, проходите... конечно... – пробормотал Кязым, посторонившись и пропуская дочь и внуков, которые, войдя, почти одновременно подмигнули деду, несмотря на явный запрет не фамильярничать, ясно написанный на мрачно насупившемся лице дочери.
Они все вчетвером прошли в прекрасно обставленную гостиную с голубым ворсистым ковром во весь пол и мягкими покойными креслами в углу, возле камина. Внуки упали в эти кресла и вытянули ноги к камину. С их одинаковых полусапожек стекли на каминную решетку несколько грязных капель, и Кязыма, привыкшего к чистоте, вдруг, на короткий миг, пронзило неприятное чувство. Он усилием воли заставил себя не смотреть на обувь внуков, которую следовало бы оставить в передней, надев шлепанцы для гостей.