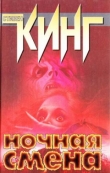Текст книги "Жребий праведных грешниц. Наследники"
Автор книги: Наталья Нестерова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– На свою стипендию бросай, – повернулась, пошла к дому Марфа.
– Мам, мам! – семенил за ней Степка. – Так нечестно! Хоть червонец!
После ужина долго не расходились, не хотелось трогаться с места. Светлая питерская ночь, мягкие тени, мошки кружатся у большой керосиновой лампы, стоящей в центре стола. Светятся окна веранды, а в доме темнота – там спят набегавшиеся за день дети. Запах сгоревшего керосина почти не портит аромат леса и моря. Легкий веселый хмель слегка кружит голову. Хмель от вина или от воздуха? Кажется, что ты находишься в точке высшей благости, мира спокойствия. Ты долго сюда шел, много работал, уставал, ошибался, падал, поднимался и снова шел. И того стоило: оказаться среди родных и близких, вести неторопливую беседу, чувствовать, что все, как и ты, дышат не полной грудью, а втягивают в себя воздух, как пьют сладостный нектар. И никому не хочется спорить, доказывать свою правоту, ломать копья. Хочется говорить о легком и приятном, о высоком и тоже приятном, верить в невозможное: будто эти мгновения не точка на пути, остановка, пересадка, а конечная станция, до которой ты долго добирался, вход в другую жизнь. И дальше: завтра, когда уедешь с дачи, – эта новая жизнь продолжится. Не будет проблем, конфликтов, борьбы честолюбий, злого отчаяния, дурного настроения, усталости от бесполезной суеты. А будут исключительно победы, которые разделят с тобой небесно-прекрасные люди.
«Хорошо у тебя, благодать! Везет вам», – говорят Митяю гости. Словно забыли, какими трудами и нервами достается ему строительство, будто он только и отдыхает под соснами за бутылкой маминой наливки. Если забыли, значит, он все делает правильно. Зачем еще дача, если не ради подобных моментов? В городе так не посидишь.
Митяй кивает и улыбается, глядя, как мама в который раз пытается растолкать давно задремавшего Камышина, отвести в дом. Александр Павлович, не открывая глаз, сопротивляется, брыкается.
– Оставь его, – говорит маме Митяй.
Настя принесла плед и укрыла отца, который даже во сне не хотел расставаться с компанией и покидать атмосферу семейной теплоты.
– Не трогай, – поддерживая брата, шепчет Степка. – У меня идея!
Марфа к идеям младшего сына относится настороженно. Но что плохого в том, что четверо молодых мужчин в конце вечера аккуратно берут кресло, в котором спит Камышин, относят в дом, перекладывают мужа на кровать?
Наутро Александр Павлович отзывает Степку и смущенно спрашивает:
– Я вчера как? Не перебрал? Не помню, как в постели очутился.
– Все было прилично, – заверяет Степка и при этом отводит взгляд в сторону.
– Говори! – требует Камышин. – Это все твоя мать! Нормальные женщины наливки на водке настаивают, а она на спирте! Завела в аптеке знакомство.
– Вы не беспокойтесь! Вам простительно. В шалостях патриарха, знаете ли, есть своя изюминка… много изюминок.
– Говори как на духу! – требует Камышин, приготовившийся к самому худшему, хотя в чем это худшее может заключаться – не представляет.
– Не переживайте, умоляю! – заклинает Степка, по-дамски прижав руки к груди. – Но, возможно, в следующий раз – повторы портят драматический эффект – будет излишним…
– Степка!
– Не стоит щипать женщин за выпуклости их молодых тел и требовать, чтобы они, женщины, сплясали на столе канкан, как бывало во времена вашей молодости. Между нами! Клара была не против. Марьяна забилась в шоке. Их мужья так скрипели зубами, что с елок сыпались иголки.
Камышин обмирает, таращит глаза, шепчет:
– У нас не елки, сосны.
Потом до него доходит абсурд Степкиных речей. Не случалось купеческой блажи в молодости, а уж в старческих фантазиях и подавно. Последнее, что Камышин помнит из вчерашнего вечера, рассказ Егора о том, как из-за погодных условий самолет не доставил дизель на полярную станцию, пришлось снижать температуру в жилых помещениях до плюс пяти. Какие уж тут щепки, канкан и сотрясание деревьев!
Александр Павлович хватает одной рукой Степку за шею, кулак другой руки подносит к его носу:
– Я тебя не порол в детстве. Сейчас сожалею. Надо наверстать!
У старика немалая сила, и Степка орет вполне натурально:
– Спасите! Мама!
Марфа прибежала, бросив раскатывать тесто, руками в муке на них замахала, окутала белым облаком:
– Ды что тут! Сдурели! Сейчас Митяя позову!
Камышин отпустил сына с победным выражением лица. Но Марфу спросил с капризным брюзжанием:
– Где валидол? Вечно ты его прячешь!
– Вот же, вот же, – достала Марфа цилиндрик из кармана фартука. – При себе держу. Опять сердце схватило? – принялась лихорадочно вытрясать из металлической трубочки таблетку. – Под язык. Возьмите, Александр Павлович!
– Не мне! – гордо вскинул голову Камышин. – Этому! Режиссэру!
Когда Настя шепнула Марфе на ухо: «Митя стал писа́ть!» – она испугалась. Кому писать? Прокурору? Из-за бетонных блоков и кирпича, что пошли на фундамент? По ее прихоти иметь подвал? Ох, накликала мать беду на голову сыну!
Оказалось – писать картины.
Странные это были картины, нереалистичные и очень тревожные. Краски цветным водоворотом, в котором угадывается каска фашистская, пол-лица с искореженным в крике ртом, ствол пушки, детская нога в ботиночке и два других пол-лица: усики под носом Гитлера и усищи Сталина. Или другая картина: вроде как железнодорожная станция зимой, теплушки, паровозы, орудия на платформах, и тут же голые, страшно исхудалые люди стоят под рожками душа, из которых льется вода, теплая, с легким парком. Из концлагеря, что ли, людей выгрузили? Картины Митяя, с точки зрения Марфы, жутковатые, но при этом сам он бодр, улыбчив, спиртного в рот не берет и приступов давно не было.
Настя устроила на даче вернисаж – завесила стену картинами мужа и пригласила родных. Специально выбрала момент, когда почти вся родня собралась на даче.
– Если кто-то заявит, что полотна не гениальны, – сказала Настя, – то он профан и враг мой на всю оставшуюся жизнь!
Митяй посмеивался, мол, все это безделица. Но все-таки посмеивался не так, как когда хвалили его афиши и агитационную халтуру, не с раздражением, а с глубоко запрятанным волнением.
– Согласен! Талантливо! – первым подал голос Степка. – Современное искусство должно бить током, электричеством прямо в мозг.
– В мозгу есть разные участки, – подал голос Василий. – Насколько я понимаю, мы видим перед собой живописные произведения, которыми принято украшать стены в жилище. Мне совершенно не улыбается проснуться и получить удар током со стены в спальне, поглощать борщ за обедом опять-таки под током.
– Тогда завесь свои стены лебедями, – посоветовал Степка, – пошлыми натюрмортами или, точно цыганский барон, – коврами.
– А разве сейчас ковры только у цыган? – насторожилась Клара.
– Не переживай, – ответила Нюраня, – у татар и персов тоже все стены коврами завешены. А русские почему-то по ним ходят.
Клара бросила на мать злобный взгляд. Нюраня, по мнению Марфы, сама часто провоцировала дочь на грубость.
– Война… – проговорил Илья.
– Она… такая? – продолжил его вопрос Эдик.
– Может, так и надо про нее, – сказал Егорка, – электричеством в сердце или в мозг. Я сейчас вспомнил… даже не верится, что все это было.
Про страшную Войну было уже написано много прекрасных задушевных песен, великолепных книг, снято пронзительных кинофильмов. Камышин, Марфа, Нюраня сердцем отзывались на это советское искусство. А картины Митяя…
«Как кишки наружу», – подумала Нюраня, но вслух ничего не сказала.
– Хорошо, – не унимался Василий, – мы видим перед собой картины, по мнению некоторых предвзятых критиков, то бишь жены и родного брата, гениальных. Если бы я полдня не бетонировал выгребную яму, в качестве арматуры используя всякую собранную на помойке дрянь в виде кочерег, сковородок и, не побоюсь этого слова, панцирных сеток, то я… возможно!.. и сказал бы, что в этих картинах есть оголенный нерв. Но давайте спросим, какова дальнейшая судьба этих полотен. Их можно отдать на выставку, продать? Ответ отрицательный!
Они, Митяй и Васятка, соревновались с младенчества, как только стали ползать в манежике, построенном Еремеем Николаевичем. Тогда у Васятки еще был брат-близнец Иванушка. Два против одного. Дмитрий был и остался Митяем. Назвать очкастого доктора физических наук Васяткой никому не приходило в голову – Василий, никак иначе. Митяй побеждал всегда. Потому что был сильнее, ловчее и спасал брата в их сибирском детстве, в лесу и на Иртыше, не раз. И когда выросли, возмужали, Митяй не соперничал, как будто, улыбаясь, разводил руками: «Давай пробуй, если очень хочется!» Василий – едва не единственная его слабость – пытался Митяя пихнуть, уесть, щипнуть – осилить.
Ни для кого не было секретом, что двоюродные братья – Митяй и Василий – друг к другу ближе, чем к родным братьям – Егору и Степану.
– «Моим стихам, написанным так рано… настанет свой черед», – вдруг процитировала Марьяна. – Это Марина Цветаева.
– О Цветаевой слышали три человека, – продолжал иезуитствовать Василий, – а с ее творчеством знакомы полтора человека, ты в их числе.
– Настанет? – эхом переспросила Настя, глядя на подругу, пропустив мимо ушей вредничанье Васи.
– Обязательно! – сказала Марьяна. – И поэзии Цветаевой, и этим картинам. То, что создано редким талантом, что отрывает тебя от земли, что превращает тебя из жующего котлеты обывателя, из корпящего над уравнениями фанатика, – легкий взмах руки в сторону Васи, – в существо, которому подвластны головокружительные, одновременно пронзительные чувства… это не может умереть! Это обязательно…
– Дарю! – неожиданно расхохотался Митяй и стал снимать картины. – Повесишь изображением к стене, – протянул Васе полотно. – Брат Степка – держи!
Марфа, всегда четко реагировавшая даже на дыхание Насти, которую воспитывала с малолетства, услышала всхлип, повернула голову: в глазах у Насти… жадность неприкрытая! Словно из дома выносят самое дорогое, золото-серебро. Настя никогда не тряслась над драгоценностями. А тут совершенно неприличная жадность! Значит, хвалила картины не потому, что бросивший пить муж нашел занятие, а потому, что видит в них что-то особое.
– Митяй! – протянула руку Нюраня. – Мне, если не возражаешь, вот эту. Поле и конь. Хотя тогда были зеленя, поле не колосилось…
– Этот конь, Орлик, – повернулся к родителям Эдик, – он бабушке жизнь спас.
Митяй вручал тете Нюране картину, единственную светлую, в золотистых тонах волн колосков на поле, намеченных штрихами.
Клара суетилась. Какой конь, зеленя? Раздают бесплатно, надо хватать, не достанется.
Виталий все время молчал и смотрел только на одну работу – серую, во множественных оттенках серого. Это был блокадный Ленинград, но исторически и географически неправильный. По заднему плану шли Исаакиевский собор, Петропавловский, Александрийская колонна. В жизни они не могли быть выстроены в ряд, с какой точки ни смотри. И во время Войны они были закамуфлированы. На среднем плане – Невский проспект, на котором не осталось ни одного целого здания, только в разной степени разбомбленные дома, напоминавшие вывороченные корни безмолвно плачущих вековых деревьев. Так не было, многие дома на Невском, на его правой стороне, пострадали незначительно. На серой картине по серому Невскому брела, тащила за собой саночки сгорбленная серая женщина. Почему-то угадывалось, что в прежней, довоенной жизни она была стройной, гордой, успешной.
– Эта фигура, – проговорил Виталий, показывая на картину, – очень напоминает мою маму. Ее никто из вас не знал и не видел… Отдаешь картину?
– Конечно! – снял полотно со стены и протянул Виталию Митяй. – Я не умею давать названия. Но у этой работы есть имя: «Мама». Внизу подписано, не вру, увидишь. Кларочка! – шутливо приобнял ее Митяй. – Ван Гог и прочие-прочие продавали свои картины трактирщикам за луковую похлебку. А теперь их работы тысячи, в валюте, стоят.
– Тогда нам две оставшихся? – быстро сориентировалась Клара. – В счет долга?
Нюраня и Настя в один голос простонали. Нюраня, словно чертыхаясь, издала горестный стон: эту хабалку, мою дочь, ничем не исправишь! Настя всхлипнула с отчаянием девочки, у которой забирают игрушки.
Александр Павлович только сейчас обратил внимание на дочь, хотя Марфа уже несколько раз тыкала его в бок.
– Минуточку! – кашлянул Камышин. – Дмитрий! Считаю нужным обратить твое внимание, что на этом доморощенном аукционе присутствуют твои жена, сын, мать и я… в некотором роде.
– Извините! – поднял руки Митяй. – Два полотна оставшиеся, честно говоря, не удались. Сибирские мотивы. Пейзажи по воспоминаниям никто не пишет. На первом – склон к Иртышу, по которому мы с Васяткой в детстве скатывались. На втором – дорога. Я шел с войны в Погорелово, пел, потому что увижу Настю, маму и сына. Пел и, честно сказать, плакал. Плакал и злился. Потому что ребята воюют, а я в тыл забиваюсь. Это то, что я видел перед собой. Недаром Настя их в самом низу повесила.
– В счет долга! – напомнила Клара.
Настя показала ей фигу, сорвала со стены и зажала под мышками две последние картины. Настя выглядела как ребенок, чьи игрушки подвыпившие родители раздают посторонним детям, а она, Настя, спасает последних кукол.
Митяй обнял жену, чмокнул в макушку:
– Я тебя нарисую, напишу обязательно! Летящую, теряющую одежду, обувь и украшения.
Он разжал объятия и захохотал, глядя на своих братьев и жен их. С его картинами в руках.
Он смеялся, как его родной отец, Еремей Николаевич, – громко, открыто, взмахивая руками. Когда Еремей Николаевич от души смеялся, застывали все, даже Анфиса Ивановна. Это было как купание в сладком облаке.
Митяй больше не писал картин. Настя не спрашивала, чем был вызван короткий период лихорадочного творчества и почему не продолжается. Спрашивать не требовалось.
Мужчина и женщина, муж и жена, сохранившие свой союз, не сгоревшие в огне, переплывшие воду, не потерявшие голову от денежного набата медных труб, понимают друг друга без слов. И слова-то у них, желания совпадают до кальки. В быту особенно заметно: «Не сварить ли сегодня плов?» – «Только хотел тебе предложить именно плов!» «Надо стариков в поликлинику на диспансеризацию свозить…» – с языка сорвал. «Пошли в кино?» – одновременно спросили и рассмеялись. Над бытом – духовное: невысказанное, но понятное. Высказывать не обязательно, а ответ получишь, когда произнести его получится.
– Настя! Я не пишу картины, потому что не хочу, – сказал ей в спину Митяй, когда она мыла посуду.
Настя замерла на секунду, не обернулась, продолжила намыливать тарелки.
– Есть две большие разницы. Хочу, но не могу. И! Могу, но не хочу. Я могу, но мне не хочется. И не потому, что считаю свои картины мазней, а слова Марьяны про «наступит время» – прекраснодушием. Меня не тянет. Когда художника тянет, он прутиком на песке чертит, на обрывках квитанций малюет.
Настя вытерла руки полотенцем, сняла фартук, подошла к мужу, сделала ложный выпад, словно хотела его щелкнуть по носу, уселась к нему на колени. Это было ее любимое место. Они в детстве так, тайком от родителей, сидели. Когда Митя пришел с Войны, их первая ночь, она попросила: «Давай я к тебе на колени? Я мечтала в Блокаду. Это мой рай».
Теперь ей почти пятьдесят лет. Она не часто позволяет себе. Но иногда случается.
– Ты мне обещал написать меня летящей, разбрасывающей детали туалета, – промурлыкала Настя. – Когда это будет? Вот лежу я в гробу, а ты, безутешный, подносишь к моему холодному лицу искомое полотно?
– Нет, я первый в гробу буду лежать, а ты бросишься в слезах ко мне на грудь и почувствуешь в кармане пиджака бумажный хруст. Вытаскиваешь рисунок…
– Родители! Мама! Папа!
На пороге кухни сонный, взлохмаченный двадцатилетний атлет в трусах и в майке.
– Чего вы хохочете? – бормочет Илюша.
– Мы обсуждаем, – Митяй не отпустил Настю, готовую сорваться и занять приличное положение, – твою будущую жену. Она должна любить сидеть у тебя на коленях. Испытывать это желание до преклонных лет, а ты, соответственно, радоваться этим желаниям.
– У меня не преклонные леты, то есть года! – возмутилась Настя.
– Какие леты, колени? – тряс головой Илюша. – Разбудили! У меня сессия и еще соревнования по гребле, репортаж надо сдать. Совсем чокнулись! Я иду…
– В туалет! – хором сказали мама и папа.
Аннушка
Марфа часто задумывалась: осудила бы ее Парася за то, что не уберегла Аннушку, или, напротив, порадовалась бы за судьбу дочери? Степан, отец Аннушки, точно разгневался бы, он в Бога не верил. Марфе иногда казалось, что сидят они, Парася и Степан, там, на небесах, и спорят, счастливо или несчастливо жизнь единственной дочери сложилась. А поначалу-то, наверно, только радовались, когда Марфа, возвращаясь из эвакуации, забрала сиротку в Ленинград и воспитывала как родное дитя.
Аннушка из пугливой девочки выросла в крайне стеснительную девушку. Высокого роста, но не статная, потому что сутулая. Казалось, что Аннушка носит свое тело со стыдом, как одежду слишком заметную и не по росту большую. Аннушка была симпатичной, даже красивой, но никто не замечал ее привлекательности, потому что ходила она с опущенной головой и редко смотрела людям в глаза.
Парася когда-то была такой же, но встретила Степана, полюбила. Она говорила: «Благодаря суженому я подняла голову и увидела небо». Став женой председателя коммуны, Парася, хочешь не хочешь, была вынуждена «соответствовать», то есть командовать бабами и повышать голос. Аннушке суженый не встретился, и увидела она совсем другое небо.
Ее все любили, холили, берегли. Родные братья, Василий и Егор, относились к Аннушке с трепетной заботой, нежностью. Аннушка ценила их участие, благодарила за подарки, но все-таки было заметно, что она тяготится их присутствием, как тяготится всегда, оказываясь в центре внимания.
Она никогда не задавала вопросов, а ответом на обращение к ней чаще всего было: «Не знаю». «Хочешь кушать? Купим тебе новое платье (куклу, цветные карандаши, пенал?..» – «Не знаю».
Аннушка бо́льшую часть времени сидела на диване с книжкой, но не читала, а смотрела поверх книги в окно. Марфа редко привлекала ее к домашней работе. Попросишь – сделает, например помоет посуду, и застынет в ожидании следующего приказа – как подневольная острожница. Марфе проще самой, чем видеть это выражение покорности.
– Аннушка, – спрашивала ее Настя, – о чем ты все время думаешь?
– Не знаю.
– Но все-таки? – настаивала Настя. – Это секрет?
– Нет, не знаю. Обо всем думаю.
– Приезжает московский кукольный театр. Говорят, у них уморительные постановки. Я достала вам с Илюшей билеты. Правда, здорово?
– Наверное.
В театре Илюша хохотал как умалишенный, Аннушка просидела с застывшим лицом.
Она не боялась прикосновений к своему телу, но сама не ластилась, как это делают девчонки. Ее можно было обнять, приголубить, но в ответ не почувствовать ни тепла, ни отзыва.
– Ты очень одинока, – как-то сказал ей Егор, – потому что скучаешь по маме.
– Нет, то есть да. Я не знаю.
Аннушка не доставляла проблем, хлопот, но, по общему мнению, уж лучше бы доставляла.
– Она не тупая и не умственно отсталая, – говорила Настя Марьяне. – Аннушка хорошо успевает по математике, да и по другим предметам. Не сказать, что читает запоем, но все-таки читает книги. Она не душевнобольная, но все-таки ненормальная. Очень, крайне нелюдимая.
– У нас есть приятель, биофизик. Он рассказывал, что на каждой человеческой клетке имеются рецепторы – вроде микроскопических щупалец. Рецепторы захватывают полезные вещества, пропускают их в клетку, убивают вредные, которые хотят через мембрану проникнуть. В сущности, каждый из нас, из людей, тоже как гигантская клетка, тоже имеет рецепторы, невидимые, психологические, если хочешь. С помощью жестов, мимики, слов, взглядов мы вступаем в контакт с другими людьми, принимаем их или отталкиваем.
– У Аннушки нет таких рецепторов?
– Именно, – кивнула Марьяна. – Или их очень мало, или они какие-то особенные. Все попытки ее чем-то увлечь, заинтересовать, элементарно рассмешить проваливаются. А подчас кажется, что доставляют девочке страдания. Ей должно быть очень плохо и сложно в школе, дети бывают ужасно жестоки.
– Ничего подобного! – заверила Настя. – На родительских собраниях ее хвалят. Единственная проблема – Аннушка теряется, молчит, когда вызывают к доске, но с места отвечает хорошо.
Они, ее родные, думали, что у нее в школе все нормально, потому что она не жаловалась.
Школа была адом.
В шестом классе к ним пришел новый учитель математики, вызвал Аннушку к доске. На негнущихся ногах она вышла и… застыла, сгорбилась, не в силах произнести ни слова.
– Ну, Медведева! – поторопил учитель. – Ты знаешь урок?
– Да, – прошептала.
– Мы слушаем!
Аннушка молчала. Раздраженный учитель обругал ее:
– Каланча пожарная! Отвечать будешь?
Сашка Прыгунов, по прозвищу Прыщ, двоечник, второгодник и наказание школы, завопил в голос:
– Каланча! Каланча! Кала… Кала… Анализ кала!
Класс взорвался от хохота, стекла задрожали. Учитель едва усмирил их, крикнув Аннушке:
– Садись, два!
Прыщ издевался над ней постоянно. Только увидев, орал: «Анализ кала! Глядите, Анализ кала идет!» Объектом для травли Аннушка была замечательным. Прыщ играл с ней, как сытый злой кот с мышонком – не убивал, но душил. Мышонок был настолько глуп, что не пытался обороняться, убежать или хотя бы пищать.
Почему на защиту Аннушки не встали одноклассники? Потому что она не плакала и не просила о помощи. И вообще Медведева была себе на уме – с подружками не шушукалась, не секретничала, держалась в стороне. Подумаешь, гордячка!
Если бы Аннушка рассказала про травлю в школе братьям или даже Илюше, который был младше на пять лет, но спортивен и крепок, Прыща стерли бы в порошок. Аннушку дома оберегали как хрупкий цветок, чувствуя, что за отстраненностью девочки прячется нежная беззащитность. Что там братья! Марфа ходила бы в школу, сидела под дверью класса и за каждый волосок, упавший с головы Аннушки, сворачивала бы обидчикам шеи.
Но Аннушка никому ничего не рассказывала. Хуже того! Марфа видела, что племянница приходит из школы то с оторванным воротником, то облитая чернилами, то с растрепанными косичками и грязными ленточками в руках и… радовалась! Думала, что Аннушка, как все нормальные дети, шалит, дерется… хоть в школе. Ведь Марфа видела, знала, воспитывала только шебутных, активных детей.
Летом, на даче, Аннушка просилась погулять. И понятно! У них беготня, крики, визг детский, то дерутся, то мирятся, то в войну играют, то в мяч, в «вышибалу». Аннушка не любит суеты, почему ж ей не погулять в одиночестве?
– Иди, милая, – позволяла Марфа. – До скольких?
Они приставляли рука к руке часы: изящные, позолоченные Аннушкины, подаренные братьями, и серебряные, с большими стрелками Марфины. До обеда? До двух?
После обеда снова:
– Я погуляю, тетя Марфа?
– До скольких?
Часы сверили, отпустила.
Но Марфа, не будь наивной, несколько раз просила Илюшу:
– Проследи за ней. Не ровен час. Лет тринадцать, а по виду все шестнадцать. Не завелся ли ухажер, не на свидания ли она ходит?
Вернувшийся из разведки Илюша докладывал:
– Нет ухажеров. Сидит под деревом, прутиком от комаров отмахивается.
– Не рано ли ты ушел? Вдруг не дождался?
– Ба! – возмущался Илюша. – Я столько в траве, в засаде пролежал! Ребята в футбол играли, а я как дурак…
– Ну да, ну да. Она ведь и дома все у окошка сидит, на улицу смотрит, – успокаивала себя Марфа. – Вот ведь! Гулящая девка – горе родительское, а снулая да негулящая – тоже тревога.
– У нас гулящая Танька, – сообщил не без гордости Илюша, – через два дома от нашей дачи. Я вчера из-за Таньки подрался!
– Иди уж, кавалер! – легонько ударила его в лоб, рассмеявшись, бабушка Марфа. – Руки помой перед обедом!
Через несколько минут в калитку входила Аннушка.
– Хорошо погуляла? – спрашивала Марфа.
– Да, не знаю. Я не опоздала? – смотрела на свои часики Аннушка.
– В срок пришла, умница. Как бы в жизни тебе не опоздать!
Другой ребенок обязательно расспросил бы: как можно опоздать в жизни.
– Я не знаю, – бормотала Аннушка.
Тревога за Аннушку не была у Марфы постоянной. Нет причин – нет тревоги, других поводов для беспокойства хватало. И все-таки иногда, утренним дорассветным пробуждением, сердце сжималось: не так! Ой не так с этой девонькой! Есть в роду Турок-Медведевых дурная кровь. Марфин первый муж Петр – тому доказательство.
Петр потомства не оставил. Марфины сыновья не от мужа, чего ни одна живая душа не знает. Марфа убила мужа в Блокаду, задушила подушкой. Иначе было нельзя – безумный Петр хотел сожрать младенца Илюшу. Марфа не раскаивалась в своем грехе, повторись – снова бы Петра прикончила. Она большая грешница, хотя родные ее праведницей считают.
Аннушка Петру родная племянница, но не гыгыкает, как он, через слово. И Петр ведь не был слабоумным в полном смысле слова, и Аннушка как бы нормальная…
Камышин просыпался от горестного стона жены:
– Марфа, дурной сон?
Он гладил ее по лицу, по плечам, рукам, пока она не расслаблялась, тело не становилось мягким, теплым, нежным, как подошедшее тесто.
– Про Аннушку моя печаль.
– Да, надо признать. Девочка необычная. Но ведь все ее любят! Братья пылинки сдувают. И потом, она не страдает! Если бы страдала, мы бы заметили.
– Не-е-ет, у Аннушки не заметишь.
Марфа помнила, как Аннушка вывихнула ножку на ступеньках в их парадном, лежала клубочком и не плакала, на помощь не звала, сосед ее нашел. Как Аннушке учительница дала гербарий, который весь класс летом собирал, отнести домой, сделать подписи. Это была большая честь, и учительница – умница, потому что тихой Аннушке поручила. Но хлынул дождь, поздняя осенняя гроза, с неба как из бочки, и гербарий, который Аннушка пыталась спасти под пальтецом, пропал. Любая другая девочка плакала бы навзрыд – так опозориться, доверия не оправдать. Аннушка, прижав колени к груди, сидела в углу дивана, смотрела в окно. Возможно, была чуть напряженнее, чем обычно, но это только если нарочно приглядываться.
В седьмой класс Аннушка шла как на плаху. Начнутся и будут долго-долго тянуться издевательства Прыща. Ее посещали мысли о самоубийстве – разом оборвать муку. Но эти мысли были постыдные.
Мальчик, ученик Марьяны, ведь не покончил собой.
Тетя Марьяна рассказывала. Аннушка поняла, что для нее специально рассказывала. У мальчика были какие-то проблемы с пищеварением, но ведь детям не объяснишь, что родители, ученые со степенями, вместе с врачами подбирают вещества, называемые ферментами, чтобы убрать метеоризм. Мальчик иногда пукал. Дети, как только раздавалась трель, зажимали носы и принимались хохотать. Марьяна сначала делала вид, что ничего не слышала, урок продолжался. Не помогло.
Стала поднимать учеников по очереди:
– Игорь Скворцов! Встать! Сказать в лицо, один на один, мальчику, страдающему недугом, то, что ты секунду назад орал.
Он орал: «Пердун! Пердун!»
– Извини! – цедил Игорь. – Можно я сяду?
– Тамара Игнатова! – не унималась Марьяна. – Наша классная принцесса, прима. Встать, когда к тебе учительница обращается! Повернись и посмотри на своего одноклассника, которого благодаря тебе, потому что весь класс заводишь, презирают. Когда-нибудь ты выйдешь замуж, и у тебя будут дети. Не исключено, что твоего сына тоже будут травить. И знаешь, когда тебе повезет? Если твой сын сумеет вот так, как он, – показывала Марьяна пальцем на несчастного пукальщика, – держать удар, приходить в коллектив. Человек может не помудреть никогда. Чаще мудреют к старости. Очень редко мудрость усваивают молодые. Мудрость – это сострадание.
Пердун и Анализ кала – очень похоже, воняет одинаково постыдно и отвратительно. Тот мальчик не покончил собой, значит, и она сможет выдержать, даже не имея такую внимательную и добрую учительницу, как Марьяна.
Всё, связанное с физиологическими оправлениями, с демонстрацией оголенных частей тела было для Аннушки мучительно до обморока. На физкультуру она переодевалась не в раздевалке, а в кабинке женского туалета. Когда тетя Марфа в ванной терла ей спинку, Аннушка скрючивалась черепашкой. Она не просто стеснялась своего тела. Ей казалось, что посторонние взгляды оставят на нем ожоги, коричневые пятна – как перегретый утюг на белье.
Она ощущала себя огромным пустым сосудом. У тети Марфы есть пузатая двадцатилитровая бутыль с толстыми стенками и узким горлышком. Тетя Марфа покупает и засыпает туда по мере созревания и падения цен на ягоды: клубнику, смородину, красную и черную, малину, клюкву, бруснику. Начиная с первого слоя, идет залив спиртом, который покупается у знакомого провизора в аптеке. Ягоды подсыпали, спирту подлили. Аннушка – такой же сосуд, только стенки не из толстого стекла, а из тонкой пленки. И сосуд всегда пуст, как ни пытаются родные его чем-то, с их точки зрения вкусным, полезным, приятным, наполнить. В горлышке даже не пробка, а затычка из пустоты, ничего не пропускающая.
Брат Егор однажды рассказал ей, как долго страдал от одиночества, от тоски по маме. Сын полка, бравый партизан, потом отчаянный хулиган, атаман московской шпаны, он плакал по ночам в мечте о маминых объятиях.
– Ты грустная, печальная, потому что одинока, потому что наша мама умерла? – спросил брат.
– Я не знаю, – потупилась Аннушка.
Егор слегка обиделся: он открыл ей свои давние мальчишеские тайны, а она – с вечным «не знаю».
Но Аннушка действительно не знала, что сказать. Если бы ответила: «Да, я скучаю без мамы», – это было бы неправдой. Скажи она: «Нет, я почти не помню маму», – прозвучало бы как предательство. Не говорить же брату, что у нее не одиночество, а пустота, тоска не по маме, друзьям, не по умению беззаботно веселиться, играть, наряжаться, кокетничать, кружить головы мальчишкам. Нет, у нее другая тоска, и Аннушка сама еще не знает, чего пустота хочет.
Первого сентября перед началом линейки, когда в школьном дворе в каре выстроились классы, когда все здоровались, мальчишки хлопали друг друга по плечам, девочки придирчиво осматривали одна другую, к ним подошел невысокий паренек, смуглый, чернявенький, с глазами-угольками.
– Седьмой «Б»? Привет! Я Озеров Юра, буду учиться в вашем классе.
Ему не успели ответить, рассматривали, оценивали…
И тут раздался возглас Прыща:
– Анализ кала! Кого я вижу! Анализ кала! Фу, воняет! – Прыщ подошел вразвалочку и картинно зажал нос пальцами.
Аннушка стояла в сторонке, хотела занять самое неприметное место, но разве при ее росте будешь неприметной? Мучитель сразу ее увидел.
Ребята оглянулись. Вокруг Аннушки и выписывающего кренделя Прыща образовался круг отчуждения. Аннушка стояла потупившись, Прыщ куражился. Никто не подумал защитить ее – обычный спектакль, тысячу раз видели.