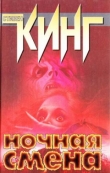Текст книги "Жребий праведных грешниц. Наследники"
Автор книги: Наталья Нестерова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Утро. Марфа с мужем и Татьянкой завтракали. Звонок в дверь. Наверное, почтальон. С ним договоренность: газеты в ящик, а когда приходят журналы, отдавать в руки, потому что тырят, а Александр Павлович много периодики выписывает.
Марфа открыла дверь. На пороге Егор. В одной руке чемодан, на другой сидит девочка, обхватив его за шею. Приехали наконец! Да что ж без телеграммы, без предупреждения! Эти ваши сюрпризы! Я бы пирогов напекла с курагой, Дарагуль любимые. Проходите! Ой, это и есть Манечка? Иди ко мне, деточка! Иди к бабушке Марфе! Легонькая как пушинка.
Она увидела, конечно, что Егор отрастил бороду, как ему и рекомендовала, но не заметила, что это не настоящая ухоженная борода, а многодневная запущенная небритость. И Егор темен лицом, и глаза у него провалившиеся в черные ямы. Встречать гостей вышли в прихожую Александр Павлович и Татьянка.
– Дарагуль-то где? – выглядывала из-за плеча прижавшейся к ней девочки Марфа. – Где Дарагуль?
– Ее нет, – ответил Егор. – Умерла. От рака. Три дня назад.
Руки у Марфы вдруг ослабели, потеряли силу. Малышку не уронила, та сползла по Марфиному телу на пол. Марфа вскинула безвольные руки, замахала ими, точно прогоняя слова, сказанные Егором.
Она видела много несправедливых смертей. Справедливых и не бывает. Руки тряслись – то отмахивались, то звали к себе, будто призывая развеять ужас сказанного Егором. Шею стянуло жгутом, выдавливало из глаз слезы. Они были крупные и холодные, как градины…
Камышин подошел и обнял ее за талию, утешая. Он крякал и кашлял, тоже плакал. Он Дарагуль выделял из всех молодых женщин-родственниц: поразительный ум, великолепная память плюс восточная деликатность, изящество без восточного хвастовства и бахвальства. Умерла! Дикая несправедливость!
Молчание прервал Егор:
– Я вам оставлю на время Маню? Надо… надо как-то на работе и вообще… Я пошел? – Он развернулся к двери, остановился. – Куда пошел? Я к вам на три дня. Голова совершенно не варит.
– Бабушка, – подергала Марфу за юбку Маня. – Бабушка, я знаю буквы! Меня мама научила. Только она не успела научить их в слова складывать.
– Падуишь, буквлы! – Татьянка, испуганная тягостным напряжением взрослых, отлипла от ноги дедушки, которую обхватывала, как спасительный столб, и шагнула вперед. – Я тозе знаю! Фы! Это буквла, а не кода мимо гольшка написикашь!
Девочки были одногодками. Маня говорила удивительно чисто, Татьянка по-детски коверкала звуки. Маня была на полголовы ниже Татьянки и заметно худее.
– Эф, – сказала Маня, косясь на Татьянку. – Буква называется «эф».
– Фы!
– Эф!
– Дедуська! Скази ей! – требовала от Камышина Татьянка.
– Строго говоря, Маня права – «эф». Но милым барышням есть что обсудить, кроме алфавита.
– У меня есть куквла! – тут же завопила Татьянка. – Дедуська подалил. Она с лесницами, хлопьсь-хлопьсь, и «мама» пвлачет! Падем, – потянула Танюшка Маню за руку, – паказу!
Девочки ускакали. Сначала Татьянка, припрыгивая, понеслась в детскую, за ней, подражая, поскакала Маня.
Марфа усмирила руки, и слезы перестали литься, только носом шмыгала. Егор стоял безучастно, как мумия, которую подняли из гробницы и которой было тошно принять вертикальное положение, смотреть на живой мир.
Камышин отвернулся, чтобы вытереть слезы украдкой, потом дернулся, развернулся и ладонями вытер лицо. Чего стыдиться праведных слез?
Камышин заговорил почему-то строго, в его тоне больше было суровости, чем отеческой доброты. Будто он гнался за виновником горя, за врагом, противником, не поймал и теперь злится.
– Егор! Застыл в дверях, как неродной. Проходи, снимай ботинки. В душ, потом завтракать. Побрейся! Хватит траур на лице носить. Траур не на физиономии, а в сердце. Марфа! Стакан водки ему на завтрак! И мне… полстакана… четверть. Потом пусть спать ложится и дрыхнет до морковкиного заговенья. Ну, случилось! – взмахнул руками Камышин, почти в точь как Марфа. – Ну, умерла Дарагуль! Так вышло, так есть! И хватит стенать!
Никто из них не стенал, ни слова вслух не произнес. Но, казалось, дышать невозможно от криков беззвучных.
– Егор?
– Я вас слушаю, Александр Павлович.
– В ванную – мыться-бриться, – повторил Камышин. – Надеть чистое. Завтрак, водка и спать. Приказ понятен?
– Так точно, – со слабой усмешкой ответил Егор и поковылял в ванную.
Он проспал почти двое суток. Когда очнулся, никого не хотел видеть, ни с кем разговаривать, просил его извинить. Приходили Настя с Митяем, Илюша, видели его спящим. Нюраня в тот момент гостила, Егор ее не заметил, потому что на глаза не лезла, с девочками играла, уводила их на улицу. Так они выбегивались, что падали замертво.
Егор, побритый, выспавшийся, стал еще страшней бородатого. Мощи, а не мужик. И все-таки он держался. Не за Маню, не за свой долг ее поднять-вырастить. По взглядам было видно. Так ему больно на дочь, похожую на мать, смотреть, что зажмуривался. Держался за что-то свое, Марфе непонятное. Но ведь главное, что держался!
Марфа не отпустила его до девяти дней, до поминок. Егор не хотел никаких поминок, Марфа настояла. Чтоб по-людски, по-христиански. Она и Васю с Марьяной из Москвы вызвонила: приезжайте хоть на день, обратно с Егорушкой вернетесь, ему одному сейчас негоже оставаться, совсем высохнет. Аннушку Марфа найти не сумела. Слала телеграммы по последнему адресу – адресат выбыл. Теперь ждать письма от Аннушки с нового места. Очень Аннушка была бы сейчас кстати. Она расстроится, что не смогла утешить брата в горькую минуту.
Егор думал, что поминки превратятся в бесконечный плач, в болезненное отщипывание кусочков сердца. Потом смирился и махнул рукой. Еще больнее быть не может, а сердца у него не осталось.
Неожиданно для него поминки оказались не заунывным действом, а светлым и даже с улыбками застольем. Никто не причитал, не проклинал судьбу и не пускал слез. Вспоминали Дарагуль: у каждого имелся какой-то рассказ, эпизод, с ней связанный, часто – смешной. И слова: «Светлая память!» – после каждого рассказа-тоста, перед тем как выпить, не чокаясь, для всех сидящих за столом были не пустым звуком, не ритуальным заклинанием. Его родные действительно любили его жену и будут помнить.
Спустя два месяца Егор получил от Аннушки письмо. О смерти Дарагуль сестра узнала от тети Марфы. Аннушка писала сердечно, трогательно, чувствовалось, что много плакала. Деликатно спрашивала, была ли Дарагуль крещеной? Чтобы молиться за спасение ее души. Егор понятия не имел о вероисповедании умершей жены.
Маня осталась у Марфы навсегда. Марфа не лукавила, когда говорила Егору, что с двумя внучками ей легче. Один ребенок – в два глаза смотри, два ребенка – вполглаза присматривай. Потому что они сами себя занимают, играют.
Егор никогда не заводил разговор о том, чтобы забрать дочь. Ему некуда было ее забирать. Он превратился, как говорила Марфа, в бродягу. Была такая порода мужиков в Сибири – охотники, артельщики, золотоискатели. Ни семьи, ни дома, ни хозяйства – усидеть на месте долго не могут, тянет их в тайгу неудержимо. Порода не перевелась и по сегодня. Геологи, нефтяники, рыбаки, полярники. Им чем суровей условия, тем больше интереса. Конечно, какой интерес ходить на работу к девяти утра и возвращаться после семи! Одно слово – бродяги.
Егор бо́льшую часть года проводил в экспедициях. Изучал зоопланктон в Баренцевом, Охотском, Беринговом морях. Потом стал полярником – работал биологом на полярных станциях в Арктике и в Антарктике. Отпуск у него был длинный, по три месяца, из которых один проводил в Ленинграде, с дочерью. Возвращался в Москву, обрабатывал результаты, публиковал статьи, книги – определители зоопланктона северных морей России, защитил кандидатскую диссертацию. И снова отправлялся в места, где никакая живность, кроме человека, не выдержит.
Егор не был краснобаем, но, когда его просили, рассказывал об экспедициях. Про святое место на полярной станции – дизельную электростанцию, при которой всегда дежурный. Если станция остановится, жизни останется на полчаса, никакая одежда или костры не спасут. Зимой в Антарктике за минус 60, летом «жара» – минус 30–50. И еще сильная нехватка кислорода, высокое давление, разреженная атмосфера, осадков выпадает мало, поэтому почти абсолютная сухость. Акклиматизация у многих больше месяца занимает. Быстро ходить, поднимать тяжести, делать резкие движения нельзя – сразу темнеет в глазах, одышка, а то и обморок. Егор рассказывал, как в таких условиях люди работают, ведут исследования, ликвидируют аварии, пишут оптимистические письма домой. Взаимовыручка у полярников не черта характера, а способ выживания.
Егор рассказывал, а у Митяя, Степки, Василия, Илюши появлялась в глазах тоска – завидуют, понимала Марфа. В каждом мужике живет бродяга. Дык ведь если бы Дарагуль не умерла, не мотало бы Егора по Северам!
– Есть у тебя женщина? – спрашивала она племянника.
– Есть. Зовут Ирина.
– А дальше? – допытывалась Марфа, которой имя ничего не говорило.
– Дальше у нее есть сын, тяжелый инвалид с рождения. Воспитывает сама, в интернат не отдала.
Егор всегда честно отвечал на вопросы, то есть из него клещами надо было тащить.
– Что родной отец? Бросил их?
– Да. Подлец с идеологией. Я ему, кстати, морду набил.
– Егорушка!
– Все нормально. Мы работаем в одном институте. Ушел ты от жены и больного ребенка и помалкивай. А он не затыкался, мол, бессмысленно свою драгоценную единственную жизнь испортить ради урода, который не способен оценить жертву. Мальчик Ирины, Саша, он… как дикий волчонок, не говорит, только воет, никого, кроме Ирины, к себе не подпускает. Я раз сказал доблестному отцу – заткнись, два раза сказал. Не внемлет. Оправдывается, очень нам нужны его аргументы! Я не выдержал, врезал ему по бесстыжей харе. Ребята меня поддержали.
– Добили? – ахнула Марфа.
– Нет, просто посоветовали перевестись в другой отдел.
Тетя Марфа переваривала услышанное. Егор не стал продолжать. Не рассказал, как через несколько дней ему позвонила Ирина, которой стало известно про избиение и обструкцию бывшего мужа. «Приезжай ко мне, пожалуйста, – попросила она. – Мне хочется повеситься». Он приехал и остался.
– Ирина тебе как жена? – заволновалась Марфа.
– В определенном смысле.
– Ты мне без смысла, но определенно скажи. Действенная жена?
– Тетя Марфа, давайте уточним термины. Действенная – это какая?
– Которой деньги отдаешь.
– Отдаю, конечно. Бо́льшую часть вам отсылаю. Если мало…
– Хватает. Егорушка, ты же не заберешь Маню?
– Не планировал, но если вы устали…
– Где устала? Где устала-то? Если ты Маню увезешь, то я… я, – Она не могла с ходу придумать угрозы пострашнее. – То я заболею!
– Не надо болеть, – улыбнулся Егор. – Все сложилось, как сложилось.
Митяй и Настя
Митяй говорил о себе: «Всегда мечтал стать художником и теперь работаю художником». Непосвященный в обстоятельства его биографии человек мог не услышать в этих словах горькой самоиронии. Как если бы кто-то заявил: «Я мечтал быть шофером и теперь вожу автобус», – что здесь особенного? На самом деле смысл был иной: «Я всегда мечтал о космосе и теперь заправляю ракеты».
Васе и Митяю не исполнилось и двадцати лет, когда они вернулись с Войны. Оба инвалиды: у одного ноги нет, у второго из-за контузий посттравматическая эпилепсия. У обоих противоречивое отношение к общественному мнению. С одной стороны, это мнение им безразлично: чужие оценки, характеристики, сплетни, наговоры, как и похвалы, оставляли их равнодушными. С другой стороны, желание скрыть свою ущербность от окружающих у Василия доходило до самоистязания, а у Митяя вызывало желание спрятаться от всех и вся.
Митяй считал, что брату проще: научился на протезе ходить, вгрызся в учебу, окончил университет экстерном. Он же, Митяй, и среднего образования не получил, хотя оставался только последний класс. Демобилизовавшись, поступил в вечернюю школу, там случилось несколько приступов, на него стали смотреть с жалостью и опаской, как на припадочного. Он и был припадочный. Школу Митяй бросил.
Два года работал в строительной бригаде, занимавшейся расчисткой города после Блокады. Мать, Камышин, жена Настя нет-нет заводили разговоры о том, что ему надо получить хорошую профессию. Как будто не понимали, что с его болезнью, его проклятием путь в нормальную жизнь заказан. Пойдет он на предприятие учеником слесаря, пекаря, сварщика. Во время припадка тюкнется носом в станок. Умереть не страшно, противно жалость вызывать. Митяй ненавидел свою болезнь, упоминания о ней и в то же время злился на родных, которые забывали об его ущербности. У него есть работа, приличная зарплата. И отстаньте от меня!
Работа в самом деле была правильная – тяжелая, мужская. Он ведь физически силен и ловок. Косая сажень в плечах, семь пядей во лбу – припадочный эпилептик.
Помощником художника в кинотеатр Митяй устроился случайно. Проходил мимо, откликнулся на просьбу рабочего спустить в подвал тяжелый щит со старой афишей. В большом подвале находилась мастерская. Художник в заляпанном краской халате был пьян вусмерть. Раскачивался, держал к руке кисть, смотрел на нее, прищурив один глаз, явно не соображая, что с ней дальше делать.
– Давайте я вам помогу? – предложил Митяй.
– Ты кто?
– Меня зовут Дмитрий.
– А я Леонардо! Слышал о таком?
– Конечно, я слышал о Леонардо да Винчи.
– Не очень-то тут! – Леонардо помахал кистью, грозя. Брызги желтой краски оросили его лицо, но он даже не заметил.
Шатаясь, едва не падая, добрел до стены, где стояла кушетка, забросанная каким-то тряпьем, рухнул и мгновенно уснул.
– Хороший дядька, – сказал рабочий, – но пьет по-черному. Теперь его точно уволят. Завтра в десять утра афиша должна висеть. А он, видишь, только ноги успел нарисовать.
– Где образец, с которого он срисовывал? – спросил Митяй.
Он работал до позднего вечера. Было бы преувеличением сказать, что испытывал вдохновение, но удовольствие – определенно. На следующий день утром Митяй пришел в мастерскую, чтобы ответствовать за труд. Леонардо, без следов краски на лице, трезвый, умытый, но в том же грязном халате подправлял что-то на афише, нарисованной Митяем. По испитому, опухшему лицу художника невозможно было определить его возраст, ему могло быть и сорок, и шестьдесят.
– Здравствуйте, Леонардо!
– Чего? Ты кто такой? Как ты меня назвал?
– Как вы представились вчера.
– Это ты? – кивнул на афишу художник.
– Я.
– Дилетантство, мазня, но спасибо! Игорь Семенович! – протянул руку, заметно дрожавшую.
– Дмитрий.
– Слушай, Дмитрий, уважь! – Тон изменился, из брюзжащего превратился в просительный. – Сбегай за чекушкой, будь другом! Вот деньги, – торопливо совал он мятые купюры.
– Да где ж я сейчас достану?
– Продовольственный за углом, с черного хода зайди, спроси Любу, скажешь, что от меня.
У художника было два имени: Игорь Семенович – в короткой трезвости, и Леонардо – в почти беспробудном пьяном состоянии. Продавщица Люба в первый раз не поняла, на кого Митяй ссылается. Потом сообразила – это ж Леонардо. Дала не водку, а пять бутылок пива, по цене коньяка. Велела нести завернутыми в газету, а не в авоське. Мужики увидят, налетят, а ей неприятности из-за всяких алкоголиков не нужны.
Митяя оформили подсобным рабочим. Он трудился с Леонардо чуть больше года. Художник передал ему некоторые секреты мастерства по написанию громадных, три на пять метров, «полотен» и приучил к спиртному. Когда Леонардо умер, Митяя оформили на ставку художника. Директор закрыл глаза на то, что у Медведева нет специального образования. Зато имелось направление по трудоустройству инвалида.
Жизнь афиши на стенах кинотеатра была короткой: неделя-две. Затем она снималась, в подвальной мастерской со щита смывалась краска, наносилась свежая грунтовка, чтобы поверх нее возникла новая афиша. Митяй к своим «произведениям» относился скептически. Хотя, с точки зрения Насти, ему прекрасно удавалось передать портретное сходство артистов, юмор в рекламе комедий, напряженную динамику приключенческих лент и лиричность мелодрам. Она даже хотела фотографировать афиши Митяя. Поделилась с ним мечтой – достать цветную пленку, найти лабораторию, где бы ее проявили и сделали снимки. Муж отнесся к ее планам с отвращением, будто она свиней в квартире предложила разводить.
Насте очень хотелось, чтобы Митя писал настоящие картины. Ведь до Войны он мечтал, подавал большие надежды. Ей хотелось, чтобы муж вернулся к творчеству, не потому, что она была честолюбива, не из собственных амбиций и даже не с целью поднять самооценку Мити. Настя чувствовала в нем глухую, безнадежную тоску. Внешне красавец: высокий, сильный, спокойный, доброжелательный, улыбчивый. А внутри – выжженное поле. Но ведь какие-то угольки остались? Надо их только раздуть.
– Все из-за болезни, да? – спрашивала она. – Но эпилепсия не помешала…
– Знаю, тысячу раз слышал про то, что эпилепсия не помешала многим великим людям.
– Тогда почему ты…
– Потому что я – это я! Потому что кроме великих эпилептиков есть еще тысячи совершенно невеликих, но, скажем мягко, подававших надежды. Это как вырвать из человека что-то важное, что не восстановится, заново не вырастет. Зуб, например. Помнишь, как бабка Агафья говорила? «Жубов нет, а так вяленой оленинки хочется. Дык я ыё хоть пососу». Мои афиши – тот самый процесс, пососать. И я прошу тебя не заводить этот разговор! Он мне крайне неприятен!
Настя сдаваться не желала и снова начинала старую песню.
Митяй ее попросил, она не послушалась. Сама виновата. Разозлила. В гневе богатыри-тихони могут не соизмерять силу удара, а мирный добрый человек – оскорбит тебя больней, чем самый отпетый негодяй. Митяй был и богатырь и добряк.
– В жизни многих творческих людей, – говорила Настя, – бывают периоды бессильного страха. Скажем, певец потерял голос, его лечили, доктора говорят, что связки в порядке, а он боится запеть, не взять ноту. Или писатели! Сколькие из них кружили вокруг письменного стола, смотрели на него как на эшафот и как на место в раю одновременно. Или художники…
– Чего ты от меня хочешь? – перебил Митяй.
– Чтобы ты взял краски и начал писать.
– Зачем?
– Потому что это тебе нужно!
– Ты лучше меня знаешь, что мне нужно? Или тебе не дает покоя элементарная женская досада? Я тебя разочаровал? Ну, извини!
– Ты меня не разочаровал! – возмутилась Настя. – Я тебя люблю! Я хочу, чтобы ты был счастлив! Нужно просто делать! Взяться и делать! Пробовать, пробовать! Митя, что-то пробовать! Ведь у тех… из тех, про кого я говорила, кто-то запел, начал-таки сочинять, писать…
– Рад за них. Может, тебе денег не хватает?
– Хватает, более чем.
– Тогда задумайся на минуточку: я тебя не упрекаю в том, что у нас больше нет детей.
Это был удар жестокий и несправедливый.
Митяй сорвал со стены свою юношескую работу – Настя, летящая над городом, подражание Марку Шагалу. Митяй с размаха ударил картиной по столу, рамка сломалась, стекло треснуло. Митяй вытащил картон, порвал на кусочки и бросил Насте в лицо.
Это была ее любимая картина.
В первую сибирскую осень, в холода, еще не оправившись от блокадного голода, Настя работала на ферме и застудила «придатки» – так бабы называли внутренние женские органы. Настя мучилась болями, и народные средства помогали плохо. В Ленинграде ей поставили диагноз хронического воспаления, долго лечили. Папа достал пенициллин, в который верили как в чудо. Воспаление приглушили, но вынесли приговор бесплодия.
Тетя Нюраня объяснила, что у нее в маточных трубах спайки, которые мужские клетки не может преодолеть, дохнут, как рыба перед плотиной.
Видя отчаяние Насти, тетя Нюраня скрепя сердце рекомендовала ей врача:
– Эта методика не утверждена, не принята министерством и не рекомендована для лечения. Однако и не запрещена. Она зверская. С другой стороны, я принимала детей у женщин, которые благодаря этому методу забеременели.
Методика заключалась в инъекциях молока в ягодицу. Через несколько часов после укола начиналось воспаление – всего! Всего организма. Температура за сорок, небо с овчинку, бред, погибель и полеты в космосе… Не помогло, спайки не рассосались. Детей она больше иметь не будет.
После той сцены Настя чувствовала себя избитой. Муж пальцем ее не тронул, но тело болело, не слушалось, ноги подкашивались, а руки не могли удержать карандаш или вилку. Митя извинился. Сказал, что сожалеет.
У них и раньше бывали ссоры, они дулись друг на друга сутки, много – два дня. Примирение было таким счастливым, что ради него стоило почаще ссориться. Митя обнимал ее и говорил что-нибудь вроде того, что он большой идиот, а она маленькая-маленькая идиотка. Нет, возражала Настя, не честно, ты и так везде большой, у тебя сорок шестой размер ноги, а у меня тридцать пятый, поэтому пусть хоть идиоткой я буду громадной, а ты маленьким глупеньким несмышленышем. Через несколько месяцев они вспомнить не могли: из-за чего мы на майские поругались?
Митя сказал, что сожалеет. Настя бросилась к нему со всхлипом, обняла. Ждала, что он сейчас скажет что-нибудь смешное, поднимет ее, закружит… Митя отечески похлопал ее по спине и спросил, что у них на ужин.
Никому из своих приятельниц Настя не могла рассказать о случившемся. Она всегда держала марку. У нее идеальная семья: восхитительный муж и прекрасный сын. Настя Медведева благородна, изящна – аристократична. Она не ноет, не плачется, не жалуется на жизнь. Как ее мама. Настина мама считала унизительным пожаловаться даже на мозоль.
Марфе поплакаться? Но Марфа – это таблица сложения, умножения в лучшем случае, для нее квадратное уравнение психологических семейных вывертов – блажь. Чего Насте неймется? Сыночек любимый Митяй (у Марфы все любимые) при хорошем заработке, а дом их при достатке. Митяй добрый и покладистый. Вот только не много ли за воротник закладывает? Много! Если бы Митя не был с похмелья, той безобразной сцены, возможно, не случилось бы.
До отпуска Марьяны, которая привезла на ленинградскую дачу троих детей, Настя ходила избитой. Марьяне можно было рассказать все.
Они уложили детей, забрались с ногами на диван, свет не включали – белые ночи.
Марьяна выслушала и сказала задумчиво, будто припоминая что-то свое собственное:
– Мужики… они такие.
– Все мужики? – спросила Настя, слегка обиженная тем, что Марьяна обобщает.
– Обо всех судить не могу. Но Василий, Егор, Митяй и даже Степан. Коллеги Василия. Уникальные личности, гениальные умы, они же тираны и непереносимые монстры в быту. Понимаешь, у них, у настоящих мужиков, есть что-то такое, куда они не хотят никого пускать. Они не скрывают, прямо говорят: «Не лезь, пожалуйста! Очень тебя прошу!» Но разве нас можно удержать? Ведь мы хотим для них самих как лучше. И мы лезем со своими вопросами, советами, пожеланиями. Первая попытка – поражение, но урок нами не усвоен. Нам снова говорят: «Не надо сюда ходить!» Говорят в общем-то деликатно, но именно эту деликатность мы принимаем за пригласительный билет, нам кажется, что тропинка протоптана. Следующий благородный приступ… И мы получаем разряд тока, от которого не знаешь, где земля, а где небо. Тебя раздавили, стерли в порошок и даже не пришли с веником и совком, чтобы тебя с пола собрать, заново вылепить.
– У тебя так было? – удивленно спросила Настя.
Она считала, что Марьяна и Василий летят, скользят по жизни гармонично, точно конькобежцы – не фигуристы, а именно спортсмены на беговых коньках – взявшись за руки, на параллельных дорожках. В спорте так не бывает, там соревнуются, один другого стремится обогнать на финишной прямой. Но у Васи и Марьяны было параллельное скольжение рука об руку.
– Увы! – сказала Марьяна. – Наступать на грабли – национальная забава русских женщин. У меня… у нас, – поправилась, – ведь есть Галя. Когда у нее романтическое приключение, то тишь, блажь и божья благодать. Когда ее бросил очередной любовник, начинается мотанье нервов и шантаж детьми. Я хочу помочь Василию и предлагаю варианты. Он говорит: «Не вмешивайся!» Как не вмешиваться? Ведь мой план великолепен как стратегически, так и тактически! И в этот момент благого порыва я получаю, фигурально выражаясь, оплеуху, после которой без совочка меня не собрать.
– Невозможно представить! – мотала головой Настя. – Василий! Такой всегда спокойный, выдержанный! А он гад!
– Гад в десятой степени! Настя, что мы пьем? Такая лексика пошла…
– Настойку Марфы, клюквенную.
– Сладенькая, но, по-моему, очень хмельная.
– На спирте, у нее провизор в аптеке знакомый. На чем мы остановились? Василий гад в десятой степени. Тогда у Митьки степень вообще зашкаливает.
– Однажды я вещи собрала. Кончилось терпение. За мной комната в Марьиной Роще числится. Уеду с дочкой, пусть он тут сам, сколько можно… Приходит. Чемоданы и узлы увидел, всё понял. Я в шапке на голову натянутой, уши закрывающей. Не смейся только! Шапка – это, я придумала, как шлем, против его волн. У физиков ведь всё волны и волновые теории. Не проговорись! Если Вася узнает про шапку от волн, он три года хохотать будет. Есть у меня шапка! Когда хочу защититься от своей любви к нему и от его ко мне, натягиваю эту шапку.
– Классно придумала! – восхитилась Настя. – Я тоже такую шапку хочу. Нет! Комбинезон, чтоб от макушки до пяток закрывал. Митя действует на все мое тело. Дальше что?
– Вася говорит: «Можешь уехать. Но ты должна знать, что ты – моя единственная женщина, была, есть и будешь. Катись на все четыре стороны!» И дальше очень логично добавил, что если я сделаю хоть один шаг, то он все мои чемоданы и узлы выбросит в окно к такой-то… нецензурной матери. Он редко ругается. Если заматерился, значит, на работе совсем плохо.
– Ты осталась?
– Естественно. Но я осталась красиво! Я ему сказала: «Вынеси мусорное ведро! Вобла, которую вы прошлой ночью поглощали под пиво и научный спор, воняет отвратительно!»
– И он?
– Вынес ведро.
– Это настоящая любовь!
– Ага. Но заодно выкинул и пустые бутылки. У нас их три дюжины накопилось! Каждая, если сдать, девять копеек штука!
– Советские физики не мелочатся. В графинчике еще осталось. Разольем? После Марфиных настоек головной боли не бывает.
– Гулять так гулять! – махнула рукой Марьяна. – Раз пошла такая пьянка, то, внутренне оправдывая себя, как бы желая переключить тебя на иные проблемы, которые, по-моему, давно назрели, я хочу повести речь о том, что, возможно…
– Марьяна, перестань ходить вокруг да около, я усну под твои реверансы. О чем ты ведешь речь?
– О материнской любви. Это страшная сила. Цунами, сель, схождение гранитной плиты – ничто по сравнению с материнской любовью. Задавит – не продохнешь. Клара пихает в рот Эдюлечке кусок за куском. Она его любит безумно, и ее любовь цветет его кормлением. Рациональность, здравый смысл отсутствуют полностью. Думаю, что-то могла бы сделать тетя Нюраня, но это проблематично. У Клары две страсти: кормить сына и ненавидеть мать, муж давно под каблуком. Настя! Еще раз извини за аналогию! У тебя прекрасный сын! Он очень верный! От слова «верность». Илюша верен тебе, отцу, бабушке. Он редкий мальчик! Я же знаю Вову и Костю! Это другие дети. Настя! Нельзя, неправильно не давать сыну продыху! Художественная школа, фехтовальная секция, бассейн, репетитор по английскому, репетитор по немецкому, кружок моделирования, студия бальных танцев… С утра до вечера! А ведь есть школа, где надо получать хорошие отметки, делать домашние задания! Илюша старается тебя не разочаровать, тянет и тянет. Ты видела, как он бросается к бабушке Марфе, когда приезжает на дачу? Потому что Марфа – это свобода! Илья умный и имеет право на выбор, он не должен страдать, миллион раз извини, потому что у тебя больше не будет детей. Дай ему волю, дай ему стать мужчиной! О, ужас! Что наговорила! Ты плачешь…
– Всё правильно… Но что мне остается? Ученики в музыкальном кружке при Доме пионеров. Милые детки, провалившиеся в музыкальную школу на экзаменах, а родители хотят, чтобы они на пианино играли. Пьющий муж, рисующий громадные картины, называемые афишами, которые мне нравятся, а он за это меня презирает. И теперь сложить крылья? Выпустить из-под них самое дорогое, Илюшу? Я сумасшедшая мать, знаю.
– Но тогда должна знать и то, что у сумасшедших матерей здоровых детей не бывает. Он хочет заниматься хоккеем, а ты настаиваешь на плавании и фехтовании.
– Хоккей – крайне травматичный вид спорта, а в бассейне он не утонет. Фехтование – это благородное рыцарство.
– Так ты считаешь, но не Илюша. Митяй пошел по линии наименьшего сопротивления. Сын не жалуется, а мать ребенку вреда не нанесет. Еще какого нанести может! Илюша и Эдюлечка либо превратятся в хлюпиков, маменькиных сынков, либо вас ждет конфликт, война, бунт. Пушкин про русский бунт сказал – бессмысленный, беспощадный. В отношении бессмысленности я бы поспорила, а беспощадный – безусловно. Бунт ребенка против родителей – тот же русский бунт, но в миниатюре.
– Тебе легко рассуждать, у тебя дочь.
– Во-первых, мне Егор достался подростком с такими проблемами, что Макаренко и не снилось. Во-вторых, ты меня совсем уж не исключай из воспитания Володи и Кости. В-третьих, Вероника – еще тот фрукт. У девочек, знаешь ли, тоже свои черти. Не углядишь – превратятся в демонов.
– Что ты предлагаешь конкретно? – насупилась Настя.
– Перестань его водить как первоклашку за ручку в школу, в секции. Он стесняется твоей опеки, твоего страха, твоего постоянного вмешательства в каждый момент его жизни. Это его жизнь!
– Одного по улицам? В транспорте, через перекрестки, в метро?
– Вот именно. Человека можно переводить за ручку на пешеходном переходе, а можно объяснить функции светофора.
– Марьяна! Я не ожидала от тебя такой отповеди!
– Это не я. Это все Марфина настойка.
Поговорив с Марьяной, Настя всегда чувствовала и облегчение, и какие-то изменения в себе, и новый интерес к жизни. Так случилось и в тот раз, хотя Настя ушла спать обиженной, а утром Марьяна выглядела так, словно забраковала весь Настин гардероб. Настя была модницей и трепетно относилась к одежде.
– Ты на меня сердишься? – спросила Марьяна за завтраком.
– Я в процессе выхода из сердения… Так по-русски можно сказать?
– Нельзя, но неважно. Простишь меня?
– Только если ты свяжешь мне на спицах или крючком противоволновой комбинезон.
После того как Марьяна открылась Насте, призналась в том, что в ее семье не всегда светит солнце и бурлят жутко умные разговоры ученых, и Дубна – хоть и оазис, но не рай, от семейных передряг никуда не деться; после того как Настя приняла политику невмешательства в дела сына-подростка и только в письмах Марьяне признавалась, чего ей это стоит; после того как их дружба вышла на новый, высший виток… Марьяна стала приезжать в Ленинград без маски женщины, у которой все хорошо, лучше не бывает. С потухшими глазами, набухшими веками, опущенными уголками губ, вялая и безучастная.