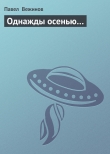Текст книги "Однажды осенью"
Автор книги: Наталья Рузанкина
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Тот день пах дымом, сладким дымом яблочных листьев, что сгорали, содрогаясь, на высоких кострах осенней поры, а небо было нежным, как в апреле, с голубиным отливом, теплым и безмятежным. Он почувствовал чужой дух с порога и застыл, вглядываясь в сонный, солнечный покой полуденных комнат. Умиротворенно тикали часы, пылинки плясали в ликующих лучах, а темный, вкрадчивый сквозняк тронул душу, ледниковый родник забил под сердцем. Как долог был путь наверх, в ее комнату, в святая святых, в медовый рай, где пребывал он долгие часы ночи. Дверь не хотела открываться, словно защищала, берегла его от грядущих часов ужаса и отчаянья, но в конце концов пустила за порог.
В легком полумраке в снеговых глубинах постели, устав от страсти, тонули два тела – ее, будто вылепленное из дивной золотой глины, и дрябло-сизое, раздутое, как резиновая рыба, тело Хозяина.
– Без обид, сынок, – сверкающе улыбнулся Хозяин, закидывая со лба редкие потные смявшиеся пряди, усмехаясь блудливо, по-котовьему. – без обид, малый! Красивая баба – как куст цветущий, каждый понюхать хочет… Или стреляться будешь?
– Не будет, – засмеялась, как хрусталь разбила, дивная заморская птица. – Какую уж неделю… отродье свое собачье по живодерням ищет.
– Бабу не трожь, – лениво пережевывал Хозяин слова, прихлебывая из высокой оплетенной бутылки. – Узнаю, что обозвал или прибил – самого прибью. Не тебе одному… с царевнами спать. Или вот что… – по-свойски, по-доброму прищурился он. – Я ее у тебя арендую! – и захихикал, вертя головой на жирных плечах, в восторге от собственной выдумки. – Заберу ее, у меня поживет, а ты во Владик смотаешься, «Черокки» пригонишь. Согласен?
Черный поток бессилия унес тело, на берегу жизни осталась душа, плачущая, ошеломленная, обворованная душа, одна-одинешенька у кромки сумрачной, предательской земли. Мироздание погибало, планеты и галактики пожирала черная, хохочущая тень, и над всей этой смертью всепобедно сиял позолоченный, фарфоровый лик Царевны…
Всхлипнув, рванулся в сторону, пистолет выхватил, стеклянный, рассыпчатый крик ее осколками разрезал воздух. Хозяин поднимался, оплывший, косоплечий, с дряблой студенистой полуженской грудью, смотрел темно, усмешливо. Какая-то страшная черная радость плескалась в лице его.
– Давай, сынок, давай, – тихо-весело Хозяин наступал на него. – Завтра же костей не найдут, стреляй! Из гадюшника вылез, хату отгрохал – на мои! Тачки менял, баб в шампанском мыл – на мои! На ней вот женился… – Хозяин круто, смачно сплюнул, выругался весело, от души. – Кем бы ты был без меня…
Дрогнула рука, пуля раскрошила глиняный подсвечник, а он уже летел с лестницы, не смея и не умея убить, и проклинал себя за это неумение.
«Под сердце она тебя ударит…»
Постоял, шатаясь, в кухне, поискал безумными глазами мать – не было, – вздохнул, всхлипывая, обреченно. Пил три дня в квартире у друга, кричал по ночам, ибо снилось пережитое, и тогда-то ласковой домашней кошкой поселилась под сердцем боль, мурлыкая умиротворенно, призывая забыть минувшее и тут же вгрызаясь в еще кровоточащую рану.
Сегодняшним утром он вдруг понял, как избавиться и от пережитого, и от боли, и торжественная, тихая ясность на краткое время снизошла на душу. Он даже улыбнулся слегка: как это раньше такая простая мысль не пришла ему в голову, и направил свой автомобиль сюда, на берег крохотного лесного озера, в невозвратимо далекую пору убитого Хозяином, который теперь убил и его душу.
* * *
Он сидел, откинувшись, созерцая сквозь стекло серое, тревожное озеро, невообразимо красивое в рыжей, рдяно-алой оправе леса, он созерцал озеро и сражался с болью. Домашней, соскучившейся по ласке кошкой была боль, уютно мурлыча, она прыгнула к нему на грудь и вцепилась в сердце. Он не мог оторвать ее от себя, не мог избавиться от нее, ибо знал: вслед за ней придет великое вселенское равнодушие, имя которому – смерть. Он еще цеплялся за мир, цеплялся памятью, в которой, как драгоценные осколки жизни, вспыхивали лучшие часы и дни его. Полузатопленный до горизонта луг в желтых сполохах калужниц, школьный бал и первый поцелуй глазастой молчаливой девочки, ласково прозванной «котенком», теплый, торжественно гаснущий августовский вечер, мальвы в палисаднике и мать на крыльце, перебирающая яблоки. Странно, но города не было в этих видениях, не было тоскливой общежитской бесприютности и дешевой любви, не было всех «стрелок» и кутежей, в которых он участвовал, как будто кто-то свыше счел эту часть его жизни недостойной воспоминаний и теперь, как в волшебном кинотеатре, показывал только то, что действительно имело цену.
На мгновение он забылся, погрузившись в это солнечное, незамутненное, как вдруг, затмевая первозданную чистоту прошедшего, вылепилось в памяти лукавое лицо Царевны-Лебеди, прекрасное и проклятое, и позолоченное тело ее, содрогающееся в объятиях Хозяина.
Боль мурлыкала, ласково вгрызаясь в сердце; он разбил в кровь лицо и руки о руль, пытаясь избавиться от нее, а потом заплакал отчаянно и горько, как в рассветном утреннем детстве, моля о помощи, призывая мать, ибо лишь в великом страдании вспоминал о ней. Он вспомнил вдруг ее смущение, ее молчаливость и странную безропотность, маленький горбик за плечами и застиранный халат (из денег, щедро выдаваемых «на хозяйство», она стеснялась хоть малость потратить на себя), темные улыбчивые глаза, лучистое лицо… В эти страдальческие мгновения он вдруг понял, как чудовищно мерзок был с ней все эти годы, с какой жестокостью хлестал словами, будто огненными плетьми; как будто в светлой чистой горнице с солнцем, цветущим в окнах, оставил он грязь и мерзость, и теперь содрогался при мысли об этом. Он понял над этим сверкающим осенним озером, грозным и прекрасным, ту силу, ту лучезарность, что носила она в себе, и вспомнил имя этой силы – Любовь, но времени, его земного времени уже не оставалось, и он почувствовал весь ужас невозвратимого.
Он плакал, глядя на серую, с ртутными искрами, тихую и величественную воду, и позолоченное, разметанное в страсти тело Царевны-Лебеди вновь засияло перед ним. Он не думал, что боль может быть такой хищной и неотвязчивой; воспоминания об увиденном и мука раскаяния, вины перед матерью переплелись в нем, и он воззвал, как тогда, на ледяной осенней дороге: «Защити меня!», и вдруг невообразимо захотел оказаться в детстве, под теплыми ее руками на плечах, на туманном лугу, под розовеющим, с рассветной звездой, небом. Они собирали травы на заре, так давно, тысячи лет назад, и он, окунаясь по плечи в росу, цеплялся за синий ситцевый передник, зачарованно следя за золотой звездной каплей над головой. Он захотел вернуться на этот луг, дышать горечью цветов и тумана, смотреть на утреннюю звезду, приникая лицом к родным темным рукам, к застиранному переднику, и понимал, что это невозможно, что времени больше нет. Что-то темное и беспощадное было рядом, следило за ним тысячелетними глазами, что-то сковало его сердце смертным холодом, не давая вздохнуть, и вот сквозь легкую пелену вдруг внезапно начавшегося дождя он увидел прямо перед ветровым стеклом женщину неописуемой красоты, смотрящую на него сквозь дождевые струи. В глазах ее как будто навсегда замерз черный огонь, безмерное, беззвездное одиночество и печаль излучали они и приказывали умереть.
«Не бывает… – цепенея, думал он. – Так… не бывает».
Женщина улыбалась, и в глазах ее сияли мертвые тысячелетия.
Он вызвал в памяти детство, туманный луг на пороге рассвета, он вновь воззвал: «Защити меня!», но луг померк, померк и образ матери, а страшная сказка осталась. От улыбки ее в алмазный прах рассыпались стекла, и дождевые струи хлынули на колени, и он услышал шепот ее, вкрадчивый, тяжелый и влажный, как воздух вокруг:
– Не трудно… Это совсем не трудно, ты попробуй.
Мурлыча, кошкой замерла под сердцем боль, голубые, гжелевые глаза Царевны-Лебеди взглянули из невообразимой дали, в последний раз опаляя своей красотой, и вновь заплакал он, раскачиваясь из стороны в сторону.
– Победитель… – прозрачный обволакивающий шепот заполнил все вокруг, женщина с разрушительной улыбкой стояла возле и читала его мысли. – Она думает, что выбрала победителя, но только тот, кто преодолевает ужас смерти, воистину называется так…
Он кивал, ознобно вздрагивая, не в силах говорить, его одежда тяжелела под ударами косого слепящего дождя, залетающего в кабину. Тот, что преодолеет ужас… Тот, кто преодолеет…
Он вдруг припомнил Хозяина, белого, голого, безобразного Хозяина, похожего на чудовищную беременную рыбу, там, в солнечном пении комнат любимого дома, возле позолоченного тела Царевны, и тихо засмеялся, размахивая сбитыми в кровь руками. Нет, Хозяин никогда не будет победителем, при всей внешней мощи и ярости до конца дней своих он останется лишь вором, грязным крысятником, способным украсть деньги, дом, женщину, но никогда, никогда не посмеет переступить порог, это не для него.
Он улыбнулся в последний раз, вынул из бардачка пистолет и рассеянно-вопросительно взглянул на незнакомку, будто привидевшуюся в дивном сне.
– Ты сможешь, – ласково кивала она, шепот ее был летним, прогретым насквозь ручьем, а беспощадные глаза холодно и спокойно смотрели на него, – ибо ты – победитель…
И тогда он спустил курок, и мир кончился, и дождь умер вместе с миром, и ледяная, жгуче-льдистая лазурь поглотила его, но где-то на дне этой лазури еще шевелилась, вздрагивая, боль.
* * *
Боль окончилась, лазурь отступила, и он вышел на поляну, ослепительную и печальную в своей красоте. Бирюзовые, чуть заснеженные легкими облаками небеса сияли холодно и спокойно, под ногами дрожало живое золото листьев, розовый прозрачный огонь бересклета волновался от легкого ветра…
Все это приметил он сразу (пот предсмертного ужаса все еще стекал по лицу его), а потом увидел Тех Двоих, в тихом торжественном покое, лиственном дыхании и золотом величии. Угроза исходила от женщины, от странно-знакомого, темного, обволакивающего взора, от злого и скорбного лица ее с печатью горькой красоты; спутник ее был – сплошной свет, светились его руки, лицо, самоцветным сиянием вспыхивали одежды и лиственная корона. Корона была и у женщины, но иная – из лилий убитого озера, запахом свежести и ветра, воздухом озерной воды повеяло на него, и тогда он понял свою смерть. Убитое озеро было и во взгляде женщины, и сожженные леса, и погубленная земля, и многое было в том взгляде, переполненном ненавистью до берегов, ненавистью, схожей с ночным пасмурным небом. Они медленно шли к нему – осенняя черная ночь и золотой ослепительный день, и сердце его, умершее для того мира, затрепетало в этом от невиданной древней мощи и надмирной красоты. Женщина была местью и болью, спутник ее – радостью и милосердием, и он обернулся, замирая, к этому милосердию и спокойной радости, ища защиты и сострадания.
«Цари, – вдруг подумал он, и медленные золотые листья потекли с необъятного неба, и огонь бересклета подступил к самым ногам. – Истинные цари».
– Он признаёт нас царями, – устало улыбнулся мужчина. – Разве победитель бы признал? Прости его.
Он поклонился, содрогаясь, в этом странном своем Предсмертии и опустился на колени в теплый золотой свет, струящийся от рук и одежды Повелителя.
– Прости его, – повторил мужчина, и в голосе его запело золото осенних тысячелетий. – За одно сожженное озеро – можно. Иначе мы не сможем вернуться и никогда уже не станем прежними владыками. Нам нужно научиться прощать.
В лице женщины переливалась игра светотени – то оно было темным, как речная пучина, и тоскливо и странно взирали глаза из этой темноты, то оно лучилось светлой, почти рассветной чистотой и скорбью, и взор был росистым взором ребенка, обиженного до смерти и пришедшего отомстить.
«Как она может отомстить? Ведь она уже убила меня…» – как сквозь полночный глухой сон подумал он, а живое золото света заколыхалось вокруг сильнее, пока он впитывал остановившимся сердцем запредельное, дивное, что и не рассказать на земном языке – невесомый абрис тысячелетнего лица, высокие скулы, и каждую малую черточку, совершенней которой и не придумано в мире человеческом, и губы – скорбные, обметанные ветром и горем, и теплые, вздрагивающие крылья ресниц над погибелью глаз – двух провалов в страдание и одиночество.
По сравнению с этим беззвездным одиночеством, с этой дивной, древней и вечно юной совершенной красотой и печальной прелестью забылись, затянулись, как следы на речном песке, все любови того мира, и сама Царевна-Лебедь показалась кафешантанной девкой.
Эта мстительная и запредельная красота за мгновение, казавшееся вечностью, излечила его от той, земной и плотской, и вместе с наплывающим ужасом он почувствовал освобождение, освобождение от жаркой памяти по той, которая предала его. Но красота эта сама была на краю гибели, ненавидящая и незабвенная, как ничто на свете, она никла, льнула к золотому свету Повелителя, и в лице ее, схожем с сумрачной страной, дрожала потаенная мольба.
– Я счастлив, – прошептал он. – Счастлив так странно, смутно, посмертно. Я увидел… – рыдания захлестнули его горло, но Повелитель услышал и обернулся к спутнице.
– Невероятно, но он счастлив, что ты убила его, ибо обрел то, что так мучило и печалило его на земле…
– Отдай мне птицу, – нехотя-вкрадчиво попросила женщина, но ее темный и ровный голос таил в себе бездну. – Отдай, – с каким-то настойчивым, капризным злом повторила она и сделала шаг в золотой свет, как бы растворяясь в нем.
– Ты ведь знаешь, что это невозможно, – с лукавой грустью и нежностью ответил ей Повелитель, смотря в глаза ее – живую погибель. – Эта маленькая светлая пичуга – твоя плата за золотой билет. Она скоро вернется вновь в предназначенную ей плоть и запоет по-новому…
Золотой огонь стоял вокруг него, и пропало в этом лиственном, шелестящем огне видение убивающей красоты, женщины с сумрачным лицом. Теперь только сияние было впереди, и руки выступали из этого сияния – добрые, сильные, величавые руки, и одна сжимала увитый осенними цветами посох, а на запястье другой сидела светлая, светлая, светлее самой руки, почти прозрачная странная маленькая птица, еле подрагивая крыльями. Она, казалось, засыпала, тихая, будто тающая в теплом золоте слабая птаха.
Но вдруг он понял, понял в одно мгновение, так схожее с вещим озарением: не было и уже не будет во всех жизнях его ничего дороже этой вот малой птахи, слабой, полусонной и все же такой неугасимо светлой, родной. Он понял, что если она вдруг, по нечаянной случайности, вырванная из этих добрых, величавых рук, погибнет – не станет ничего. Не станет этого мира, почти покинутого, но такого близкого и любимого теперь, за великим Порогом, не станет Вселенной с ее звездами и мириадами других миров, которых он не знал, и – самое невыносимое – его не станет. Вовеки.
Это «вовеки» темным разрывом вспыхнуло в сердце. Ужас верховного конечного небытия настиг его и поразил, небытия не плотского – ибо страдающая плоть его почти умерла, – духовного небытия, ночи без края.
– Отдай мне птицу, – казалось, звучало отовсюду.
Он зажмурил глаза, приготовившись к вечной ночи, но самая спокойная и сильная рука легла на его плечо, и тогда он осмелился поднять взгляд на то лицо, что недавно скрывал сплошной свет. Бесконечно усталым было то лицо, темно-бронзовым от сияния осени, насмешливым и властным, ребяческим и мудрым одновременно. Тонкая, еле уловимая печаль и спокойное неистребимое мужество сквозили в каждой черте его, а серые, просторные глаза излучали сострадание. Он лишь на миг поймал серый взор Повелителя и услышал шум прекрасной неведомой страны – переливчатый плеск водопадов и шелест альпийских лугов, звучание живых, удивительно близких звезд, одинокую песню ночных гор и розовый оркестр ликующего утра. Дивное видение, как зарница, мелькнуло и кануло в небытие, и он, пораженный ликующей радостью и гармонией страны, откуда пришел Повелитель, опустил голову.
– Возьми, – услышал он голос тихий и глубокий, который наполнил его неведомым присутствием Чуда, и увидел птицу, трепещущую в вечных ладонях. – Она улетела недалеко, и ее удалось поймать. Возьми и не позволяй покидать ей тебя до назначенного часа. Помни: никакая любовь на свете и во тьме не стоит ее…
Он принял ее дрожащими руками и спрятал под куртку, и забилась она крохотным теплым комочком у остановившегося сердца, а затем забилось сердце, а ее не стало, ибо слилась она с плотью, которой была предназначена. И ничего вроде не произошло, но ярче, до боли в груди, припомнил он вдруг оставленный дом, его витые солнечно-желтые лестницы, сонных голубей на карнизах, доцветающие георгины в палисаднике, и еще – старую маленькую женщину, что наверняка по-прежнему пугливо-осторожно ходила по великолепным комнатам в тоскливом ожидании сына. Не было больше Царевны-Лебеди – ни в памяти, ни в сердце, не было ее страшного, сонного равнодушия и взгляда, лукаво-неуловимого. Вместе со светлой птахой, вернувшейся в грудь, сердце заполнилось только это женщиной, некрасивой, застенчивой, так тихо и всепрощающе любившей всю его нелепую жизнь.
– Мама… – осторожно-негромко, будто в первый раз вслушиваясь в слово, проговорил он. – Мама! – вдруг закричал он от страшной тоски по ней, как далеком-далеком детстве, и заплакал в золотой свет.
– Родился во второй раз, да с самым важным словом! – засмеялся сероглазый Повелитель. – А ты: «отдай душу-птицу»! Да ты видишь, какой она оказалась!
– И все же отдай… – октябрьский ветер ее голоса вкрадчиво холодил все вокруг. – Она и так почти мертва, она разучилась летать и никому не нужна. Никто не любит ее так, чтобы отдать за нее свою жизнь, никто на свете, а ведь это главное условие воскресения. Душу за душу, жизнь – за возвращение из смерти.
– Любят… – устало-светло улыбнулся Повелитель одним взглядом. – Как мало ты еще знаешь! Взгляни…
Средь сквозной березовой листвы-желтизны, средь бересклетового покоя лег вдруг холст света, не из этого мира, холст скудного, земного, дрожащего, но живого света. В бледной полосе его на коленях стояла женщина, сгорбленная не то от старости, не то от невыносимого бремени, лежащего на плечах, крытых рваной цветастой шалью. Светлым, как зарница над лугом, было лицо ее, и страдание и надежда переплелись в мягком золотом взгляде молящих глаз. Женщина что-то шептала, шептала невнятно, сбивчиво-горячо, и слезы сбегали с увядших щек ее, и сама она казалась бы жалкой и тонущей в безбрежной утрате своей, если бы не дивная сила любви и мольбы, исходящая от каждого взора ее, движения и жеста. Казалось владыкам, что разорвется сейчас призрачная грань, отделяющая скудную земную жизнь от великого предсмертия, и хлынет в их мир этот поток материнской любви и материнского же страдания. И ближе подошли владыки, оставив обессилевшего, прошедшего Предсмертие человека, что воссоединился с Птицей-Душой и плакал теперь громко и отчаянно, глядя на ту единственную, любившую и любящую. Ближе подошли владыки и услышали слова мольбы:
– Душу мою и жизнь возьми Ты, что скрыл его, но верни на свет Божий сына моего, дай пожить ему на земле – не жил он еще. Душу мою и жизнь возьми…
Дрогнув, растаял холст скудного земного света, и вновь вокруг – ослепительное лиственное сияние.
– «Душу мою и жизнь возьми…» – задумчиво повторил Повелитель. – Вот так они, оказывается, любят здесь, на земле… Ты плачешь?
– Если бы мы любили так, мы бы никогда не ушли… – женщина отвернула лицо. – Ладно, проводи его, только не стоит… Не стоит он этой любви.
– А это уж решать той, кто любит…
Женщина с дождливыми волосами осталась позади, в росистом облаке, а спасенный с Повелителем пошли по узкой, в рубиновых листьях бересклета, тропе, но долго оглядывался спасенный, как бы запоминая сумрачную, тревожную красоту дочери горнего мира.
Рубиновая тропа внезапно кончилась, осенний воздух обрыва сияющей дымчатой громадой переливался впереди. Рыжие кручи нависли над знакомым озером, на невыносимо далекой песчаной косе облетевшим шелковым листом скучал автомобиль.
– Отсюда, с обрыва, начинается твоя вторая жизнь, – тихо сказал Повелитель. – У тебя в груди теперь – живая душа, но выход из предсмертия, выход к той любви тоже нужно заслужить. Ты не побоялся нажать на курок, отвергая первую жизнь, не испугайся теперь и обрыва, принимая вторую.
Переливающийся, лазурный воздух клубился у ног человека, на дне дымчатой, блистающей громады он увидел уже не затихшее озеро, а лицо матери с непросохшими дорожками слёз на щеках. Повелителя теперь не было возле, лишь золотой отсвет реял там, где стоял Владыка утраченного.
И тогда, как в невообразимо далеком лучистом детском сне, раскинув руки, как крылья, он бросился в ледяную лазурь.
Полет кончился, тело отяжелело, впитывая ознобный покой осенней земли, рыжая пожухлая трава шелестела над ним, выше – в небе, из которого он шагнул только что, – трепетала какая-то птица. Он лежал навзничь в своем саду с полуоблетевшими яблонями, с куртинами отцветших георгин, а неподалеку ждал его дом, родной, солнечный, причудливый, и «Форд» цвета кленового листа сиротливо дремал в полуоткрытом гараже, будто и не было той страшной дороги к осеннему озеру, смерти и возвращения из смерти. Но все это было, и в памяти его, как в потаенном ларце, вспыхивали невообразимой красоты лица двух владык прежнего мира…
Возвращенная птица забилась у самого горла, и он, положив ладони на грудь, испугавшись, что отлетит вновь, взбежал по скрипучим поющим ступеням и распахнул дверь. Мать сидела за шитьем, сгорбившись, как тогда, в тот страшный день восемь лет назад, некрасивая, исхудавшая, только не в скудной деревенской комнате, а в богато убранной зале, и лицо ее светилось, как восемь лет назад, зоревым светом любви и всепрощения. Вот она подняла взор и негромко, всплеснув руками, вскрикнула.
– Прости меня, – тихо сказал он, почти физически ощущая, как то темное, тяжелое, что воздвиг он между ними глубинной злобой своих слов, стало таять, тлеть, рассыпаться в прах, а рассветные лучи ее робкой улыбки – озарять все вокруг. – Прости… мама.
* * *
По-прежнему, будто не с деревьев, а, казалось, с безмятежного неба медленно текли листья, но смеркалось понемногу, вкрадчиво, как это бывает осенью, и двое стояли на пляже, вслушиваясь в их шепчущий поток.
– Эта история закончена, – вздохнул Повелитель леса, смотря в глаза спутнице. – Люди мастера создавать истории, они интересней нас. Может, потому они и смертны.
– Ты восхищаешься ими?
– Иногда… Знаешь, среди них попадаются удивительные создания, взять хотя бы эту женщину, мать нашего бедного самоубийцы… Но тебе пора.
– В самое ослепительное место в подлунной? – пробовала улыбнуться она.
– В место нашего возрождения и возвращения. Оно уже ждет и зовет тебя, ты слышишь?
Будто отдаленный шум водопада, смешанный с дивным пением птиц, послышался сквозь сплетенные ветви, а сумрачное лицо женщины осветилось восторгом предвкушения Чуда.
– Иди на этот раз, – повторил Повелитель. – Путь будет долгим, но в конце пути ты увидишь невиданное и узнаешь неведомое. Ты увидишь Высшую Радость и начнешь иную жизнь, освобожденная от плача и боли, очищенная от ненависти и вражды. Ты будешь готовиться к возвращению и воцарению, совершеннейшим из творений станешь ты наяву, и взгляд твой больше не будет приносить смерть…
– А ты?
– А я займу трон сбежавшей королевы, и, уж так быть, доцарствую в октябре. Преудивительный, кстати, месяц, и в нем можно найти красоту… А потом стану одним из них. До следующей осени.
Она шагнула вперед, но остановилась на полушаге-полувздохе, и ее взор из ребячески-восторженного вновь на миг стал скорбным и тяжелым.
– Тебе не простят.
– Я стану одним из них и буду ждать вашего возвращения. О, как я буду ждать! Согласись, ведь неинтересно возвращаться туда, где не ждут, не зажигают огня на берегу. Вот и я буду вашим огнем на берегу. В путь, родная, тебе нельзя медлить. Вот и первая звезда как раз взошла в той стороне, где плещет водопад и поют невиданные птицы. Я буду вашим огнем на берегу и стану одним из них, постараюсь узнать их страсти и привычки… а когда вернетесь вы – стану их адвокатом. Ибо им нельзя мстить, как неразумным детям, ибо они отмечены свыше. Отмечены любовью… Прощай.
– Подожди… – женщина стояла у стены шумящего леса, первые бледные звезды вспыхивали над ней в потемневшем небе. Минуту она смотрела на него молча, сквозь густеющий сумрак, потом запрокинула лицо к этим бледным, холодным звездам, и шепот, сильнее грома, разорвал вечерний октябрьский воздух: – Пусть не будут ни жизнь, ни душа моя бессмертны, если что случится с тобой на земле. Пусть погибну я в день, когда забудешь ты меня средь дочерей человеческих…
Лес поглотил ее, и звон серебряных шагов долго таял в торжественной замершей чаще. На мгновение замер и он, замер, как эта осенняя чаща, как бледные звезды над заповедным путем той, что, оказывается, тоже была отмечена любовью. Она любила его, когда упрекала в предательстве, когда говорила о ненависти и возмездии, когда убила того несчастного, спасенного им, когда жестоко и холодно требовала душу погибшего. И с этой ненавистью, как бессмертный древний огонь, тлеющий под пеплом прошлого, она была все-таки совершеннейшим из творений наяву, ибо была отмечена любовью. Любовью к нему.
До зари, оцепенев, все еще слыша дивные слова ее, просидел он на пляже, и деревья, и пожухлая трава, и увянувшие цветы говорили вокруг него. Они говорили о той, которую он так и не понял, о той, что соединила в себе Тьму и Свет, Жертвенность и Месть, Горчайшую Любовь и Бездну небытия. С первым лучом по-осеннему печального солнца он задумчиво оглянулся. Надо было заново обходить свои владения.