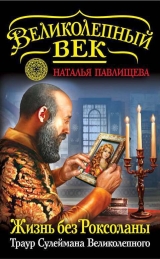
Текст книги "Жизнь без Роксоланы. Траур Сулеймана Великолепного"
Автор книги: Наталья Павлищева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Наталья Павлищева
Жизнь без Роксоланы. Траур Сулеймана Великолепного
Мне без тебя целый мир пуст…
Но если и в раю тебя не будет…
В раю… Нет, он не желал смерти, не ждал ее, просто хотел знать, что встретятся в вечности.
Нельзя об этом думать, тем более Тени Бога на Земле, главе всех правоверных. Нельзя, но Сулейман думал не о рае, а именно о встрече. Даже скорее о том, там ли его Хуррем.
У греческих язычников была легенда об Орфее, спустившемся за своей любимой в ад, бывали минуты, когда Сулейман задумывался, какой же должна быть женщина, чтобы ради нее совершить такое. И в глубине души задавал себе вопрос: а я смог бы?
Бежал от таких мыслей, подумав об этом, подолгу читал Коран, молился… Но то, что однажды поселилось в душе, очень трудно оттуда изгнать, да и не хотелось, ведь это означало бы изгнать саму память о Хуррем…
– Сулейман…
Вскинулся среди ночи – показалось, что позвала своим серебряным голоском, провела маленькой ручкой по щеке, кротко вздохнула рядом.
Она не старилась, словно не менялась с годами, и дело не в отсутствии морщин, бывали женщины и красивей, молодыми у Хуррем оставались душа и голос. Серебряный голос ее словно жил отдельно вне времени, он очаровывал всех. Даже если потом скрипели зубами от ненависти (Хуррем смеялась, что в мире слишком много стертых от скрежета из-за ненависти к ней зубов), слыша этот голосок, подпадали под его очарование.
Ее ненавидели многие, очень многие. За что? Ведьма! Колдунья! Довод один: околдовала султана, опоила, присушила душу. Если бы знали, чем, могли бы сделать что-то в ответ, но не знали, а потому и противопоставить ничего не сумели.
Опоила… Смешно, он месяцами не бывал дома в Стамбуле, по полгода, а то и больше в походах. Ел-пил только из рук доверенных людей, после их пробы. Хуррем уже который год нет рядом, а ночами все равно слышится ее голос.
Вскинулся:
– Звала?
И вдруг понял, что звала. Туда, в вечность звала, к себе. Но Хуррем не могла позвать в ад, значит…
– Значит, в раю, – с облегчением вздохнул султан. Это был последний вздох…
7 сентября 1566 года за четыре часа до рассвета закончилась земная жизнь султана Сулеймана, прозванного дома Кануни – Законником, а в Европе – Великолепным, потому что сумел поднять Османскую империю на недосягаемую высоту.
А вокруг, бдительно охраняемый стражей, спал воинский стан. Султан Сулейман умер пусть не в бою, но в походе, как полагалось настоящему султану.
Порядок в империи устанавливался одновременно с самой империей.
Сулейман был десятым султаном, который получил сильную страну с установившимся порядком почти во всем. Европейцы прозвали его Великолепным, а время правления – Великим, а османы – Кануни, то есть Законником, Блюстителем законов и обычаев.
Он таковым и был, соблюдал законы шариата, чтил все писаные и неписаные законы своего народа и государства и только в одном случае, не колеблясь, нарушал их – если дело касалось зеленоглазой колдуньи, захватившей сердце молодого султана с первой минуты и навсегда.
Даже через несколько лет после ее смерти Сулейман принадлежал ей, Хуррем, как прозвали ее в гареме, Роксолане, как называли в Европе, Насте, как звали на родине. Сердце не смирилось с ее уходом в небытие, память держала образ при себе.
Не проходило дня, чтобы он не вспоминал, не думал о том, как поступила бы, что сказала, что подумала Хуррем. С каждым годом, с каждым днем Сулейман становился все более и более одиноким, все чаще заново вспоминал всю жизнь со своей Хуррем, каждый день, миг, которые цепко берегла память.
Без нее он был бы иным, возможно, лучше, возможно, хуже, но если бы Сулейману позволили снова прожить жизнь, он снова обратил бы внимание на эту зеленоглазую любознательную хохотунью, ни за что не прошел мимо, чего бы это ни стоило.
Которая ночь подряд оказалась бесконечной. Неизвестно, что с ними произошло, но Сулейман подозревал, что это только для него Аллах сделал ночные часы в тысячи раз длинней, а рассветы отодвинул от закатов на гораздо большее количество часов, чем обычно.
Все остальные спали и часов не считали, напротив, однажды султан услышал, как одна юная рабыня сетовала другой, что с тех пор, как она познала своего Хасана, ночи стали вдвое короче. Ее мудрая собеседница фыркнула, сказав, что это до тех пор, пока кто-нибудь не узнает об их встречах или Хасан не подарит глупышке ребенка.
Когда совсем не спалось и позволяла погода, он уходил в сад и подолгу сидел в их с Хуррем любимом кешке, наблюдая, как над Стамбулом разгорается заря нового дня. В душные ночи над Босфором повисал туман, закрывая от султанских взглядов противоположный берег. Наконец, креп ветерок, а первые лучи солнца на востоке робко, а потом все уверенней окрашивали облака и сам туман в нежно-розовый, словно варенье из лепестков цветов, оттенок.
Туман исчезал вдруг, и Стамбул появлялся из него, как волшебное видение. Что может быть прекрасней?
Хуррем тоже любила смотреть на просыпающийся город… Слушала, как над городом плывет первый призыв муэдзинов к молитве, как где-то далеко-далеко оживает Петра – противоположный берег Золотого Рога, рассветную тишину один за другим прорезают звуки обычной городской жизни – голоса людские и животных, скрип открываемых дверей, плохо смазанных колес, стуки, плеск воды… Немного позже все это сливалось в один немолчный шум огромного города, и отдельные звуки уловить бывало уже невозможно.
Хуррем любила…
Сулейман тоже любил слушать свой город на рассвете, но, пока был молод и силен, это удавалось редко: то отсутствовал, будучи в походе, то просыпался так, что едва успевал встать на рассветную молитву.
Теперь в походы не ходит, по ночам его никто не отвлекает почти до рассвета, казалось бы – спи вволю, но не спится, вот и встречает Повелитель рассветы в кешке в одиночестве. Одиночество – страшное наказание, это вообще наказание – пережить любимых людей. Не только Хуррем, но и мать, сыновей, Ибрагима… Каждому уготовлено Всевышним свое, каждый должен пройти свой путь, нельзя роптать или сомневаться в мудрости Аллаха. Сулейман не роптал и не сомневался, но сколь же длинным был этот путь в конце, в одиночестве!
В такие ночи он вспоминал еще настойчивей, словно сами мысли о Хуррем могли вернуть ее на землю, в этот сад, в этот кешк, к нему в объятья.
Когда Сулейман стал султаном, у него были трое сыновей, две кадины и много наложниц. Сулейман даже не знал, сколько, этим занималась валиде, это ее вотчина. В честь превращения из шехзаде – наследника престола – в Повелителя, султана Османской империи, Тень Аллаха на Земле, и переезда в Стамбул подарили много новых. Ему было все равно, даже подарком любимого друга, бывшего раба, а ныне ближайшего соратника Ибрагима, не заинтересовался: не до красавиц.
И не заинтересовался бы вообще, все произошло нечаянно, просто услышал, как чистый, словно серебряный колокольчик, голос читал стихи о раненном любовью сердце. Почему-то это поразило в самое сердце, забыть не смог голосок. Потребовал привести новеньких, хотелось снова услышать этот голос, увидеть ту, которой он принадлежит.
Их собрали в большой комнате, в углу посадили музыкантов, на диване среди подушек устроился сам Сулейман, почему-то мрачный и молчаливый, на соседнем валиде-султан, кизляр-ага суетился, как курица-наседка, стараясь, чтобы все было правильно. Только, как правильно, не знал никто, султан никогда не просматривал новеньких вот так. Ему все равно, новая ли наложница: ведь, взяв однажды, он редко запоминал их. Как можно запомнить женщину, если их перед тобой сотни?
– Повелитель позволит показать девушек?
– Какая из них пела?
Хафса с изумлением смотрела на сына, а кизляр-ага снова засуетился, выводя вперед невысокую девушку:
– Вот она. Хуррем.
– Когда Повелитель успел услышать ее пение? – валиде поинтересовалась шепотом.
Сулейман усмехнулся:
– Ночью пела, когда даже соловьи спят. А еще стихи читала. – Он встал и подошел к девушке ближе. – Мне прочтешь?
Роксолана чувствовала, что готова свалиться без чувств прямо здесь. Ей стоило большого труда взять себя в руки, просто поняла, что это единственный шанс побыть рядом с Повелителем хоть миг, хотя бы те минуты, пока читает стихи. Вскинула голову, подняла на него зеленые, полные слез глаза и прочитала:
Не лови ту газель, которую гонит лишь страх.
Ни к чему тебе птица, застрявшая в тонких силках.
Излови соловья, выводящего трели на ветке,
Но такого, какой не познал еще плена и клетки.
Сулейман усмехнулся:
– А что там было про сердечко?
Губы Роксоланы чуть дрогнули. Повелитель запомнил стих?
Повторила. Снова потупилась, силясь не залиться слезами. Он поднял ее лицо за подбородок:
– А плачешь чего?
Хотела сказать: от любви, но не решилась, только посмотрела и одним взглядом все сказала.
Валиде не поверила своим глазам: Сулейман… покраснел! Повелитель, перед которым трепетала половина мира, покраснел, едва глянув в залитые слезами зеленые глаза своей наложницы! О, Аллах! Они переглянулись с кизляром-агой, словно спрашивая: не снится ли?
А Сулейман, смутившись, вдруг попросил:
– А… танцевать можешь?
Сказал, только чтобы что-то сказать, чтобы не стоять столбом перед этой девчонкой, которая ему по плечо, не краснеть от слез в ее пронзительно-зеленых глазах.
– Да.
Прошептала, не в силах произнести громче. Уже внутри поняла, что если отвергнет, то завтра в петлю. А где-то в глубине души знала другое: не отвергнет!
– Ну, так танцуй! – выручила смутившегося сына мать.
Султан остался стоять, глядя на нее, такую маленькую, сверху вниз.
Роксолана кивнула, музыканты затянули мелодию. Ей бы скинуть халат, остаться в одних шароварах и полупрозрачной полоске, скрывавшей грудь, заходить бедрами, как учили еще в Кафе, чтоб пожелал Повелитель заключить эти бедра в объятья своих ног (так твердила им Зейнаб!). А она вдруг… повела плечиком и поплыла лебедушкой! Ногами перебирала мелко-мелко, отчего казалось: не идет, а плывет над землей. Глаза опустила долу, бровями чуть дрогнула, ручку отставила – лебедь она и есть! И золотистые волосы, скрывшие всю спину…
Если и мог выбраться из любовного омута Сулейман, то после этого совсем нырнул в него, не оказывая сопротивления.
– Приведешь ко мне, – бросил кизляр-аге почти на ходу, самому сказать Роксолане, чтобы была готова, не хватило духа, боялся еще раз глянуть в эти зеленые глаза и пасть перед ней на колени прямо там, на виду у всех.
Роксолана растерянно смотрела вслед. Даже имени не спросил! Вот тебе и стихи, вот тебе и танец.
К девушке подскочил кизляр-ага, запричитал:
– Слышала, что сказал Повелитель, слышала? Иди, подготовься. Сейчас же иди!
– К чему?
Кизляр-ага только ручками всплеснул, валиде-султан рассмеялась, поднимаясь со своего места:
– Повелитель тебя к себе позвал. Понравилась.
Хафса была довольна. Все удалось без особых трудов. В том, что эта девочка долго в объятьях Сулеймана не задержится, не сомневалась, но на время мысли султана займет, а главное, мысли Махидевран и Гульфем.
Теперь у них будет соперница. Странная соперница, перед которой покраснел сам Повелитель. Валиде-султан знала, что если промолчит кизляр-ага, то уж видевшие всю сцену наложницы непременно разнесут подробности по гарему. Запретить бы, но она даже кизляр-аге, который попытался сказать рабыням, чтоб не болтали, сделала знак:
– Пусть болтают. У Повелителя новая икбал – Хуррем.
Кизляр-ага не выдержал, снова всплеснул руками:
– Из рабынь в икбал, минуя гезде!
Это и впрямь удивительно – новенькая так понравилась Повелителю, что он выделил ее столь необычным способом.
Но кадина Махидевран не позволила новой наложнице посетить спальню Повелителя; это к лучшему, потому что на следующий день он приказал привести ее к себе как была – не наряженной и не раскрашенной.
Даже теперь, через много лет, вспоминая тот вечер, Сулейман не мог сдержать улыбку…
Он стоял, отвернувшись к окну и прислушиваясь, уже по легким шагам понял, что пришла та, которую ждал, но обернулся на всякий случай с серьезным, почти строгим лицом. И увидел испуганную девочку, просто не знающую, как себя вести.
– Подойди сюда.
Она сделала два шага и остановилась, не решаясь ни шагнуть ближе, ни пасть на колени, потому что он смотрел в лицо.
– Вчера тебя не пустили? – в голосе смех.
– Нет.
– А сегодня ты не причесана… – его пальцы уже касались волос, вызывая у нее дрожь, – не одета…
– Я не успела, Повелитель… Кизляр-ага торопил…
– Я приказал. Пойдем, – сильная рука взяла ее за руку и потянула во вторую комнату. Халат остался валяться на полу в первой.
Это была спальня и, видно, личная библиотека, потому что стояла кровать под большим балдахином, диваны, а на столике лежали книги.
Заметив взгляд Роксоланы, прикованный к фолиантам, Сулейман улыбнулся:
– Читать умеешь?
– Да.
– Любишь?
– Да.
– Садись.
Роксолана присела на краешек большого дивана.
– Где научилась?
– В Кафе.
– В Кафе? Откуда ты родом?
– Из Рогатина. Славянка.
– Это я вижу. А в Кафу как попала?
Она не знала, можно ли говорить, но решилась:
– На наш город татары налетели, в плен захватили, увезли в Кафу. А там уже в школе учили.
– Чему?
– Многому: поэзии, арабскому, персидскому, турецкому, греческому, философии…
– Чему?!
Неужели султан не знает, что такое философия? Ой, зря сказала!
– Мас Аллах! Впервые вижу женщину, которая знает, что такое философия.
– У вас никогда не было наложниц из Кафы?
Он смутился. Роксолана снова обругала себя за несдержанный язык.
Сулейман встал, поднялась и Роксолана, когда Повелитель стоит, сидеть нельзя. Она почему-то не чувствовала себя рядом с ним рабыней, скорее женщиной при старшем мужчине.
Его руки отвели волосы на спину, запутавшись в роскоши золота.
– Какие у тебя волосы… Так чему еще учили в Кафе?
Руки уже освобождали от одежды, хотя и неумело. Открылась грудь. Сулейман замер, любуясь совершенными округлостями с торчащими в стороны сосками. Осторожно, словно боясь спугнуть дивное видение, коснулся одного, потом второго, слегка сжал руками. Потом положил ее на ложе, пробежал руками по груди, по телу, стал стягивать шальвары, смеясь:
– Впервые в жизни раздеваю женщину.
Сбросил свой халат. Она старалась не смотреть на сильное тело, но невольно подглядывала сквозь неплотно сомкнутые ресницы. То, что увидела, бросило в дрожь… Роксолана тряслась, как лист на ветру.
– Ты боишься? Почему, я страшный?
– Нет.
– Ты умеешь ласкать мужчину?
– Я была плохой ученицей…
– Почему?
Она вдруг вспомнила, за что ругали в Кафе.
– Не могла этому учиться, смотрела с закрытыми глазами.
Ожидала, что начнет ругаться или вообще выгонит негодную, ничего не умеющую рабыню. А он вдруг… рассмеялся тихим, ласковым смехом.
– Ничего, я научу. Всему научу, если будешь учиться.
Хотелось крикнуть, что будет, но даже дыхание сбилось, потому что сильные руки скользнули под ягодицы, а губы нашли сосок груди. Ее захлестнуло, понесло волнами ощущений.
Потом, не удержавшись, чуть вскрикнула:
– А! А…
– Тихо, тихо, больше больно не будет, это только раз.
Она была готова терпеть любую боль от этих рук, от этого тела. Но он дарил только ласку, которая уносила в какие-то такие дали, что Роксолана забылась, ответила со всем жаром молодого, хотя и неопытного тела. Дышала толчками, как и он, прижималась, отдалялась, совершенно не думая о полученных в Кафе уроках, просто потому, что требовало собственное тело, обнимала его в ответ на объятья, отвечала на поцелуи…
Когда все закончилось, он просто прижал ее к себе спиной, обхватив сильными руками, а она с восторгом чувствовала его горячую близость. Сулейман лежал, вдыхая запах ее волос и думая о том, чтобы воспоминание о боли не захлестнуло воспоминания о ласках.
Немного погодя пальцы снова нашли ее грудь, тронули упругие соски, зашевелили их. Сулейман с удовольствием почувствовал, как откликается на ласку ее тело, как она напряглась, перевернул на спину, заглянул в глаза:
– Уже не больно?
– Нет.
– Больше не боишься?
Роксолана смутилась:
– Нет.
Вопреки обычаю он не отпустил ее до самого утра. Роксолана заснула, а Сулейман еще долго разглядывал ее спящую, легонько, чтобы не разбудить, гладил тело, волосы, почему-то улыбался счастливо-счастливо. Может, потому, что от его прикосновений улыбалась она, спящая? Или потому, что прижалась, как ребенок, к его груди, уткнулась носом, и он лежал, не шевелясь, однако руку с ее ягодиц не убирал. Это было его, он хозяин и по праву мог держать!
Нелепо, у султана полон гарем красавиц, от которых и глаз не отвести, а он, как мальчишка, ждал вечера, чтобы снова стиснуть в объятьях и не отпускать до самого утра тоненькую пугливую зеленоглазку.
А однажды едва не случилась беда.
Повелителя нельзя видеть спящим, это запрещено даже женам и наложницам. Стоит свершиться назначенному, женщинам положено немедленно уйти, или удалялся сам султан. Но с Роксоланой это нарушалось каждую ночь, она оставалась до рассвета в объятьях Сулеймана, а потому имела возможность видеть его и спящим тоже. Имела, но не видела, только вдыхала восхитительный запах его тела, уткнувшись носом ему в грудь.
Но на сей раз она проснулась под утро и решила, что проспала – Сулейман не обхватывал ее сильными руками, не прижимал к себе, не закинул ногу на ее бедро. Мелькнула мысль, что Повелитель уже встал, но, повернув голову, Роксолана увидела, что он спокойно спит на спине.
Слабый огонек светильника не позволял хорошенько разглядеть красивое лицо, но орлиный профиль вырисовывался четко. Роксолана склонилась над лицом мужчины, которому принадлежала ее жизнь. Несколько мгновений разглядывала в полумраке, а потом тихонько, почти беззвучно зашептала:
– Сулейман… ты красивый… сильный… любимый…
То ли прядка золотистых волос, упав на его плечо, разбудила, то ли чутьем воина он все же уловил что-то сквозь сон, но султан вдруг схватил Роксолану за плечи. Та вскрикнула от испуга.
– Что?! Что ты шептала надо мной?! Колдовала? Отвечай!
– Я… я сказала, что ты красивый… и я люблю тебя…
Мгновение он смотрел еще недоверчиво, потом потребовал:
– Повтори. Повтори те самые слова, которые ты произнесла.
– Сулейман, ты красивый. Сильный, любимый… Это на моем языке. По-турецки так, – она повторила все на турецком.
– Больше никогда так не делай.
Он перевернул ее на спину, заглянул в глаза.
– Называть меня красивым и любимым можно, но по-турецки.
Ей вдруг стало смешно: он решил, что это колдовство?
– А по-гречески можно? Ты же понимаешь по-гречески.
Сулейман не смог сдержать смех:
– Лучше все равно по-турецки.
Он откинулся на спину, а Роксолана, осмелев, снова склонилась над ним:
– Ты испугался, что я колдую? Это колдовство, я хочу, чтобы ты любил меня, чтобы был со мной счастлив, хочу дарить тебе радость. Разве это плохо?
– Никому не говори о колдовстве, в гареме нельзя произносить таких слов, тебя могут просто уничтожить из страха.
– Я знаю, меня не любят и боятся, потому что каждый вечер ты зовешь к себе наложницу с подбитым глазом, которую учишь писать и которая читает стихи. Гарем боится, но ты-то нет?
– Боюсь. Но не за себя, а за тебя. Будь осторожна в гареме.
Они были правы, гарем боялся, а когда гарем чего-то боится, недолго и до настоящей беды.
Гарем решил, что золотоволосая применила какие-то чары, не иначе. Роксолану откровенно сторонились, не зная, чего ожидать дальше.
Она тоже жила только ожиданием вечера, того, позовет ли на этот раз, не забыл ли. Звал, не мог и ночи провести без своей Хуррем. Она приходила и снова становилась испуганной ланью, когда его пальцы осторожно, словно боясь, что от грубого прикосновения, от резкого движения рассыплется, исчезнет, как прекрасное видение, освобождали худенькое тело сначала от большого халата, потом от тонкого муслина, прикрывающего тело. Видение не исчезало, а сама Роксолана, сначала пугливая, как девочка, которую впервые коснулись мужские руки, постепенно загоралась, отвечала страстно, так, словно каждая ночь в их жизни была последней.
Если честно, то она так и боялась. Боялась, что завтра наскучит, что больше не позовет, больше не коснется горячими и страстными губами сосков ее груди, не проведет ласково по животу, не прижмет к себе сильными руками… Боялась и знала, что коснется, проведет, прижмет. Но сначала будет мудрость философов, поэтов, мудрость тех, кто уже прошел этот путь любви до них.
Это самый странный путь в человеческой жизни. Почти все, жившие до них и одновременно с ними, любили, все бывали хоть раз охвачены страстью, расспроси, каждый мог ответить и рассказать (если бы пожелал), но им, как и всем остальным, казалось, что они первооткрыватели, что их любовь единственная и неповторимая. Роксолана думала, что только пальцы Сулеймана способны дарить такое наслаждение одним прикосновением, что только его сильное тело может быть таким горячим, страстным, неугомонным…
А он думал о том, что только она может вот так разумно, почти по-мужски рассуждать, потом трепетать, как пойманная лань, от малейшего прикосновения, а потом растворяться в океане любви и страсти, даря ему неземное наслаждение именно этой своей трепетностью, переходящей в страстность. И невдомек было Сулейману, что это просто любовь, что не ради своего положения любимой наложницы, не ради какой-то выгоды, а по зову сердца, переходящего в зов плоти, откликается тело Роксоланы.
Сулейман любил тело Гульфем, подарившее ему двоих сыновей, любил Махидевран, родившую любимого сына Мустафу, вообще любил красивые тела красивых женщин. Но здесь иное, у Хуррем он любил, прежде всего, ее саму, не оболочку, а душу, пытливый ум, ее нетронутость, незамутненность.
Бывали ли такие наложницы у султана раньше? Конечно, и трепетные бывали, и не хищницы, и умницы тоже. Но чтобы все соединилось в одной, такого еще не было. Может, в том и заключалось колдовство гяурки? Не в умении двигать бедрами так, чтобы у евнухов поднималось их удаленное естество, не роскошная плоть, а ум, дух и любовь. Хотела того Роксолана или нет, но она влюбилась в Сулеймана по-настоящему, потому и трепетала каждый вечер, боясь, что не позовет, и каждую ночь от страсти, когда звал.
Им было хорошо вдвоем, так хорошо, что забывали, что он Повелитель, а она рабыня, что он волен сделать с ней все, что пожелает, даже приказать зашить в кожаный мешок, волен взять другую, приказать больше не показываться на глаза. Просто были двое, которые не могли дождаться вечера, чтобы услышать снова голоса, увидеть глаза, коснуться друг друга. Была Любовь, которой наплевать на гарем вокруг, на чью-то зависть и ненависть.
В жизни Сулеймана все казалось предопределено, если султан, значит, должен ходить в походы, расширяя владения Османов. Десятый султан обязан продолжить дело девяти предыдущих.
Сулейману власть досталась легко, не пришлось за нее бороться, не пришлось никого из родственников убивать. Он стал султаном без войны и кровопролития, что сразу же оценил простой народ, не задумываясь, его ли заслуга. Просто Сулейман оказался единственным, имевшим право на меч Османов и трон, но вовсе не потому, что родственники бездетны, просто постарались сначала дед, потом отец, уничтожая тех, кто мог претендовать на власть помимо них самих.
Прадед нынешнего падишаха Мехмед Фатих (Завоеватель), тот, что расширил границы Османов и завоевал вожделенный Константинополь, перенеся туда столицу и назвав город Стамбулом, узаконил страшный обычай братоубийства, используя изречение из Корана: «Безурядица пагубней убийства». О своем собственном семействе он выразился определенней:
– Лучше потерять принца, чем провинцию.
Жестокий закон, введенный Мехмедом, повелевал следующим правителям уничтожать всех родственников, могущих претендовать на престол, кроме нового султана.
Первым, применившим этот закон, по иронии судьбы, был сын Мехмеда, самый мирный из последующих султанов – Баязид. Баязид очень не любил воевать, он любил литературу, искусство и предпочел бы провести свой век в садах прекрасного дворца. Тем не менее не дрогнул, объявив своему брату Джему:
– Нет дружбы между царями.
Все же Баязид позволил Джему бежать сначала на Родос, а потом к папе римскому и долгое время платил европейским правителям за пребывание у них Джема на условиях почетного пленника с условием уничтожения в случае попытки бегства или опасности освобождения.
Последние годы тот жил у папы римского Александра (Родриго Борджиа), но когда разразилась война с французами, несчастного Джема нашли-таки способ устранить. Папа римский лишился важной статьи дохода, но поделать ничего не мог. Принц Джем умер то ли от яда, то ли от простой дизентерии.
Баязид не дрогнул и тогда, когда пришлось казнить двоих собственных сыновей. Два других давно умерли от болезней, еще один от пьянства. Но что делать с оставшимися тремя – Ахмедом, Коркутом и Селимом, султан просто не знал, вернее, ничего поделать не мог, да и невозможно отстаивать свою власть, сидя на шелковых подушках гарема вместо седла. Каждый из трех оставшихся в живых сыновей прекрасно понимал, что его ждет в случае прихода к власти брата, и каждый был готов принести братьев в жертву.
Братоубийственная война, столь осуждаемая другими народами, была для Османов не столь уж страшна. И дело не только в разброде и возможности развала империи из-за борьбы за власть, дело еще и в том, что сыновья были рождены разными матерями, каждая из которых поддерживала стремление своего сына стать следующим султаном, потому что получала права главной женщины гарема. Султаны справедливо полагали, что жен у мужчины может быть целых четыре, наложниц сотни, а вот мать только одна, и потому именно матери доверяли управление огромным хозяйством, называемым гаремом.
Но чтобы стать первой женщиной гарема – валиде-султан, нужно привести к власти сына, прекрасно сознавая, что в случае неудачи участь будет незавидной…
Что стоили жизни чужих сыновей для женщин, у которых выбор был невелик – статус валиде-султан в случае прихода сына к власти, прозябание в Старом дворце, куда ссылали ненужных женщин, или в худшем случае кожаный мешок и воды Босфора. Можно ли их осуждать за то, что выбирали первое?
А неизбежные жертвы в виде соперников и их детей новых валиде волновали мало, ведь это были чужие дети и внуки. И даже когда султан уничтожал собственных сыновей, его мать волновалась мало, внуки всегда оставались еще. Сами внуки тоже мало считались бы с бабушкой…
Зато империя оставалась целой и продолжала расширять свои границы. А принцы?.. Мехмед Фатих знал, какой закон утверждать.
К тому же одной наложнице полагался всего один сын, это дочерей могло быть сколько угодно. Султаны уже перестали жениться, предпочитая не иметь законных жен, а в гареме держать наложниц. Так проще, наложницу за любую провинность можно отправить в кожаном мешке в Босфор, а за жену придется объясняться с ее родственниками. Наложницы, родившие султану детей, становились кадинами – невенчанными женами. Мать старшего из них была баш-кадиной и будущей валиде.
Пока наследник мал, султан мог быть спокоен, но как только шехзаде становился достаточно взрослым, чтобы меч Османов, которым опоясывали нового султана в знак восхождения на трон, не волочился за шехзаде по полу, наследник и его мать становились по-настоящему опасны для правящего султана. Пусть не они сами, но стоящие за ними силы вполне могли решить, что пришел их черед править.
К тому времени, когда очередной шехзаде становился султаном, его старшие сыновья уже крепко сидели в седле. Принимая меч Османов, обычно уже очень взрослый султан вполне мог опасаться мятежа со стороны сыновей.
Хотя правили султаны все равно подолгу – Мехмед II тридцать лет, Баязид – тридцать один год.
Три оставшихся в живых сына султана Баязида не стали ждать, когда их отец отойдет в мир иной добровольно, они сцепились за власть уже при его жизни. Сам отец больше тяготел к старшему – Ахмеду, двое других братьев – Коркут и Селим – были с этим не согласны.
Селим поднимал мятеж против отца дважды и вынужден был даже бежать от отцовского гнева в Крым. Довольно долгое время до того Селим управлял Трапезундом, потом балканскими провинциями Османской империи, был силен, опытен и жаждал власти.
После первого мятежа, когда небольшое войско Селима было наголову разбито огромным войском Баязида, Селим кое-что понял: дело не только в желании взять власть, не только в мощи собранной армии и поддержке тестя – крымского хана Менгли-Гирея, на дочери которого Айше Хафсе был женат Селим, но и в поддержке янычар, то есть тех, кто составляет основную силу собственно султана. Султан – тот, кого поддерживают янычары.
Кто подсказал Селиму важность подкупа и обещаний янычарам, неизвестно, но буйное войско и впрямь поддержало именно этого сына Баязида, когда тот предпринял новую попытку захвата власти в 918 году хиджры. В таком случае собирать войско было бесполезно, Баязид прекрасно осознал положение дел и добровольно отрекся от престола в пользу Селима.
Это было невиданно, никогда прежде султан не отказывался от власти сам, к тому же не объявлял об этом вот так: с балкона криком на всю площадь, где собрались янычары. Седьмой день месяца сафар 918 года хиджры (24 апреля 1512 года) стал триумфом Селима, который, опоясавшись мечом Османов, стал девятым султаном Османов и третьим правителем османского Стамбула.
Но меч Османов – это еще не все, султан Селим прекрасно понимал, что, пока жив отец и братья, покоя не будет. Сознавал ли Баязид, что сын, с которым он не виделся больше четверти века, предпочтет не иметь столь опасных родственников? Наверное, и все же он попросил разрешения уехать в родовое имение Дидимотику. Селим, только что притворно предлагавший отцу вообще остаться в Стамбуле, благосклонно разрешил, даже подготовил огромный обоз, собрав все вещи, которые были дороги лично Баязиду, и проводил отца до городских стен.
Но доехать бывший султан смог только до Чорлу. Через месяц после своего отречения в пользу сына отец скончался в ужасных муках, якобы от кишечных колик. Те, кто неосмотрительно говорил, что колики вызваны лекарством, которое дал бывшему султану врач Хамон, приставленный к Баязиду по приказу Селима, говорить быстро перестали вообще, лишившись языков, а то и голов, в которых те помещались.
Селиму было сорок два, и, взяв власть, он вовсе не собирался ее с кем-то делить. Недаром отец, отказываясь от жизни в Стамбуле рядом с новым султаном, сказал:
– Двум мечам в одних ножнах не бывать…
Теперь предстояло разобраться с братьями и племянниками. Коркуд попробовал бежать, но был пойман и казнен. Перед смертью он целый час писал брату трогательное письмо в стихах, но милости не просил, прекрасно понимая, что отец был прав, говоря о двух клинках в ножнах. Селим, прочитав это послание, даже прослезился и объявил всеобщий траур по казненному.








