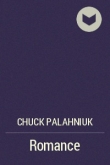Текст книги "Хорошая история (СИ)"
Автор книги: Наталья Егорова
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Наталья Егорова
Хорошая история
Морская вода отливала нежнейшим блеском, словно от горизонта плеснули жидкой платиной. Крохотные волны с едва слышным шипением наползали на прохладный песок. Над бескрайней синью неторопливо поднималось солнце, заливая, затопляя в сиянии берега.
Тихий рай. Не верится, что в получасе лета высятся зеркальные небоскребы Сингапура.
Здесь само время ловило себя за хвост. Крыши пластиковых бунгало покрывали живые пальмовые листья. Смуглые рыбаки надевали шляпы из настоящей соломы, но уходили в море на вполне современных надводных катерах. Молчаливые стройные девушки с русалочьими глазами носили униформу официанток и горничных, но при этом расхаживали босиком и украшали блестящие волосы живыми цветами. Я давно не видел такой роскоши – живых цветов, сорванных прямо с ветки.
У дверей "Горбатой креветки" прямо на песке сидел целыми днями старик в рваном астрокомбезе с неподвижным стертым лицом, которое годы обкатали, как море гальку. Старик нанизывал мелкие раковины и обломки коралла на нейлоновую нить, перемежая их отшлифованными кусочками стекла, пластика, металла. В этих бусах здесь ходили все – от клерков на отдыхе, чувствующих себя неуютно без галстука, до их шумных жен, ковыляющих по белому песку на каблуках.
Даже крабы-уборщики, загадочно поблескивающие стальными сочленениями, казались живыми обитателями глубин.
Месяца два назад все приводило бы меня в восторг. Впервые за долгие годы я мог искренне бездельничать с утра до ночи: бултыхаться в прозрачных волнах, бездумно валяться на искристом песке, перебирать коралловые бусины.
Вот только левой половины лица я сейчас не чувствовал, и каждое слово давалось с трудом. А серые, неживые пальцы левой руки я стыдливо запихивал в карман. Другой рукой. И, морщась, вытирал с подбородка слюну.
Какого черта! Они научились лечить рак и не могут справиться с последствиями инсульта.
Они сказали: по крайней мере, год. Они говорили: все постепенно придет в норму. Я же чувствовал, что каждая минута беспомощности оставляет черный рубец в душе. Ничто не вернется.
Зеркала в моем бунгало занавешены, словно по покойнику. Но даже из глубины бокала издевательски глядит незнакомец с перекошенным ртом. С неподвижным левым глазом. С каплей слюны, ползущей на подбородок.
Унизительно.
Еще этот тип с трудом ковыляет по песку и все время пьет розовые капсулы. Я его ненавижу.
Какими мелочными казались теперь все мои каждодневные страхи, сиюминутная ненависть и мелкие привязанности, скучные надежды и глупые огорчения. Я хотел бы родиться заново из шума волн, но даже вглядываясь в феерический закат и даже во сне помнил, что я – калека.
Отчего-то все они: и рыбаки, и горничные, и даже сутулый бармен "Креветки" Силенцио – считали меня писателем. Поначалу это казалось забавным, после начало раздражать. Но тщетно было уверять их, что я в жизни не сочинял ничего сложнее оправданий, а черный аппарат на горле всего лишь следит за моим самочувствием. Они молчаливо улыбались и, глядя на пластиковую коробочку, прилипшую к моему кадыку, говорили: "Мистеру писателю понравится вот эта рыба. Микаэль поймал ее над затонувшим кораблем, над самой бездной, где ночами поет дух океана".
Возможно, их щедрым душам так нравилось одаривать меня невероятными историями, что они просто не слушали.
Толстяк приходил в "Креветку" каждый вечер. Втискивал тучное тело за стойку, вытирал мятым платком покрасневшую шею. Силенцио молча ставил перед ним стакан пива. Толстяк отхлебывал пену, разворачивался и окидывал полутемное помещение цепким взглядом.
Это казалось чем-то вроде ритуала. Иногда он тут же отворачивался, в один глоток допивал пиво и уходил к морю. Порой же, словно увиденное устраивало его, он подсаживался к кому-нибудь из посетителей. Всегда – к одинокому, будь то старик в старомодных линзах-стрекозах, или сухая дама неопределенного возраста, или молодой человек с растерянным лицом. И начинал говорить.
Он говорил долго и так тихо, что ни единое слово не достигало чужих ушей. Он мерно покачивал тяжелой головой и вытирал шею неизменным платком, он смотрел в стол, забыв о недопитом пиве. И я видел, как старик расправил сухонькие плечи, как улыбнулась дама, и глаза ее сверкнули отблеском былой красоты, как побледнел и посуровел молодой человек.
О чем он говорил с ними? Какую надежду дарил?
Наконец, его выбор остановился на мне. Я ждал этого уже несколько дней, понимая, что не смогу избежать внимания Толстяка. И все равно вздрогнул, почувствовав взгляд, похожий на тычок.
– Мистер не захочет услышать хорошую историю? – спросил он, отодвигая стул.
Только хорошей истории мне и не хватало. Мою, во всяком случае, хорошей не назовешь.
– О чем? – угрюмо спросил я.
Он пожал массивными плечами.
– О моей жизни.
В самом деле, о чем еще? Я подавил горький смешок. Посчитав молчание согласием, Толстяк поставил на мой столик полный стакан.
– Я расскажу вам хорошую историю, мистер, – повторил он, уминая за стол необъятный живот. – Хорошую историю.
За листьями пальмы вдалеке промелькнул яркий парус – как крыло райской птицы.
* * *
Резкая трель заставила оператора поморщиться. Смахнув с экрана модель беговой дорожки, он обернулся к следящей камере.
У входа напряженно стоял человек в гавайской рубахе. Молодой, но уже слегка обрюзгший; редкие вьющиеся волосы прилипли к потному лбу, хмурый упрямый взгляд устремлен вовнутрь.
– Евге-ений? – удивленно протянул оператор в микрофон. – Сколько лет... Заходи, что ли.
Пришедший вдвинулся в крохотную каморку, обогнул заваленный дисками стол, бросил мимолетный взгляд на экраны.
– Н-ну? – оператор добродушно осклабился, став похожим на старого пса. – Как живешь-можешь, легенда?
Женька недовольно дернул плечом. Какая-то неприятная мысль занимала его так сильно, что не оставляла места дружелюбию.
– Нормально.
– Твои как? Жозефина, небось, замужем, сколько ей уже? Людмилу тут видел на днях, мельком – хор-роша! А мы вот как раз позавчера вспоминали...
– Мишель, – угрюмо проронил Женька. – Я бежать хочу. На Европейском.
Оператор запнулся. Окинул полноватую фигуру быстрым взглядом, отметив намечающийся пивной живот, рыхловатость мышц. Наклонил голову, кося блестящим вишневым глазом.
– Ты в своем уме?
Женька куснул губу.
– Мне надо.
Мишель засуетился.
– Ты, это... садись давай, – он смел с кресла ворох цветных буклетов. – Чаю хочешь? Ледяного? Жара такая невозможная, да? Сейчас сообразим чайку.
– Мишель, ты слышал? – в голосе возникла надорванность. – Мне надо бежать.
Оператор махом опустился на вертящийся табурет. Плечи его поникли.
– Жень, Европа через три дня, – осторожно заметил он. – Ты не в форме.
Тот молча уставился в пол.
Оператор вздохнул и потянулся к холодильнику за чаем.
– Ты пойми, ну, смысла же нет, – уговаривал он спустя четверть часа. Женька выдул две банки чаю и слегка расслабился, хотя настороженное выражение не сходило с его лица. – Виртуал твой бегает по категории "полупрофи". Значит, тебе должно капать двести... двести тридцать монет в месяц, так? Стоит ли рисковать, а? Ты ведь когда зафиксировался? Семь лет. А когда совсем бросил?
– Пять лет назад, – хмуро сообщил Женька.
– И до сегодняшнего дня не тренировался, – констатировал Мишель. – Вес набрал... Скорость ресинтеза аденазинтрифосфорной проверял? Ты же на полдистанции свалишься, легенда. Я понимаю, если бы Корейский марафон – он через полгода, или Российский в декабре. Отработал бы Лидьярдовскую методику, трехмесячную, препаратики попил. Что за спешка, в конце концов?
Женька Таран отставил пустую банку и принялся мять короткие пальцы. Глаз он не поднимал.
– Жозефина замуж выходит, – выдавил он, наконец. – За Оффельбайера.
Оператор присвистнул.
– Те еще снобы. Как это ей удалось?
Таран сверкнул яростным взглядом.
– Прости, – с раскаянием сказал оператор. – Просто неожиданно. И что, они требуют... хм, приданое?
– Нет... но... знаешь эту их снисходительность, "праздновать, конечно же, будем у "Варвары", ах, цветы, конечно же, пусть будет море цветов, закажем репортажи в журналах, с иллюстрациями, венчание в Святом Павле, никакого Франциска – это же моветон"... и все в таком роде, с ахами. С презрительными улыбочками.
– Понятно. Хочешь вылезти из кожи, но соответствовать.
– Жозефина – дуреха, – потеплевшим голосом отозвался Женька. – Но он, вроде, любит ее. Понимаешь, я ведь просто хочу, чтобы ей было хорошо. Чтобы... ну, понимаешь, она могла ни в чем себе не отказывать.
Мишель скептически поднял бровь.
– И ты, конечно, гордо предложил разделить расходы между обеими семьями.
– Ну...
– Ох, Женька, – Мишель крутанулся к экранам. – Как был ты дурак, честное слово... ну, давай смотреть. Заявку я твою, положим, приму. Медицинскую раскладку ты, зараза, опять подделаешь, знаю я тебя. До старта неполных четверо суток: все, что ты сможешь, это чуток подкачать красные волокна в мышцах, ну и... а там подъемы, и дождь еще обещали. Ох, черт, ну куда ты лезешь, а? Ты же не перефиксируешься потом! Тебя же пока еще помнят, придурок. С тобой бегать хотят! Вон, повторяли недавно.
Он ткнул пальцем в большой новостной экран, послушно отобразивший полноцветную статью.
–
"Бегущий человек сойдет с дистанции?
Полупрофессионал Евгений Таран, побил рекорд по участию в беге в течение недели.
Напомним, что еще в середине ХХ века такой рекорд был установлен спортсменом Евросоюза (регион Ирландия) Клодом Керролом, выступившим на марафоне четырежды за одну неделю. В 2043 году этот рекорд был побит представителем Азиатского спортивного объединения Ву Пенем, участвовавшим в пяти марафонах в течение семи дней.
Последующие за этим рекорды 2045 (Ли Пфафф) и 2047 (Роман Филин, потомок знаменитого некогда марафонца Ивана Филина), как известно, были опротестованы из-за использования спортсменами имплантантов. После этого в течение десяти лет улучшить рекорд Ву Пеня не удавалось никому.
И вот теперь, Евгений Таран поднял планку еще выше: ему удалось пробежать шесть марафонов в течение недели, причем на старт двух из них он отправлялся прямо из аэропорта.
«На пятом боялся сойти с дистанции», – признался спортсмен нашему корреспонденту. – «Было жарко, а я сразу после субатмосферного перелета. Да еще, как оказалось, бежал за виртуалом Лопеша.»
Евгений Таран не был первым ни в одном из шести марафонов. Лучшее время, показанное им за эту неделю – 2:23.14 (что 16 на минут больше, чем рекорд, установленный Лопешем). На вопрос «Планируете ли вы установить еще один рекорд?», спортсмен ответил уклончиво. Очевидно, вскоре мы услышим о том, что легенда полупрофессионального марафона Евгений Таран зафиксирован."
–
– Читал, – буркнул Таран. – Тогда еще. Не капай мне на мозги. Мне надо попасть хотя бы в первую тридцатку.
Расстроено качая головой, оператор пробежался по сенсорной панели. На экранах замелькали проекции беговых дорожек, проволочные модели марафонцев, таблицы характеристик...
* * *
Толстяк шумно отхлебнул из стакана.
Нахлынуло внезапное ощущение увечности. Скривившись, насколько это позволяла неподвижная половина лица, я вытер рот. Удивительно, но рассказ всерьез увлекал, на мгновение удалось забыть о собственных проблемах. Может быть, именно этого мне и недоставало?
– Я не понял, что вы теряли.
Толстяк хмыкнул, поерзав на плетеном стуле.
– Вы не интересуетесь спортом, правда? Не киберспортом, обычным.
Я пожал правым плечом.
– В марафоне существует три категории: любительская, полупрофессиональная и профессиональная. Если спортсмен выступает во второй или третьей, он может в один прекрасный день зафиксироваться, понимаете? Создать свою виртуальную копию. В этом виртуале сохранятся все физические, психические и бог знает какие еще характеристики спортсмена. Например, он так же отреагирует на болельщика, швырнувшего на дорожку пивную банку.
Я недоуменно уставился в его лицо.
– Зачем?
– Чтобы виртуал участвовал в соревнованиях вместо своего прототипа.
– Не понимаю.
– Марафонец ведь человек, понимаете? Он может вывалиться из аэротакси и сломать ногу, может подцепить вялотекущий замбезийский грипп, может выйти на старт в плохой форме и заработать тромбоэмболию. Поэтому принято фиксироваться, особенно у полупрофи. На пике формы, после нескольких особенно удачных забегов. Виртуал продолжает участвовать в забегах, ты получаешь стабильный доходец, но вот бегать дальше тебе нельзя. Или ты, или виртуал. Стоит заявиться на старт, виртуала автоматически стирают.
– Тогда зачем же...
– Приз за марафон, даже за пятидесятое место, и дивиденды с виртуала – несравнимы. Некоторые возвращались, кое-кому удавалось даже улучшить прошлые результаты и зафиксироваться вновь. Но обычно, виртуал – это конец спортсмена, все это знают.
– Все равно не понимаю.
Толстяк вздохнул так, что качнулся стол.
– Это же шоу, мистер. Зрители любят смотреть на кумиров прошлых лет: какая разница, на живых или оцифрованных. Оцифрованные даже лучше – они не выкинут неожиданный фортель. А представляете, как хочется молодому спортсмену обогнать чемпиона прошлых лет? Не просто сравнить циферки на мониторе, а обогнать в реальном марафоне.
Толпа трехмерных моделек на беговой дорожке: спотыкаются, задыхаются, отхлебывают воду из пластиковых бутылок. Я едва не расхохотался, представив эту картину.
– И что же, он... вы... бежали?
– Да.
* * *
С утра он чувствовал себя неважно. Свербило в носу, и шею противно ломило: застудил, что ли?
Жозефина летала по дому, как на крыльях, всех разговоров только и было, что про кружево на свадебном платье, да какие цветы лучше подойдут на корсаж, да стоит ли ехать к морю – кидать на счастье монетки в волну...
Отмалчивался.
Представлял будущих родственников: поджатые губы, снисходительные взгляды, слова, процеженные с высоты трех поколений тех, о ком пишут в иллюстрированных журналах. Отчего Жозефина не положила глаз на обычного парня – инженера какого-нибудь или пилота аэрокара?
Ему же просто хочется, чтобы девочка была счастлива.
– Пап, не видел, куда мы шляпу положили?
Волнуется.
Людмила вышла проводить: горькие линии обозначились возле рта.
– Не нравится мне свадьба эта, – шепнула.
Поцеловал жену в седеющую макушку, вдохнул теплый травяной аромат ее волос. Шагнул в утреннюю сырость.
На старте собралось человек пятьдесят – настоящих. Оживленно переговаривались, шутили. Заключали пари.
Знакомых почти никого: за семь лет успели зафиксироваться или просто ушли из спорта. Ему кивали, но не подходили. Подумаешь, виртуал, явившийся во плоти.
Женька чувствовал себя заключенным в невидимую клетку. Разминался машинально, мышцы сами вспоминали последовательность движений. А сладкое чувство возвращения – не приходило.
Была дорожка, полсотни незнакомых лиц. Была необходимость добежать. А вот такого, чтобы "наконец-то вернулся" – этого не было ни капли.
Вызвали на старт.
Он долго, основательно приклеивал к лицу маску. Теперь, через семь лет, это была не плохо подогнанная конструкция на резинках, хлопающая на бегу по щекам, а почти невесомая пленка, стягивающая кожу словно воском.
Пока на маску давали обычный вид. Только над головой вертелась сложная проволочная модель для настройки.
– Легенда, привет, – донеслось из наушников. Женька невольно обрадовался: сегодня дежурил Мишель. – А медицинскую раскладку ты все-таки подчистил...
– Ну, подчистил.
Сейчас было легко признаваться.
– Готов? – преувеличенно бодрый голос скрывает беспокойство. – Хочешь, дам тебе картинку с пальмами? Или побежишь по облакам, а?
– Не надо.
– Ну, как знаешь, тогда даю стандарт.
Изображение мигнуло, дорожка расплылась под ногами в грязное пятно. И вот серое полимерное покрытие сменилось мелким щебнем, выросли по обочине пихты. Народу на старте прибавилось, замелькали знакомые физиономии – чемпионы прошлых лет, сосредоточенные, целеустремленные.
С ними можно побеседовать. Они даже умеют шутить.
Женька почувствовал легкое отвращение, представив своего виртуала: такого же гладенького, с просчитанной индивидуальной реакцией на раздражители. Даже замутило слегка.
Все-таки он здорово не в форме.
Старт.
Здоровенный белобрысый Славич ушел вперед: он всегда сразу брал чуть ли не спринтерский темп. И всегда выдыхался на последних километрах. А вон этот худой, чернявый... как же его фамилия? Седых? Худых? как-то так. Он однажды толкнул Женьку почти на финише: не нарочно, их обоих водило тогда из стороны в сторону, жара стояла неимоверная. Но оба добежали, помнится.
Лица – знакомые, незнакомые, живые и призраки живых. Тянется дорожка в хвойном лесу, падает на щеку солнечный луч, и не поймешь – настоящий или прорисованный.
Следить за дыханием. Главное, следить за дыханием.
Еще воды. Неподъемно тяжелые ступни. Кажется, остановись – и съежишься пустой оболочкой, впитаешься в покрытие дорожки.
Не думать. Не чувствовать. Дышать. Вода падает в желудок твердыми стеклянными шарами. Только не останавливаться.
На двадцать пятом километре подумал, что не добежит. Испугался и разозлился одновременно: стиснул зубы, выровнял дыхание и прибавил темп. Он не мог позволить себе сойти с дистанции. Он должен.
И тут он увидел призрака.
Вначале показалось: пот заливает ресницы, поэтому так странно расплывается фигура. Сморгнул, зажмурился на секунду, но видение не изменилось. Серый, будто нарисованный человек размеренно бежит по усыпанной хвоей дорожке.
Вот и еще один серый, "39" на майке. А тот, что человек рядом выглядит нормально, не размывается в бледную муть.
– Мишель, – процедил он сквозь зубы, – что с картинкой?
– Нормально все... сейчас проверю. Да нет, нормально все, а что?
– Так...
Блеклые – это виртуалы. Настоящие, напротив, стали резче, почти до боли реальными. Сосны вдоль дорожки голубовато застекленели, зарябили в глазах, и будто бы потянуло с обочины полынной горечью.
– Жень, Жень, ты как там? – встревоженно позвал Мишель. – Тебя водит.
– Все в порядке, – слова долетели издалека, как будто отвечал не он.
Дорожка обогнула скалу, словно из детских кубиков напластованную; раскрылся впереди обрывистый берег, едва не под ноги накатила с шумом волна.
Стеклянная волна на серый берег.
Женька опустил глаза: на майке была видна каждая ниточка, каждая крупинка грязи на кроссовках. Мельчайшие волоски и поры на руках, все до одной жилки просвечивали сквозь кожу.
Реальность ускользала, растворялась в басовитом гуле, идущем, казалось, из самой земли.
Стало легко. Так легко, словно и не было за плечами почти двух часов изнуряющего бега. Невесомо касаясь земли, будто и впрямь бежал по облакам, несся он над дорожкой. И в тот миг, когда видимое стало резким настолько, что заболели глаза, открылись в воздухе золотые врата, прорезав неровной щелью ткань мироздания. Засияли, ослепили яростным светом, вырывающимся сквозь прореху в реальности.
Казалось, только шагни – и мир перевернется.
Из неведомой дали отрывисто и тонко кричал Мишель. Ни единого слова было не разобрать, только тревога билась в уши, и он улыбнулся. У него все хорошо.
Мелькали, проносясь мимо, бледные тени былых победителей и яркие, как мазки импрессиониста, будущие чемпионы, билась в нарисованный берег ненастоящая волна. Ткань вселенной трещала по швам, и, очарованный, затаивший дыхание в мистическом восторге, Женька Таран шагнул в свет...
* * *
– И что?
– Я проиграл, – всем животом вздохнул Толстяк. – Просто не добежал. Потерял ориентацию – гипонатриемия, такое бывает, если во время марафона пьешь слишком много воды... Наблюдатель просигналил, когда я упал, меня подобрали... На тридцать девятом километре. Я сделал все, что мог, просто этого оказалось мало.
– То есть врата – это была галлюцинация? – разочарованно уточнил я.
Толстяк неопределенно покачал головой.
– Я не знаю, мистер. Должна была быть галлюцинация, судя по всему, а там... Жаль только, я ничего не успел разглядеть... внутри.
Я помолчал. Снаружи доносился плеск волн и детские крики: мальчишки оседлали крохотный глайдер. Вечер накрывал "Креветку" муаром близких сумерек.
– А свадьба?
– Свадьба расстроилась. Но не из-за меня, нет, как-то само повернулось. Жозефина разругалась с женихом, его мамаша подлила масла в огонь... я всегда знал, что из этого брака не выйдет ничего хорошего. А так, она вышла за химика из Липецка, нормального парня. У них двое детей. Летом приезжают к нам... она счастлива.
Жили они долго и счастливо... побежденные, с горечью в сердце. Я криво ухмыльнулся.
– И это все?
– Все. Я не стал больше тренироваться, не стал фиксироваться еще раз – не было больше того куража.
Это было несправедливо. Такая же чистая несправедливость судьбы, как... как мой инсульт! Поставить на кон спокойную жизнь, рискнуть и не добежать.
Получив взамен воспоминания о глупой галлюцинации.
– И вы не жалели об этом? – я внезапно смутился. – Ну, что уничтожили виртуала, а сами...
– Никогда, – просто сказал Толстяк. – Думаю, эти ворота, что я видел... наверное, это самое главное, что я видел в своей жизни...
Он уходил в песок и закат, забыв на моем столике недопитый стакан пива, грузный, неторопливый. Он так и остался для меня Толстяком. Тот, о ком он рассказывал... он был моложе и совсем другой. Упрямый, растерянный... рвущийся к победе. Вряд его глаза так же пронизывающе глядели на мир.
А ведь я никогда не ставил на кон все, – подумалось отчего-то. Мне незнаком азарт жизни, я даже... черт, я даже сейчас не борюсь, а брюзжу.
Впору было посмеяться над собственной сентиментальностью, над этой жалостью, что комом стояла в горле. Жалко было непутевого марафонца Женьку, жалко дурочку Жозефину, влюбившуюся в богатенького брюзгу, и больше других жалко себя.
А еще противно. И стыдно.
Сегодня же вечером сниму тряпки с зеркал. И к чертям куртки с большими карманами, в которых так удобно прятать серые неживые пальцы! И надо, наконец, заняться этими упражнениями, которые показывали мне в клинике.
В конце концов, год – это ведь совсем немного. Все придет в норму. Должно.
Искупаться в море, валяться на песке, собирать полосатые ракушки. Радоваться рассвету, платиновым бликам, падающим на синий шелк волн, бездумно смотреть на скутер, летящий в рваной пене навстречу горизонту.
Жить.
Я сделал знак Силенцио принести счет. Тот кошкой скользнул к моему столику.
– Мистер, – неуверенно начал он, пряча деньги в карман полосатого фартука, – Каракатица рассказывал вам про шахматы?
– Про шахматы?.. Нет, он говорил про марафон, – и тут смысл сказанного дошел до меня. – Подождите, разве его зовут не Евгений Таран?
– Нет, мистер. Его зовут Пит. Пит Каракатица. Мистеру не стоит верить ему, Каракатица всем рассказывает небылицы: про шахматы, или про ныряльщиков, или еще что-нибудь. Мы не гоним его, потому что он, в сущности, безобидный малый. Не клянчит у посетителей пиво, не пристает, если человек не хочет слушать... Но пусть мистер писатель не принимает его сказки близко к сердцу. Вот Микаэль – тот рассказывает настоящее. И старый Йохан тоже. А Каракатица, он же просто сочиняет...
Я смотрел на него и не видел. Вся краска бросилась мне в лицо.
Поверил – в сердцещипательную сказочку.
Глупец!