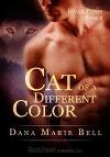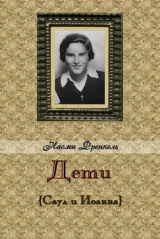
Текст книги "Дети"
Автор книги: Наоми Френкель
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
– Что это? Радио работает для одного человека? – и хлопнул дверью.
– Но что я приготовлю на обед? – жалуется Пумельхен Белле.
– Действительно. Из-за забастовки рынок не работает.
– Ничего не остается, кроме селедки.
В углу кухни стоит пузатая деревянная бочка, заполненная доверху селедкой, и это единственное, чем питаются члены Движения в последние недели.
Селедка и картошка. Селедка с луком и без лука. Соленая или жареная, нарезанная вдоль или поперек. Целой она выглядит, когда Пумельхен жарит ее на масле и подает горячей и сильно пахнущей а блюдцах, как некое лакомство, Но даже в таком виде эта селедка не может пленить сердца товарищей. Над бочкой Ромео тоже повесил плакат – «Страна, текущая молоком и медом!»
– Сегодня я поджарю ее на масле, – говорит Пумельхен, – и она будет похожа на мясо.
* * *
Белла молчит. «Если она уедет в страну молока и меда, в жизни не прикоснется к селедке, вкус и запах которой вызывает у нее позывы к рвоте.
– Я могу пойти к матери, – словно обращается к самой себе Пумельхен, и чувствуется, как ей трудно это произнести, – в кафе всегда остается много печений и всяких сладостей со вчерашнего дня, и с ними нечего делать. Вправду, Белла, это будет сюрпризом для товарищей. Пироги, печенья и кофе для всех!
Почему бы, действительно, не сходить Пумельхен к матери и взять все эти оставшиеся вкусные вещи? Почему бы нет? И она, Белла, может сходить к своей матери и попросить ее купить им свежее мясо. Мать это сделает с удовольствием. Она может так же сходить к отцу и просто сказать ему: холодно нам, отец. Купи нам уголь. Отец это тоже сделает с удовольствием. Дела у отца процветают даже в дни тяжелого кризиса. Отец готов для нее сделать все. Согреть весь Дом! – Коротко остриженные ее волосы встают дыбом, рука замирает на лбу: что за мысли! Они подходят Пумельхен, она ведь все еще не воспитана, – но не ей, Белле!
– Ну, как ты предложишь такое? Брать у родителей! Ты принесешь пироги, а я – уголь и мясо. У многих из товарищей есть родители, кассы которых ломятся от денег?! Трудно нам, что ли организовать пожертвования и нормально существовать... Как евреи в стране Израиля, живущие на сборе пожертвований в диаспоре? Может, и мы найдем какого-нибудь барона, который возьмет на свой счет? Нет! Никаких одолжений от родителей! Нет халуца без гордости в душе.
– Хорошо, будем голодными и гордыми. Отлично, Белла, прекрасно. Но разве ты не видишь, как все изменились в последние недели, что с нами делает голод? Мы ведь только говорим о еде. Ты всегда занята и не всегда с нами. Но я здесь день за днем, всегда с товарищами, и когда они возвращается сюда и приходят на кухню, глаза их с хищностью смотрят даже на соль, которую я подсыпаю в кастрюлю... и тогда я чувствую, что голод не пара душевной гордости. Голод превращает селедку в средоточие мира. Нет. Лучше брать пироги и мясо у родителей, только чтобы еда не превратилась в главное содержание нашей жизни.
– Верно, Пумельхен, голод – плохой советчик. Ненавидят селедку, как самого главного врага души, и полны душевной ласки к пирогам. Еда и уголь оборачиваются духовными проблемами. Но это проблемы материальные, от которых мы стараемся освободиться во имя мечты... Об изобилии? Наши духовные проблемы качаются, как маятник, между нуждой и изобилием. Разве именно это идея скрыта в скромной жизни?
– Ну, и как мы выберемся из этого положения?
В окно заглядывает стужей и снегопадом мутный зимний день.
– Нет у меня свободного времени, – Белла отрывает взгляд от окна и убегает из кухни.
В комнате она тотчас развивает кипучую деятельность. Застилает постель, наводит тут и там порядок, и опускается на стул у стола. Раскрывает картонную папку, извлекает из нее две большие фотографии. Она ведь тоже должна подготовить своих воспитанников к юбилею. Ее подразделение должно построить модель кибуца в Издреельской долине для юбилейной выставки.
На фотографии – кибуц, созданный два года назад. Темная скалистая гора, продолжающаяся хребтом понижающихся округло сглаженных холмов, надвинутых друг на друга. Вокруг них множество утесов. У подножья хребта – маленький кибуц: один барак, и вокруг него много палаток. Все это выглядит, как бумажные декорации. Временное жилье, развернутое в сторону хребта. Барак – это столовая для обитателей палаток. Окна его разбиты, дверь распахнута. Белла ощущает ветер, дергающий окна, и видит внутренним взором бочку с селедкой, стоящую в углу барака.
– Как у нас.
Белла быстро возвращает фотографию в папку, и рассматривает вторую. Кибуцу уже исполнилось десять лет. Гора все та же, бросающая вызов окружающему пространству, но у подножья уже виден пояс широко раскинувших ветви рожковых деревьев и вечнозеленых кипарисов. Белеют небольшие домики, жалюзи, обширные веранды, закрытые двери, Ряды пальм навешивают тень на дорожки между шеренгами домиков. Тень! Нет больше испепеляющей жары, открытых дверей и разбитых окон. Филипп стоит у входа в белый красивый дом, как бы провозглашая: я говорил тебе тогда, у озера, в тот летний солнечный день, что в стране Израиля мы будем растить еврейских девушек, как мадонн, красивых, светлых и спокойных.
В последнее время любовь ее к Филиппу, как рана, то заживающая, то снова открывающаяся. Белла была уже душевно спокойна, встречаясь с ним, как с чужим человеком. Но каждодневные трудности ослабили душевные силы, и сделали ее беспомощной, вернув к тем дням.
Белла кладет руки на стол и опускает на них голову. Со старой раной открылась и любовь, не похожая на ту. Более простая и грубая. Как проснувшаяся в ней слабость к пирожным и тортам. Белла резко поднимает голову. «Только не предаваться мечтам. Это предательство!» Она прячет фотографию в папку и кладет в ящик стола лысую гору с бедными палатками. Воспитанники ее построят модель кибуца в пустыне! «Будешь гулять по пустыне все твои дни, не в силах удалиться от лысой горы. Будешь мечтать... о шоколаде и пирожных... рядом с тарелкой, на которой – селедка».
Белла резко встает и надевает куртку. Куда? К доктору Блуму! Ему, единственному, она может поведать грехи своего сердца. У входа она задерживается на миг. Дорога к доктору далека. Может, она закажет сани или карету до Липовых Аллей? В кармане у нее ни гроша. В комнате Монте сейф. Он не заперт. Каждый член Движения может взять немного денег на самое необходимое и записать взятую сумму в лежащую тут же книгу расходов. Деньги на поездку разрешены, если речь о том, чтобы добраться до отдаленного места работы. «Что за мысли возникают сегодня в голове! Что за мысли и страсти!»
Дверь открыла ей Барбара. Она сильно изменилась. Сбросила тяжелую и темную одежду госпожи и нарядилась в кружевную розовую рубаху, яркую синюю бархатную юбку, блестящие лаковые туфли, навесив на шею ожерелье из белых жемчужин. Даже прическу сменила на башню кудряшек, а серьги с красными камешками, которые обычно носила в ушах, заменила серьгами из чистого золота. Резкий фиалковый запах духов смешанный с запахом залежавшейся одежды идет от Барбары. Вся сияющая и радостная, предстает перед ней Барбара в столь же сияющей светом гостиной, убранной и вычищенной. Даже большой черный шкаф в конце коридора покрыт политурой и сверкает, как черное зеркало.
– Что случилось? Что за день знаменательный у тебя, Барбара?
– И у меня, и у доктора.
– День рождения у доктора, Барбара?
– Верно, Белла, мы заново родились, – скрещивает Барбара подагрические руки на животе, – новая жизнь, новые веяния, новые одежды. Таков закон: когда человек выжил после большой трагедии, он должен тут же сбросить старье и облачиться в новые одежды, и придет новая душа. Ты не веришь в дух, живущий в одежде?
– Не верю.
– Зайди ко мне, и я тебе объясню, Белла-госпожа.
В кухне жара и запах вина. Запах, ударяющий в ноздри и стучащий в виски, внезапная жара ослабляют чувства Беллы. Она чувствует себя плохо.
– Иисус, – доходит до нее издалека голос Барбары, – обморок. Святая Мария, глоток горячего вина.
– Спасибо, Барбара. Я не пью вина. Мне уже лучше.
– Гойес нахес – гойское счастье! – кипятится старуха. – Горячее вино возвращает человеку душу. – Наливает Белле целую чашку. – Выпей сейчас же, пока душа не отлетела.
Один глоток приносит успокоение и легкое угрызение совести. Оставила Пумельхен одну, голодную, замерзшую, сомневающуюся после их утреннего разговора, но Беллу оставили силы сопротивления, и она отбрасывает мучающие ее мысли. Около трех часов она бродила по улицам на ветру и в снегопаде. Глоток за глотком, и тепло вливается в тело. Глаза закрываются от удовольствия. Она протягивает руку к тарелке с печеньем и пирожными на столе Барбары. Господи, до чего она голодна. Пьет и ест, пьет и ест. Веселое настроение возвращается к ней. Все кажется ей симпатичным под приятно звенящие два золотых тонких обруча на руке Барбары. Только сейчас Белла внимательно всматривается в нее. Одежда начала века, выцветшая и пахнущая молью, напомаженное лицо блестит. Белла заходится от смеха.
– Что за смех, госпожа Белла?
– Ты так необычна сегодня, Барбара. Зачем ты нарядилась, как на маскарад?
– Маскарад? Смейся, смейся, госпожа Белла. Смеется тот, кто смеется последним. Свой смех я храню для себя, госпожа Белла. Почтенная госпожа, носившая эти одежды до меня, тоже любила смеяться. Ох, как любила! В этих величественных одеждах, – старуха треплет с любовью розовую рубаху, – госпожа водила ребенка гулять ранним утром в сад. Была весна, ах, какая весна! На улицах воздух был, словно звучащий мелодией скрипки, а люди не шли, а танцевали. Днем и ночью. По ночам звезды висели, как колокола. Кто мог спать в такую ночь? Много детей тогда родилось. Много новых жизней, госпожа Белла. Прогулочная коляска блестела лаком. Маленькая головка покоилась между кружевными подушками, слепящими белизной и розовыми шелковыми лентами. Смотрел маленький доктор в голубое небо, посасывая соску. Рядом его мать, в розовой одежде. Очень любила почтенная госпожа этот цвет. Кожа у нее была светлая, волосы черные. Розовый цвет притягивал к ней светлые тона. Очень она любила эти тона и все их оттенки. И так она выходила с маленьким сыном доктора на прогулки в сад. Мне было тогда шестнадцать лет, и я приехала из села в столицу. Белый кружевной чепец на светлых волосах. Белый, выглаженный по всем складкам, фартук шуршит на мне, и на светлой кофточке розовые шелковые ленты, и я толкаю коляску с младенцем и думаю про себя: Барбара, Барбара, вот и выходишь ты с розовым доктором и с розовой госпожой в розовую жизнь. Пока я размышляю, большая тень падает на маленького доктора. У Бранденбургских ворот несет службу, следит за порядком, полицейский Шнабель, шести футов роста, с рыжими усами и глазами, зелеными, как у кота. Кареты несутся у Бранденбургских ворот, лошади ржут, и Шнабель поднимает руку, останавливая всех, зычным голосом провозглашает: «Дорогу госпоже!» – и отдает поклон почтенной даме. Кланяется публично, щиплет меня тайком в то место, о котором предпочтительно помалкивать, и умильно шепчет госпоже: «Какой красивый ребенок!» Мне же он нашептывает: «Вечером в шесть у ворот, куколка». И опять щиплет. А я размышляю: Барбара, Барбара, тень на маленьком докторе – тень бесовская шести футов ростом, усы рыжие лисьего цвета, а глаза зеленые, кошачьи, предательские. Следи, Барбара, чтобы бесовский дух не вошел в душу младенца, и не сделал навечно черным его розовое личико.
За окнами резко и долго засвистел ветер, и приятная леность разлилась по всему телу Беллы. Краем уха слушает она болтовню – Барбары. Тянет Беллу к мягкой подушке.
– Открой рот пошире, госпожа Белла, – в голосе Барбары смесь праздничности и строгости, – желательно, чтобы мои слова вошли в твое понятливое сердце, госпожа Белла, любовные ощущения, которые возбуждаются от щипка, это ощущения от беса, прилепляются к душе и не так скоро забываются. Жаркая ночь, темная ночь и рыжий бес делают свое дело. Воздух играет на скрипках, звезды над деревьями гаснут. Пока я вернулась домой, был уже поздний час, и уже на лестничном пролете я слышала плач маленького доктора. В комнате, над кроваткой склонилась госпожа в розовой ночной рубахе: «Скорей, Барбара, смени ему пеленки», – сердито зовет она меня. Неприятные запахи шли от маленького доктора. Взяла я его на руки, но от большого испуга забыла помыть руки, которые несколько минут назад касались рыжего беса. Оскверненные руки внесли частицу этого беса в душу маленького доктора. Это я привнесла в него бесовское начало. – Слезы текут по щекам Барбары.
– Ну что ты, Барбара, что ты, – успокаивает ее Белла, – никакой бес не был тобой привнесен, ведь столько времени прошло.
– Принесен и внесен, госпожа Белла, самый ужасный из бесов! Еще много дней ужасная боль не уходила из моего тела, и, представляешь, эта боль тянула меня к окну – выглянуть из-за занавеса и взглянуть на полицейского Шнобеля у ворот, видеть рыжего беса, щиплющего каждую девицу, если ему это только удавалось. И каждый его щипок отдавался в моем сердце предательством. Больше я не выходила ни к воротам, ни в сад, и больше не было розовой жизни. Розовая рубаха госпожи висит в шкафу, ибо заболел маленький доктор в ту ночь, когда ко мне прикоснулся бес в черном лесу. Жар бушевал в его тельце, и я не отходила от кроватки днем и ночью. Слезы не переставали литься из моих глаз. Барбара, думала я, бес бесчинствует в тельце маленького доктора. Где ему еще бесчинствовать, если не в ребенке и в женщине. Она должна остерегаться всеми силами бесовских щипков. Ты понимаешь мою душу, госпожа Белла? Мою, свою? Ты тоже несчастная девушка, в тело которой вселился бес.
– Ну, что ты говоришь, Барбара? – Подняла голову Белла, и глаза ее расширились.
– Не отрицай, госпожа Белла. Мы женщины, и лучше бы не были ими. Я что, не видела тебя страдающей, здесь, в постели? Не красней, я тоже так лежала месяцами после щипков Шнабеля. Ах, госпожа Белла, лежала и клялась, что не подамся соблазну больше ни одного беса. Вернулась я домой. Маленький доктор выздоровел. Было лето, ах, какое лето! Воздух был сладок, и полицейский Шнабель больше не стоял у ворот. Почтенная госпожа возобновила прогулки в саду в своем розовом платье и розовой шляпе. Так мы снова совершали прогулки, и маленький доктор с удовольствием сосал свою соску. И я сказала себе: Барбара, конец дело красит, и совершила фатальную ошибку!
Несколько лет покоя сошли на этот дом. Маленький доктор рос. Но пришел день, и жалюзи в доме не поднимались. В дверь звонили, но никто не открывал. Старый господин, банкир Блум заперся в своем кабинете. И газета лежала у него на столе. В газете – портрет смуглого человека, который обманул десятки тысяч людей, обанкротился и пустил себе пулю в висок. Выстрел пробил головы многих, чьи капиталы прогорели. В соседней комнате сидела госпожа и вышивала на черной подушке большую розу. Вошел к ней старый господин с газетой в руке и сказал ей: «Я делал с ним бизнес, и не так уж много надо было, чтобы утянуть нас в пропасть. Но кто думал, что такой гордый человек, как Аарон, окажется низким обманщиком. Ах, евреи, евреи!» В тот же день он пошел на публичную распродажу всего, что принадлежало Аарону, и вернул себе часть потерянного имущества. Вернулся с серебряной посудой и черным гравированным шкафом. Я думала про себя: Барбара. Зачем он привез этот черный гроб, похожий на клетку, в котором лишь черти водятся? Пока я размышляю, почтенная госпожа приказывает открыть дверцы черного шкафа, почистить и положить туда старую одежду, которую хранили в доме поколениями. Я делаю то, что мне приказали, и чуть не падаю в обморок. Шкаф не был пуст. В нем лежала одежда чужого мужчины, узкая, длинная, черная, и с правой стороны от нее – паук. Черная тень застилает мне глаза, и я издаю громкий крик. Почтенная госпожа рассердилась и приказала продолжать укладывать в шкаф роскошные семейные одежды. Они шуршали, словно плакали, и я думала о той чужой одежде, узкой и длинной,. И я думала: Барбара, ты изгнала беса из своей жизни и жизни маленького доктора, и вот он вернулся в этот дом, вселившись в эти чужую одежду, лежащие у дверцы шкафа. Но, все же, подумала: Барбара, ты такая дура! Евреи – святой народ, и нет у них бесов. И я с треском захлопнула дверцы черного шкафа. И снова совершила ошибку.
Барбара делает глубокий вдох, и продолжает:
– Ах, трудные годы пришли в дом с этим большим черным шкафом. Господин, почти разорившийся из-за трагедии с инвестициями в поезда и железную дорогу, всеми силами боролся, чтобы вернуть своему банку прежнюю силу. С тех пор лицо его отяжелело, и множество морщин избороздило его. Когда же, наконец, он выбрался из всех своих бед, слепой рок привел к тому, что почтенная госпожа умерла от слепой кишки. Снова была весна, госпожа Белла, какая весна! Скорбящий господин дал мне розовую рубаху и розовый зонтик умершей госпожи, и велел спрятать их в черный шкаф, приобщить, так сказать, к семейным реликвиям. Открыла я шкаф и повесила туда розовую одежду покойной почтенной госпожи, как можно подальше от чужой узкой одежды, и думала про себя: Барбара, будь бес черным или красным – дела его всегда бесовские! Захлопнула с силой дверцы шкафа, но трагедии в этом доме преследовали одна другую, и остался доктор в одиночестве, в своем кабинете, перед горящими свечами, освящающими еврейскую субботу. Свечи мигали, но не приносили в дом ни тепла, ни света. Вот так сидел доктор в одиночестве у стола, не отрываясь от язычков пламени, пока они не угасали, и белый воск не застывал на серебряных подсвечниках. Я заходила к нему, и сердце мое исходило болью. Старая и глупая Барбара, шестьдесят девять лет жизни прошли над тобой, ты видела столько трагедий. Много страниц, потолще этих словарей, можно заполнить мудростью, госпожа Белла, но кто этот бес, уничтожающий души, бес, который столько бед принес доктору, – этого старая и глупая Барбара не знает. А ты знаешь, госпожа Белла? Может быть, ты знаешь?
– Нет, – словно защищаясь, испуганно отвечает Белла.
– Ты не знаешь, госпожа Белла? Не знаешь? Но я знаю. – Вот! Барбара листает словарь, страницы шелестят, и обручи на руке старухи позванивают. – Жалкое существо. Чужое, узкое. Отвратительное, пресмыкающееся. Бес, приносящий вред. – Палец ее скользит по буквам: «Мефистофель, пещерный дух, с которым связался Фауст в легенде. Служитель дьявола...» Вот, Белла, видишь? И у евреев есть бес! Корень слова в языке иврит. Самый страшный из бесов. Черный бес из самых черных. Девиц хватает, чтобы привести их в дома одиноких бобылей и соблазнить обманной красотой. А ты, госпожа Белла, говоришь, что не знаешь! Он и в дом доктора вошел...
– Какое это имеет отношение к доктору? – Прерывает ее Белла. – Я расскажу тебе в подробностях историю Фауста и Мефистофеля.
– Фауст, Фауст! – сердится Барбара. – Не пичкай меня всякими объяснениями, когда мне все ясно. Положим, это было у господина Фауста. Но у доктора это действительно было. Я что, госпожа Белла, не видела иудейского беса, входящего в дом? Маленькие свечи мигают, и доктор у стола ожидает, что вернется душа отца, который замерз в берлинской стуже. Ждет, ждет, а душа не возвращается. Перед доктором открытая книга со странными еврейскими буквами, и он бормочет какие-то клятвы, чтобы вызвать замерзшую душу отца. Серебряный кубок с вином рядом с ним на столе, белый калач на тарелке, все готово для угощения святой замерзшей души, а она не является. Старый господин всегда был упрям, как мул. Когда на него нападал гнев, он не знал никаких преград. Очень гневался на сына из-за Гертель, ее христианской елки в доме и новых обычаев молодого доктора. И не вернулась его душа к сыну, который так ее ожидал. Свечи обозначали пустоту, не было в них праздничной святости. А там, где пустота, – жилище беса. А-а, Мефистофель, ужасный еврейский бес! У него даже мужества нет – предстать перед доктором в своем бесовском обличье, длинном, узком и чуждом. Ему девица нужна. Молодая душа всегда соблазняется молодым бесом. Девица, в душу которой вселяется бес, а лицо ее безвинно и чисто, как у Мадонны...
Белла выпрямляется, словно в ней разжалась пружина. Как сегодня все объединилось, чтобы принести ей боль. Она смыкает глаза, и там, в подсознании, Мадонна прогуливается по тропинке между чистыми, как во сне, домами, и финиковые пальмы охраняют ее своими тенями от жары.
– Ах, госпожа Белла, у тебя тяжело на сердце. По лицу твоему вижу, что ты ощущаешь эту тяжесть. Это знак, что сердце твое еще не съел ненасытный еврейский бес.
Старуха кричала, а Белла не отрываясь смотрела на тарелку со сладостями, наполовину опустошенную. Господи! Она насытилась в то время, как товарищи ее голодны. Бес водил ее руку к тарелке с печеньями. Соблазнил.
– Привести молодую девицу в дом, – продолжает бормотать Барбара, – соблазнить прямодушного человека – бежать в чужую страну, к большой трагедии – это фокусы беса и его сообщницы. И эти гнусные уловки осуществились бы, если бы не я. Я, и душа старого господина, которая все же оттаяла от стужи. Да, госпожа Белла, взяла я подсвечники и зажгла свечи в углу темной комнаты. У стола все были готовы к встрече с привидениями, и я влияю на душу старого господина, чтобы святость заполнила пустоту горящих свечей, вернула сына и спасла его от злонамеренных замыслов беса. И старый господин явился. Он пришел, госпожа Белла! Я вернулась домой со спиритического сеанса, а гостиной ослепительный свет, дверь в комнату старого господина распахнута, и там. На комоде два пустых бокала из-под вина. Это они пили за здравие, старый господин и несчастный доктор.
– Ну, что ты сочиняешь, Барбара? – раздражение Беллы усиливается.
– Он приходил! Он приходил! – ликует Барбара. – Я тотчас же спросила доктора: «Он приходил?» И доктор ответил: «Барбара, он приходил!» Ах, госпожа Белла, почему у тебя уши горят? Правда заставляет их покраснеть.
Белла обхватывает свои уши: они покраснели и вспухли от тепла и сытости. А голос старухи все еще ликует:
– Он пришел! Он пришел! Оттаяла душа старого господина и вернулась к нам. И доктор в своем кабинете начал мурлыкать какой-то мотив. Годами он этого не делал. Сказала я себе: глупая старуха Барбара, новая жизнь, новая душа, новые одежды. Иди и распахни полностью дверцы шкафа, и вот, в чужой одежде, изъеденной молью, большие дыры, она вся почти рассыпалась. Души всех остальных одежд побороли беса, находившегося среди них. Сказала я себе: Барбара, ты сохранила, защитила и спасла от трагедии сына доктора. Облачилась я в розовую рубаху и почувствовала добрый дух, вошедший в меня. Предстала я перед доктором с шубой старого господина в руках и сказала: «Выходите сегодня в замерзший город в шубе вашего отца. Новое веяние, новая жизнь». Посмотрел на меня доктор другим, чем всегда, взглядом, и сказал со смехом: «Теплая отцовская шуба хороша в эти студеные дни. Глупец же я! Был уверен, что отцовская шуба подходит лишь для маскарада».
Белла вспоминает хмурый взгляд доктора, когда сказала ему: «Все одежды здесь подходят лишь для маскарада»...
Резкий запах моли ударил ей в нос. Хватит ей на сегодня. Надо уходить.
Перед ней распахнулась дверь в гостиную: вернулся доктор. В сердце отозвалось восклицание Барбары: «Он пришел!» Она старается встретить его радостным возгласом, но язык ее прилип к гортани. Доктор в старом-новом пальто. Черная ткань оторочена поблескивающим мехом. На меховом воротнике много небольших проплешин. Пальто тяжелое, размером явно не на доктора, делает его непохожим на себя. Он холоден. Не подходит к ней – поцеловать ее в лоб, что делал всегда при встрече и прощании. Глаза его прикованы к письму, которое Барбара оставила на столе в гостиной. Не снимая мокрой одежды, он обращается к Белле:
– Привет, Белла.
Барбара входит в гостиную и заполняет ее запахами моли и фиалок.
– Вот, доктор, он пришел! Он пришел! – восклицает она праздничным голосом. Белла застыла на месте и не сопровождает доктора. Только на пороге своего кабинета ощущает доктор, что она замерла, и помахивает ей письмом:
– Белла, почему ты не идешь со мной?
Кабинет его тоже изменился. На мебели никаких пятен. Все блестит, и в комнате стоит запах мыла. Со стола улыбается ей восковая кукла, стоящая на белой чистой скатерти. С дивана ей подмигивает черная подушка с большой вышитой розой. Холодом дышат эти вычищенные до блеска вещи. Голос доктора нетерпелив:
– Что скажешь, Белла?
Белла чувствует, что мешает, и говорит устало:
– Не мешайте себе, доктор. Я вижу, что хотите прочесть полученное письмо. Пожалуйста.
Белла надеется, что доктор отложит письмо и скажет, что важнее ему узнать новости от нее. Но рука его берет ножик из слоновой кости для разрезания писем, и он указывает на кресло, стоящее в отдалении.
– Посиди пока, Белла там, в мягком кресле.
Ясно: он хочет ее отдалить от себя! Он отталкивает ее, как чужую, узкую одежду. Кресло постанывает. Нечего делать, она беспомощно погружается в кресло и вся сжимается.
«Дорогой отец.
Считанные часы прошли с момента, когда мы расстались. Поезд несется, Пруссия пролетает за стеклами. Глубокий мрак, ничего не видно, кроме очертаний сельских домов и редких огоньков, подмигивающих из тьмы, как заблудшие души в бесконечных лесах. Я делаю зряшные усилия – представить форму и облик страны. Я как слепец, и растет во мне ощущение слепых – видеть чувством то, чего не видит глаз.
Дорогой отец, это сумасшедшая гонка в мир хаоса. Я убегаю. Я дезертирую из великого буржуазного столетия, его духа и принципов – от свободы, равенства, братства, справедливости, просвещения и веры в человека... В этом тумане, через который идет гонка, я свободен от всего этого, легкомыслен и легок на подъем. Я подобен тому, кто все дни жизни был затянут в жестко отутюженный костюм, и по глупости своей понял, что совсем просто поменять его. Отныне нет суровых жизненных принципов и устоявшихся понятий морали. Сбросив эти вериги, я живу простой животной жизнью, грубой, агрессивной, и испытываю полное удовольствие от этой жизни. Как легко стало вокруг! Я уже не Ганс, слабый духом, мечтательный и разумный Ганс. Пристрастился я к темным силам, как наркотикам, подсознательным силам страсти, к темному хаосу, предшествующему свету. Нет у меня формы и облика, я один из многих, частичка массовой души. Слепой фанатизм поразил до остолбенения мой мозг. Пылающая в нем причастность к народу застелила мне глаза. Напыщенные, короткие, как по телеграфу, лозунги захватили мой дух. Вопли на улицах выступили пеной на моих губах. Грубая война за власть раскрыла во мне пение – «Аллилуйя». Грохот марширующих сапог потрясал мой слух ритмом освобождения. Опиум заставляет все забыть. Чудесно, отец, чудесно! Да забудется Пруссия за моей спиной – я втянут в гонку, несусь в будущее, навстречу новой жизни!»
Письмо упало на стол, и между бровей доктора проступила глубокая борозда. Белла в кресле упрятала лицо, Короткие ее волосы встали, как у ежа. Не чувствовала она взгляда доктора, покоившегося на ней несколько минут. Вздрогнула, когда он обратился к ней с вопросом, голос его был необычно сердит:
– Белла, почему ты хочешь репатриироваться в страну Израиля? В какой новый мир ты мчишься? Только не выставляй мне сейчас в ответ лозунги и краткосрочные истины, а скажи правду.
Она смотрит на него и не может раскрыть рта.
– Очень просто, доктор, – обороняется она и голос ее уверен, – я не хочу жить, как моя мать.
– И это все?
Доктор вскакивает со стула и начинает мерить гостиную тяжелыми шагами. – Причастность к толпе, слепой фанатизм, и только для того, чтобы выразить протест. Нет в сионизме другой цели, кроме бунта против родителей. В этом весь пыл, вся теория!
Румянец покрыл ее лицо. Лицо доктора покраснело, как лицо прокурора. Сейчас, вдруг... после двух лет, ожидания серьезного разговора о том, что их связывает. Но такого вопроса она не ждала. Причастность к толпе, слепой фанатизм... Этот доктор абсолютно изменился, стал ей чужим, словно оборвались все связывавшие их душевные нити. Испуганно блуждают ее глаза по комнате, которая тоже изменилась.
– Почему ты не хочешь быть, как твоя мать?
Перед глазами Беллы возникла красная гостиная матери с портретом усатого художника на стене, застекленные шкафы с фарфоровой и хрустальной посудой, попугай со стеклянными глазами между грудами подушек на красном диване, стучащие часы в животе бронзовой красавицы, стоящие на фортепьяно, к клавишам которого никто никогда не прикасался.
– Зуза! Зу-у-з-за-а!... – Режет слух, как пила, тонкий голос матери, зовущей служанку.
– Очень просто, доктор. Я не хочу быть мелкобуржуазной, как вы.
Старые пружины кресла под вскочившей Беллой издают стон.
– Может быть, я в ваших глазах простушка, темная душа, фанатичка, не испытывающая благодарности ни к матери и отцу, и даже к... ребенку.
Все это она хочет высказать одним духом, словно именно этого жаждет ее душа. Она борется за любовь доктора, за его мягкость, за мудрость его сердца, за доброту, которую он отдавал ей в полной мере. Если она не будет бороться за него всеми силами души, она все потеряет, и жизнь ее без него обеднеет. Но она любила мать! А любовь матери!
– Мы приехали из Польши, жили на еврейской улице. Я была маленькой девочкой, дочкой старого отца, носившего черный, длинный до пят капот, и матери, носившей парик, платье, вышедшее из моды, туфли на кривых каблуках. На улице все над ней смеялись, выкрикивали ей вслед ругательства. Лицо ее бледнело и сжималось, словно хотело спрятаться под париком, и она прижимала меня к своему потрепанному пальто, излучая тепло и любовь, и облик ее выделялся на улицах, будто она в одиночку противостояла всему холодному и жестокому миру. Мы возвращались домой, и всегда находили отца около стола в жалкой нашей квартире, считающего доходы и расходы, которые никак не сходились. Лицо его хмуро, и мать возле него, лицо ее светится добротой. Она протягивает отцу шершавые свои руки и говорит: «Будет хорошо! Все будет хорошо!» И столько надежды звучало в этих материнских словах. Филипп брал нас, детей, на скамью под липами, и там, в окружении воров и проституток, рассказывал нам об Израиле. А в голове моей звучали слова матери: «Будет хорошо!» Не прошло много дней, и мать сняла с головы парик, отец сбросил лапсердак. Лицо его было чисто выбрито, а мать постриглась коротко, по моде. Пришла инфляция, заработки отца пошли вверх, дело расцвело. Мать освоилась в новой квартире, на красном диване, в окружении кружевных подушек, фарфоровой посуды и дорогих ковров. Она приобрела новые наряды, фортепьяно, на котором никто не играл. Купила много книг, которых никто не читает, дорогих произведений искусства, которые выкупил отец у людей, потерявших все имущество в инфляции. Теперь мать не была одна против чуждого ей мира. Она стала такой, как все женщины Берлина. Настал день, и я вернулась из школы не той маленькой девочкой – смотрю, отец и мать стоят перед большим зеркалом в их спальне, он в длинном черном капоте, она – в парике и старом платье. Отец говорит: «Надо еще купить черную длинную бороду». Мать видит меня, испуганную, в дверях, смеется: «Мы идем на маскарад праздника Пурим» Старое платье на ней тесно. Она прибавила вес от хорошей жизни, поглаживает бока и говорит: «Ничего, портниха исправит платье, и все будет в порядке!» Но надежды улетучились. Я убежала в красный салон, а мать зовет меня: «Белла, иди сюда!» И за ней это словно вторят ее голосом все вазы, фарфоровая и хрустальная посуда, все картины в золоченых рамах, все коллекции, которые приобрел отец у разорившихся мелких буржуа – «Иди сюда! Иди сюда!» У вещей есть голос, доктор! Есть у них душа. Вся любовь к правде, к истине, превратилась в маскарад старых вещей, и все сверкающие новые вещи обернулись истинной любовью. Я испугалась этих новых вещей и их мелких душ. Вы действительно хотите знать, что в моей душе? Я убегаю от этих вещей и их душонок. Если вы мне скажете, доктор, что и там, в Израиле, я буду сидеть среди кружевных подушечек и красных кресел, я не поеду туда. Никакая научная теория, никакая национальная идея не повлечет меня туда, если я там буду жить этой мелкой жизнью, какой живет здесь моя мать. Я готова есть одну селедку, лишь бы не подпасть под власть вещей. Мое желание – жить большой широкой жизнью, без мелких страстей. Я не хочу поменять истинную жизнь на маскарад...