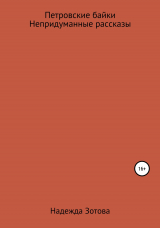
Текст книги "Петровские байки и непридуманные рассказы"
Автор книги: Надежда Зотова
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
– А что ж Акулина Карповна твоя? – Нетерпеливо спросил Алексашка, – неуж не жалко мужа-то было? Всежки два года прожила с ним. А то, может, она того… двор-то спалила? Кровь-то молодая играет, а ходу нет. Вот она и…
– Господь с тобой, – замахал Антип на Алексашку руками. – И думать такого не моги! Нечто Акулина Карповна на душегубство способна? Что ты! На Силу зубов, будь здрав сколь было. Он людей-то не жалел, вот кто-нибудь из обиженных и отомстил. А ты такое… Акулина Карповна будто каменна стояла, не крикнула даже ни разочку. Бабы вокруг воют, голосят, а она стоит белым-бела, не шелохнется. Шутка ли в такой божий праздник покойник. Однако ж, кому горе великое, а мне, прости ты меня, господи, радость большая. Ведь свободной стала моя Акулина Карповна, и вспомнил я тут матушкины слова. Значит, думаю, точно она моя суженая. Так матушке и заявил, жениться на другой наотрез отказался. «Теперь, – говорю, – препятствия у меня нету и кроме нее жить ни с кем не буду. А что до другой, то пусть простит меня, за то и ей судьба выйдет, а не простит, то бог с ней. Теперь у меня одна дорожка – к Акулине Карповне. Так тому и быть!».
Что уж бабьего крику было на мою голову и не перескажешь, – продолжал Антип. – Однако кое-как все утихло. Туточки и зачал я приступать к зазнобе своей. Она, вишь, погорелица и баба, без мужицкой пособки тяжело одной, ну, я вроде и наладился в подмогу. Да не тут-то было! Смекнула она, поди, к чему дело идет, и так ласково мне говорит:
– Ты, Антип Тимофеевич, особливо не утруждайся со мной. В подсобку-то мне и батюшка и братья будут, а ты уж в своем дому хозяевуй.
Меня как кипятком обдало. Вот, думаю, и сунуться не успел, как огрела. Вот те и молчунья-праведница! Родня быстро приспела, за дело дружно взялись. Да с деньгами-то чего не сладишь – быстро все поправили: и дом и подворье. Отец-то с братьями хотели опосля ее под себя подмять, да куда там! И им от ворот поворот дала. Так, не стесняясь, и бухнула: «Хочу, – мол, – сама на воле побыть и полной хозяйкой всему стать!». Мужики-то рты пооткрывали от такого оборота, однако ж, что сделаешь. Она здесь всему голова. Отец-то уж дюже сильно осерчал, никак не ожидал он, что дочка его так бортанет.
И села она самостоятельно хозяевать. Старуху ту, что доглядывала за ней прогнала, иных других сменила, закомандовала. Пошло дело-то у нее. Видать, не просто мужний хлеб два года ела, разумела купецкому делу. А чего не знала, спрашивала, не стыдясь, с поклоном: научите, мол, добрые люди, подскажите, что да как.
Купцы-то даром, что вдова, валом к ней валили. И собой-то она хороша, и при деньгах, и в деле купеческом разумница. Только никому ничего не обломилось. Посмеется она над очередным кавалером да и отмахнется от него: не желаю пока замуж – и все тут!
– Я, чай, мужики ей попадались сопливые да квелые, – досадливо поморщился Алексашка, – у меня бы уж не увернулась, язви ее в душу! Я б ей с ходу бы подол задрал – и поминай, как звали! Сама б посля за мной бегала, не то, чтоб в отказе быть.
– И то правда, – вмешался царь, – с чего это баба возгордилась так? Всегда у мужика верх должен быть, а она вас, как сусликов развела. Бабья натура кривая, знай это. А ты свою линию гни, не отступай! Раз задумал – добивайся!
– Дык, если б просто так к бабе ходить, так чего ж легче. Подарок какой или деньгу, она и сама побежит. Добра-то такого хоть отбавляй. А тут другое дело. Как увижу ее, руки-ноги холодеют и язык, окаянный, не ворочается совсем. Как немтырь делаюсь, и в такую робость при ней вхожу, что хуже дитяти малого. И через эту свою дурь ничего путного сделать не могу.
– Тю-ю-ю-ю, -присвистнул Меншиков, – да он, мин херц, втюрился совсем. Жаль мне тебя, – он положил свою руку на плечо Антипа и громко по-жеребячьи заржал. – Я эти штуки их бабьи знаю. Чуть почуют, что нравятся, и начинают пляски-сказки выказюливать, – он выразительно покрутил руками, – глазки строят, губки дуют и прочие свои бабьи небылицы обнаруживают. Сатанинское отродье, эти бабы, мороки с ними!
– Не бери греха на душу, Данилыч. – широко улыбаясь и блестя черными глазами, проговорил Пётр, – тебе ли на баб злиться? Уж ты ли не охоч до женского пола и разве не в фаворе у них? Где кобелю ни сучка – там и случка! Сколь их у тебя перебыло – счета нет. Ему ли с тобой и равняться, блудник превеликий. Он-то пред тобой – дитя неразумное.
– Что ж, мин херц, – смутился Алексашка, – я от того не отказываюсь. И я баб любил, и они меня, да и с тобой не раз грешили вместе, но уж чтобы заробеть перед бабой, как он, ни в жизнь!
– То-то, что ни в жизнь, – опять загоготал царь, – мы с тобой кобели старые да битые, а он-то еще щенок, что с него возьмешь? Мы с тобой того навидались, иному и в десять жизней не одолеть. А он чего коло мамкиного подола навидался? Нечто с нами сравнить! Нам, что ни хошь – все наше, а тут другая политес нужна.
Антип обалдело глядел на новых знакомых, смачно вспоминающих свои недавние приключения. Их лукавый настрой одновременно смущал и ободрял его. Он вдруг внезапно почувствовал в себе ту первородную мужскую силу, которая исходила от этих игривых под хмельком мужиков. И он, после стольких лет безнадежности, словно молодой дуб, налился соком мощности и задора, который бушевал в их жилах.
– Что же, – сказал он, подвигаясь поближе к ним, – с какого ж боку к ей подступаться? Нечто хитрость какую удумать али что?
– Экий ты медведь, Антип, – досадливо махнул рукой Алексашка, – только время зря потерял. Сказано ж тебе, надо было… – и он, сжав кулак, потряс им в воздухе, – …ухватить так, чтобы не вырвалась, а ты «боюсь, робею»! Э-э-э! Тюфяк, ей-богу!
– Да я что, – Антип покраснел до самых волос, – я ж и сватов засылал, чтоб по-сурьезному, как у людей. Токмо все едино: не пойду, потому как вольной хочу быть. Да не то что мне, и другим тож от ворот поворот. Хочу быть хозяйкой во всем – и конец!
– Да, видать, твой Сила не расшевелил бабу-то как следует, – заливисто и громко захохотал царь, – слышь, Алексашка, она, поди, и не распробовала, что к чему! – Он подмигнул Меншикову, и теперь они оба принялись громко и безудержно гоготать, то и дело переглядываясь друг с другом.
– Вот те и Сила, – ржал Алексашка, – только где и в чем? За два года баба так и не поняла, что к чему, оттого и кочевряжится. Нечто б без мужика-то при достатке долго утерпела? Да не в жизнь! А так, при дедовом мочале и охоты нет заново начинать! Тут как бы кобылку опять объезжать не пришлось!
– Ох, Данилыч, – вытирая слезы гоготал царь, – ядрен ты на язык! Ведь как, сучий пес, скажет, не в бровь, а в глаз! Ты, Антип, на ус мотай. Он, вражья сила, думаю, соленую правду-матку тебе режет. Так ты уж не взыщи, что она у него не мыта, не чёсана!
Антип, красный и потный от стыда, сидел, как ошпаренный. Было обидно за свою неловкость, робость и неопытность, и он уже жалел, что так открыто доверился этим двум незнакомым купцам. Их хохот и насмешки поднимали в нем ярость и глухую звериную злобу, готовую выплеснуться прямо сейчас на эти лоснящиеся самодовольные рожи.
– Ну-ну, – первым заметив наступившие в нем перемены, проговорил царь. – Уж и обиделся, уж и в драку готов! Не горячись, купец Антип! Не серчай на нас. Мы без злобы к тебе, а что смехом, то больше себя вспоминали, про что тебе еще и неведомо, поди. Вот оженим тебя на твоей Акулине Карповне да поживешь ты с ней годок-другой, так, может, и нас вспомнишь со смехом, поразумев-то всего. А пока не серчай, не надо… – Он ласково погладил Антипа по голове.
– Как же, ожените, – огрызнулся Антип. – Счас от стола встанем – и поминай, как звали. Вы – в свою сторону, я – в свою. Только что и памяти, что над дураком посмеяться. Вот, мол, простофиля какой, раскорячился по пьянке, широка душа!
– Ты, купец, играй да не заигрывайся! – Вскочил царь Пётр и так вдарил по столу кулаком, что чарки подпрыгнули. – Сказано, оженим, значит, так тому и быть. То ты сватал, а то я посватаю. Пусть мне попробует откажет. Сей момент беги к матушке своей, скажи, что сватать пойдем Акульку твою. Да сюда возвращайся, жди нас. А мы уж скорехонько поспеем с Данилычем, нам только другое чего для такого случая надеть, чтоб жениху не стыдно было. Да смотри, чтоб все чин чином было! За то с тебя спрошу! Ну, Данилыч, поспешим, время не ждет!
Антип ни жив, ни мертв обалдело таращился на своих знакомцев. И огромный рост, и голос, повелительный и властный, и горящие огневым цветом глаза этого великана, заставляли подчиняться ему беспрекословно.
– Ох, и подвезло ж тебе, черт чернявый! – На бегу прокричал Алексашка. – Быть тебе на Акульке женатому! Делай, как сказано, потом все поймешь! – И он шустро побежал вслед за удалявшимся Петром. – Да шевелись проворней, а то нам ждать не досуг.
Будто закрутило Антипа: как домой шел, как матери в ноги бухнулся – как во сне помнит. Маменька-то в голос, в крик: как, кто, что, откуда? Словно снег на голову, сваты какие-то, да с приказом, да с грозью, да в одночасье. Однако Антип уперся.
Снарядился быстро, одел все праздничное, новое. Матушка прихорашивалась перед зеркалом, разглядывая себя в цветастой кашемировой шали, а на столе лежали петушастые, вышитые красным шелком полотенца, предназначенные для Антиповых сватов. Хмель с Антипа весь спал, будто и не пил совсем, и с бьющимся, словно колокол, сердцем он почти бегом помчался в трактир, боясь, что там его ждут и ужо будет ему за опоздание.
Чад, пьяный гул и духота неприятно ударили в голову. Окинув всех взглядом, Антип успокоился: его новых товарищей еще не было. Он уселся ждать, посматривая на дверь. Проворный половой подлетел, лоснясь сытым круглым лицом. Антип сунул в его руку деньгу:
– Так посижу, дожидаюсь я, иди с богом.
Половой, поклонившись, ловко сунул деньгу за щеку и побежал к другому столу. Время шло, а купцов все не было. Антип взмок от волнения. «Должно, купили дурака, – думал он про себя. – Как мальца, вокруг пальца обвели. То-то смеху им счас! Да и матушка ругаться зачнет, чем оправдаешься? Одно слово – дурак!».
Он уже было хотел уйти, как дверь отворилась, и вошли двое. Нет, не купцы, не какие другие люди – а в дорогих платьях, при шпагах и с лентами через плечо, улыбающиеся и румяные – Антиповы знакомые. На головах их были треугольные шапки с перьями, и оба они имели вид геройский.
Трактир притих. Мужики и хозяева сидели, разинув рот. Казалось, муха пролетит – и то слышно будет. Антип обомлел, сидит слова вымолвить не может. Слыханное ли дело, эки люди, а он с ними запросто. И они-то не фордыбачились нисколько: и про Акулину Карповну слушали и водочку с ним пили, не брезгали купцом простым. Заробел Антип. А Алексашка, пес такой, увидев разряженного Антипа, так и прыснул от смеха.
– Смотри, мин херц, – обратился он к царю, – обомлел от изумления. Ишь, вырядился как, словно петух сахарный, так что ждал, значит. Со страху-то помер что ль? – Захохотал он, обращаясь к Антипу. – Поклонись государю, дурья твоя башка, чай, не видишь, царь перед тобой, сам император Пётр Алексеевич! Вот в сваты-то кто тебе набился, тут уж промаху не будет!
– Да как же это? – Промямлил Антип. – Да нечто можно, что сам царь? – И боязливо глянул на Меншикова. – Прости, государь, коли что не так. Мы по-простому, как на душе лежит, не гневись за глупость нашу.
– Что ж так сробел, – улыбнулся царь, – или страшен я так? Давеча мы с тобой по-приятельски говорили, коли обещал пособить, так что ж, я слово свое держу. Ты, вон, и Данилычу поклонись, без него нам не справиться, – он подмигнул Меншикову, – правая рука моя во всех делах, уважь и его.
– Так, стало быть, это Меншиков сам? – Ткнув в сторону Алексашки пальцем, спросил Антип. – Слышно, бывший холоп боярский?
– Стало быть, так! – Сердито дернул носом Меншиков. – Что бывший холоп, то верно. А ныне – денщик царский и правая рука его, князь Меншиков. Да ты, купец, никак в себя не войдешь? – Он дернул Антипа за рукав.
– Прости и ты, Ляксандр Данилыч, – кланяясь теперь уже Меншикову, проговорил Антип. – Купцы – народ грубый, мужицкой породы, не взыщи, что не так!
– Ладно-ладно, – смягчился тот, – не время нам речи вести. Дело не ждет, а то прозеваем Акулину-то твою!
– Едем, – гаркнул царь, распахивая дверь. – Водки, Данилыч,захвати да еще чего для такого дела. Ну, – обратился он к Антипу, – не робей, паря, наша будет Акулина твоя! С ветерком подкатим ко двору, знай наших!
Перед трактиром стояла сытая вороная тройка.
– Айда сюда, – рявкнул царь, – с бубенцами, со звоном поедем! Вспомним, Данилыч, молодость нашу, слободку немецкую, дадим жару молодым! Пускай помнят царскую милость!
Алексашка в обнимку с пузырями бухнулся рядом с царем. Антип молча уселся напротив. Домчали быстро. Колокольцы звонили заливисто, лошади несли резво, а ездоки то и дело смеялись, перемежая смех солеными шуточками и прибаутками. Остановились прямо у ворот Антипова дома. Купец, легко спрыгнув с возка, побежал вперед. Матушка вышла с поклоном, держа на цветном рушнике хлеб-соль. Было видно, что сын только что огорошил ее неожиданной вестью, и она, едва сдерживая слезы, умиленно глядела на входящих гостей.
– Здорова будь, хозяйка! – Улыбаясь и целуя ее в толстую румяную щеку, сказал царь. – Не время сейчас нас потчевать, ужо погуляем, когда дело сладим. А теперь, поспешай за нами, сосватаем сынку твоему зазнобу его.
Перетянувшись петушастыми полотенцами, царь и Алексашка подхватили обоих под руки и пихнули в повозку.
Акулина Карповна жила по соседству. С бубенцами, с гиканьем и криками въехали они к ней на двор. Чинно сойдя с повозки, все выстроились в ряд, ожидая царева приказа. Пётр, окинув всех веселым взглядм, по-мальчишески озорно оскалился.
– Данилыч, веди, что ли, песий сын! Ты ж у нас мастер всяческих таковских дел! Да смотри, сыпь, как горох, чтоб купчихе продыху не дать.
Алексашка, ударив себя по боку руками, затараторил:
– Ух, мин херц, будь покоен, обложу, как лису в норе, не отвертится. Да и кто ж тебе откажет? Нечто дурень какой…
Вошли в дом. Просторно, чисто, в углу образа с лампадкой, посредине стол с самоваром, снедь всякая. Сама хозяйка стоит спокойненько, ни испуга в глазах, ни смущения, ни удивления, будто давно их поджидает. Статная, пригожая, глазами обвела всех, только и сказала:
– Здоровы будете, гости дорогие, милости прошу, – ручкой белой повела, за стол усадила.
А мужики-то стоят и молчат. Они-то хотели нахрапом взять, а она их степенностью своей осадила. Алексашка и тот язык прикусил, глаз так и загорелся. Уж больно смутила она его статью и сдобностью своей. Ну, не баба – яблочко наливное!
– Здравствуй, здравствуй, Акулинушка! – Подойдя к ней и взяв ее за плечи, засмеялся царь. – Вижу, не зря Антип мается, есть с чего. Ишь, малина какая расцвела, сама в рот просится! – Он смачно расцеловал купчиху в обе щеки и губы. – Сыпь, Данилыч, как знаешь, – приказал он Алексашке, – да чтоб без поворотов. Антип, вон, сам не свой.
Купец, не мигая, смотрел на Акулину Карповну и, казалось, плохо понимал, что здесь говорят. Меншиков встрепенулся.
– Сватать тебя пришли, почтенная Акулина Карповна, – скороговоркой начал он. – Такому товару – купец-молодец, Христос да венец. Что ж куковать одной? Молода, пригожа, деток рожать должна, а с молодым-то соколом и гнездышко совьешь и птенчиков выведешь. Антип тебе челом бьет, да и мы с Петром Алексеевичем хлопочем, чай, сама видишь.
– Не слепая, небось, вижу, что государь, да не разберу что-то ты кто. Тараторить мастак, а так – не пойму.
– Меншиков это, Ляксандр Данилыч, – выдохнул Антип, – денщик царский, первый его помощник во всех делах.
– Дело говорит, – поддакнул Меншиков, – вот какова честь тебе, каких сватов дождалась. Заживете с Антипкой, как мед с сахаром. И пара с вас хороша, и детушки пойдут ровные. Любо-дорого будет глянуть.
На ее-то месте другой кто, поди, и рта бы не раскрыл посля всего, а этой хоть бы хны. Посмотрела она эдак лукаво на царского денщика и говорит:
– За честь такую, конечно, спасибо, – и в пояс поклонилась, – а токмо дело это такое, что нас двоих с Антипом касается. Значит, нам его и решать.
У Алексашки ажник рожу на бок свело от таких предерзостей, а она стоит себе улыбается. Антипа словно громом вдарило, бухнулся на лавку – и ни слова. Один царь стоит хохочет, заливается.
– Ай да баба, – говорит, – ай да купчиха, эка тебя, Алексашка, присадила, не убоялась! Палец-то в рот ей не суй, без руки останешься! Ты, Антип, покумекай, – обратился он к мужику, – сватать ли дале, быть тебе у нее под каблуком, не иначе! – А сам все на Антипа смотрит насмешливо.
Тот только рукой махнул: пропащее, мол, мое дело.
Однако тут Алексашка озлился больно.
– Нет, – говорит, – мин херц, коли что я зачал, так до конца доведу и бабу эту пренепременно засватаю.
И говорит тут купчихе:
– Ты, ягодка, не больно серебрись-золотись. Антип мужик ладный, не окрученный ни разу, а ты-то уж товар не новый, той цены больше уж могут и не дать, – и ехидно так на Акулину посмотрел, – а на Антипе-то девки гроздьями повиснут – любую возьмет!
Потемнела купчиха, улыбка с лица сошла. Того и гляди самому царю отходную даст. Вскинулся тут Антип к ней.
– Акулинушка, – говорит, – милая моя, не отказывай, Христа ради, что хошь сделаю, только выходи за меня! – А сам все то на царя, то на Алексашку смотрит.
– Ишь, – царь говорит, – эко его крутит. Решай, Акулина, судьбу свою, коли так. Да смотри, не промахнись. Такими мужиками, как Антип, не бросаются! Я б за плохого сватать не пошел!
Повела тут Акулина плечиком, зарделась вся, царю в ноги поклонилась.
– Спасибо, государь, за честь, – говорит, – и тебе, Ляксандр Данилыч, тоже. За дерзкие слова не серчайте. За то, что за мной последнее слово оставили, особый от меня поклон. А слово мое такое. Хотела я еще на воле полетать, да, видно, пора мне. Ты, Ляксандр Данилыч, верно сказал: короток бабий век, все вовремя приспевать нужно. Значит, и быть посему. Выйду за Антипа замуж!
Сладились! Поднялся тут шум, смех, стол накрыли. Сговорили молодых. Антипова мамаша уж больно была довольна. Оно, конечно, и сама сноха хороша, и добра при ней хоть отбавляй, и милость царская. Просили Петра Ляксеича с Данилычем на свадьбе быть, да куды там! Дел-то сколь у них, только успевай. А заместо подарка сделал царь Антипа поставщиком казенного провиянта, знал, поди, что не уворует. Через год родила Акулина ему сына. Петрухой назвали, а второго-то Санькой, в честь, значит, сватов своих знатных. Всего-то пятеро детишек родили, еще сынок да две девки. Хорошо жили. Только, слышь ты, Пётр Ляксеич прав оказался. Акулина всем верховодила. Как, значит, скажет, так Антип и сделает. А он не в обиде. Ежели делу хорошо да дому гоже, чего обижаться-то? С характером баба. Правильно государь узрел ее, прямо в точку попал!
Да, вот еще что. Девка-то, котора за Антипа не вышла, опосля за Акулинина брата замуж пошла, ко двору пришлась, на Антипа с Акулиной зла не имела. Дружно жили.
РУССКАЯ ВОДКА
– Слышь-ко, Захарыч, – умиленно глядя в глаза старому кудлатому солдату, улыбнулся круглолицый курносый рекрут, недавно взятый на службу и еще не утративший деревенской степенности и неторопливости в движениях, – расскажи еще байку-то про царя. Уж больно складно врешь ты, ей-бо, тако в уши брехня твоя и катится.
– Дурак ты, паря, вовсе, – сердито заворчал старик, – деревня неотесанная. Одно слово – мелешь, не знамо что. Это собаки брешут, да ты вместе с ними, а я про ампиратора Петра Ляксеича говорю, что сам знаю, али верные люди сказывали. – Он сердито пыхнул прокуренной трубочкой и отвернулся.
Был поздний летний вечер. После дневного зноя, шагистики, муштры и разных военных дел солдаты отдыхали, собравшись возле костерков и беседуя каждый о своем. Это время было самым любимым для измученных за день людей. Ярко горели огоньки костров, то и дело выбрасывая снопы искр, трещали цикады и пахло теплыми пряными травами. Небо было низкое и черное с большими зеркальными звездами, которые висели неподвижно и тихо, как кошачьи глаза.
Захарыч был самым старшим из четверых солдат, сидящих у этого костра. Этот старый служака всякого повидал на своем веку и слыл отличным рассказчиком. Был он уже почти весь седой, морщинистый и сухой, как облетевшее дерево. Казалось, весь он состоял из кожи, костей и жил, а концы его пальцев и зубы давно почернели от крепкого солдатского табачка.
– Не серчай на мальца, Захарыч, – добродушно урезонил его другой солдат, тоже поседевший, но с виду моложе и солиднее Захарыча. – Ведь Федька не с обидой к тебе, а так, по глупости брякнул. Нечто мы тебя не знаем. Сколь годов ты в службе, чего ни повидал, тертый калач. А ему-то и охота про житье наше послушать да ума набраться. Чай, сам знаешь, как чижало спервоначалу-то. Ну, и мы завсегда к тебе с почтением, так что сделай милость, расскажи что ничто.
– То-то что по глупости, – проворчал Захарыч, – дык молчи больше, коли голова с дыркой, мотай на ус. Вперед батьки в пекло не лезь, служба наша опаская, тут не токмо языка и головы лишиться можно. Дык вот случай, как раз для Федьки.
Я тогда чуть постарше его был. Так же везде нос свой совал. Где надо, где не надо – я уж тут. Меня старики осаждать, да куды там! И приставили ко мне одного солдата, он уж годов десять отслужил к тому времени. Для степенности, значит. Звали его Артемий. Мужик был – картина: рослый, могучий, красивый, и глаза – синие-синие с черной поволокой, а волос до того темен, что аж сизый на солнце. Сдружились мы с ним, все дружка около дружки.
Оно, конечно, боязно поначалу. От родных мест далеко, все не так, все незнакомо. А с дружком-то куда как веселее, особливо, ежели он уже и сноровку имеет да и знает поболе твоего. Артюха парень славный был, не гордый. Не кичился передо мной, не насмешничал, как иные. Что знал, показывал, учил. Много я от него перенял. Обычно в службе по землячеству сходятся, а мы, видать, по характеру сошлись. Он-то сам тверской, а я с Рязани, а ближе родни иной стали. Артюха, веришь ли нет, уж больно бабам ндравился. Бывало, куда ни придем, отбою от них нету Артюхе. Так глазами и зыркают, проклятые, ну, поедом мужика едят. Он иной раз не знал, куды деться от них. Зато завсегда с ним сыти были и в почете. Уж ему бабы всего нанесут и место получше выделят, всячески, значит, внимание привлекали. Ну, мущинское дело какое? Зажмет иную где, то-то визгу стоит! Ну, пошкодит малость, а так, чтобы сурьезно обидеть, то ни-ни.
– Да неужто до греха не доходило? – Изумился седовласый солдат, заступившийся за Федьку. – Ни в жисть не поверю, чтоб такой мужик в монахах ходил! – Он насмешливо посмотрел на Захарыча.
– Зачем в монахах, – глухо засмеялся тот, – я ж говорю, что он баб зря не обижал, а по взаимному согласию, известное дело… грех не грех, а живому – живое. Ну, дык я со свечой не стоял… И надо ж было тому случиться, что прибилась к нам одна маркитантка, с хохляндии сама, всякой всячиной приторговывала, и дочка при ней. Что, чего, откуда – все мраком покрыто, зачнут врать – не остановишь. А меж собой все по-свойски лопочут. Ничего не понять, потому как обе жидовки были. Мамаша-то так – и спьяну не позаришься, зато дочка – чисто загляденье. С лица белая, а глазищи черные, огромадные и две косы тож черные и ажник ниже спины. И все в ней ладно да складно, ну, загляденье, говорю. Известно, нашлись охотники побаловать, однако быстро угомонились. Мамаша кому надо шепнула, да старики по рукам дали, отшили дюже ретивых. Я хотя и сам не святой, а тоже грешник не люблю, когда баб да девок забижают напрасно. Они-то, бабы, ведь тоже люди, и им бывает чижало, а порой и чижалее нашего. Терпят много, а радости-то мало.
– Так ведь жидовка, – опять вмешался Федька, – нехристи, чаво ж их жалеть!
– Да ты и вправду дурак, Федька, – вконец осердился Захарыч. – Что ж с того? Они тоже божьи люди, и им жить охота, все перед богом равны, кто ни будь!
Федька набычился, отчего толстые губы его стали еще толще. Он перекрестился и подумал: «Пес с ним, с Захарычем, ишь чаво удумал, все в одну кучу мешать. Нечто христопродавцы хрестьянинам чета? Знамо, что от лукавого то. Он и Захарыч-то атихристово зелье курит. Ишь дымит сидит, будто печка зимой. Вонищу пущает вокруг. Оттого и мысли у него кривые в голове!».
Захарыч зыркнул по Федьке колким пронзительным взглядом, словно прочитал его думки, и, обратившись к седому солдату, недовольно проговорил:
– Должно, Макарыч, он и меня в черти определил! Глякось, как напыжился, вроде как лягушка раздутая! Смотри, не лопни! – Обратился он уже к Федьке, оскалив свои черные прокуренные зубы.
Федька заробел и на всякий случай отодвинулся от Захарыча подальше. Макарыч, заметив это, одобрительно похлопал Федьку по плечу.
– Не робей, малой! Захарыч солдат справный, битый, ему и черт не брат! Он с виду колюч, а своего в обиду не даст. Ты его слушай, перенимай, что сможешь, в нашей солдатской жизни уменье да старанье – первые помощники. Солдату без смекалки да рук умелых никак нельзя. Ну, дык сказывай что ли далее гишторию свою, – обратился он опять к Захарычу, – да не цепляйтесь меж собой боле.
Захарыч, будто не слыша, молча попыхивал трубочкой. Наконец, он прервал паузу и, подкладывая в костер сухих веток, продолжил:
– И случись же беда, как назло. Глянулся наш Артюха дочке-то. Бывалось, на день сто раз прибежит посмотреть на него, и все что-нибудь тащит ему: то лоскут какой, то кусок послаще, то еще чего. Мне и то перепадало через него. Табачку принесет, а Артюха не курит, так мне шло. И так Артюха делился, ежели попросить особливо что, товарищ настоящий, одним словом. Поначалу-то все было хорошо, вроде как шутка. А только дале-то смотрю – дело сурьезное. Приметила мать, что пропадает у ей то одно, то другое. Известное дело – на воровство подумала. И шнырь к нашему комендору. Унтера и учинили обыск и расспрос. Тута Артюха и попался. Нашли у него всякой всячины и давай рожу бить. Слова сказать не дают, лупят без продыху. Артюха и не виноват вовсе, а его и слушать не хотят. Избили Артюху до невозможостев, барахло отобрали, вернули маркитантке, а девка ее, как в воду канула. Глаз не кажет. Обидно, конечно, что за Артюху не вступилась. Вот и решил я сам к ней пойти, хоша, думаю. пристыжу чуть. Смотрю, кибитка стоит, а никого не видать. Я обошел вокруг, не слыхать ничего. Кашлянул для порядка, слышу, вроде мычит кто-то. Я тогда тихонько так позвал: «Фиря, выдь ко мне». И показалось мне, что заплакал кто-то.
Делать нечего, полез я в кибитку и вижу: сидит Фиря в углу на цепи, будто собачонка привязанная, а рот ей платком заткнут. Слезы по лицу, словно градины катятся, и руки тоже веревками стянуты. В кибитке боле никого, токмо тюки с барахлом да всякая всячина. Фиря мычит и глазами показывает, дескать, развяжи меня.
С такого, братцы, нехорошо мне прямо стало, похолодело ажник все внутрях. Живого-то человека на цепь! Лихо, думаю, дело! Ее развязываю, а у самого руки трясутся, как с буйного перепоя. Освободил я ее, а она как кинется мне на шею и ну реветь пуще прежнего. Испужался я тогда не на шутку. Знамо, коли кто услышит да войдет, что подумают. А уж ежели мамаша ейная, дык совсем пропащее дело. Стал я ее утешать. По головке-то глажу, а сам все головой кручу, прислушиваюсь, не идет ли кто, и тихохонько ей так на ушко шепчу, что не кричи, мол, милушка, успокойся, да скажи, что случилось.
Она рот ладошкой закрыла и закивала, поняла, дескать. Кое-как дознался я тогда, что избила и привязала ее мать,чтобы не бегала боле к Артюхе, что хочет она отсюда убраться, а Фиря надумала бежать, вот мать и залютовала. Я ей про Артюху сказал, так она совсем не своя стала. Шепчет чавой-то по-своему, по-еврейски, и плачет, жалобно так, будто щенок скулит. А потом прыг от меня в другой угол кибитки, как кошка на добычу, и давай там в барахле своем шурудить, а сама все чавой-то по-своему лопочет. Я уж думаю, не тронулась ли умом часом. А она вдруг опять прыг ко мне. И вижу – держит в кулачке чтой-то. Руку мою взяла и из кулачка в нее чавой-то положила и сразу зачала ругаться на меня и прогонять. От неожиданности ошалел я прямо. Черт их в душу, думаю, утекать надоть. Выскочил из кибитки – и дай бог ноги! Только и успел услышать вслед Фирин наказ: «Отдай Артемию, пусть носит, он его сбережет от беды!». Глянул я, а в руке-то у меня крест серебряный с цепью, красивой, тонкой работы. Вот, думаю, что она напоследок-то ему оставила. Наказ сполнил. Артюха-то шибко болел посля порки, а с этого креста быстро на поправку пошел. Видно, не зря Фиря все шептала на него. Отмолила Артюху у своего еврейского бога.
Боле не видали мы Фирю, убрались они от нас. Артюха крест надел, но разговоров о ней мы уж не вели потом. И скажи ты на милость, в скольких передрягах опосля с Артюхой ни были, ему все нипочем. Ни пуля, ни штык, никакая холера – все мимо него.
– Видать, жидовка дюже его любила, – не удержался Федька, – ишь заговорила как, не сжульничала, значится, с ним. Должно, жалко ей было, что чрез нее пострадал.
– Должно, так, – поддакнул Макарыч. – Бабы жалостливые бывают, особливо к хворым. Ну, дык дале-то, Захарыч, что было, не томи, сказывай.
К костерку подошли еще двое, и Захарыч сделал многозначительную паузу, ожидая, пока они пристроятся около. Пыхнув раза два своей трубочкой, он ухмыльнулся, оглядывая собравшихся, и довольный продолжил свой рассказ.
– С того случая прошло, можа, пять, можа, шесть лет. Я уж пообтесался к тому времени, уж не так, как ране, хвостом за Артюхой ходил, но дружбы с ним не бросал. Ведь, знамо, братцы, в службе-то нашей как без друзей-товарищев? Пропащее дело!
– А то как же, – закивали вокруг, – в службе армейской первейшее дело вместе всем, нечто один-то сдюжишь? Ни в жисть, токмо сообча…
– Вот и я говорю так-то, – сурово поглядев на Федьку, проворчал Захарыч, – пущай молодые мотают на ус да не шебуршатся поодиночке, потому как там, где «Я», будет хрен от муравья!
Вокруг засмеялись. Федька покраснел, но тоже засмеялся.
– Время-то быстро бежит, – опять начал Захарыч, – вот и пришли мы один раз на учения в городишко один. Унтера прямо лютуют, а понять не можем с чего. Ну, а старые-то служаки смекнули.
– Это, – говорят, – должно, шишка армейская какая-нибудь прибудет. Оттого всех и мордуют без промаху. Мы же, братцы, люди казенные: нынче жив, завтра – нет, сколь у нас радостев – не так уж и много. В бою уцелеть да сытому быть, да хоть чуть тепла, да чарка вина, а ежели командир с душой, то совсем хорошо. Вот и все наши радости. Я до вина не больно охоч. Есть – выпью, спасибо скажу, нет – и так прохожу. Ведь она какая – водочка-то россейская – ежели к ей с умом, то мать родная: от хворобы спасет, в мороз согреет, духом пасть не даст. А ежели с дурью, кто чура не знает, так лютей мачехи-злодейки: всего до нитки оберет и до гроба доведет. Горький пьяница – это ж самый пропащий человек, потому как через пьянку не токмо облика своего божественного лишается, а даже хуже любой скотины становится от безмозглости своей.Артюха тож навроде меня был, спокойно к зеленой относился. По кабакам сроду не шастал, а тут, как бес его попутал.








