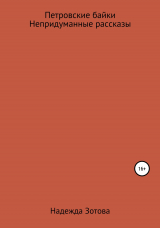
Текст книги "Петровские байки и непридуманные рассказы"
Автор книги: Надежда Зотова
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Надежда Зотова
Петровские байки и непридуманные рассказы
ПЕТРОВСКИЕ БАЙКИ
ЦАРЬ ПЕТР И КОРАБЕЛЬНЫЙ МАСТЕР
Слышь-ко, Пётр-то Ляксеич, царь наш, шибко высокого роста был. Идет, бывало, издалече видать, все выше всех. И даром, что царь, на работу злой был очень.
Сам от зари до зари в трудах и другим спуску не дает. Лодырей и лежебок очень не уважал. Боярам и боярским детям прямо горе от него. Привыкли, вишь ты, бездельничать, спать долго да есть сладко и горя не знать.
Раздуются от важности, как индюки, и только промеж себя собачатся, кто, дескать, знатнее да богаче. А коли царь в Думу зазовет вопрос какой важный решать, так молчат окаянные, пучеглазятся друг на друга и царево слово ловят, чтоб поддакнуть раньше всех.
Ну, а Пётр-то Ляксеич, даром, что царь, того не терпел. Привык сам своим умом жить и того же с других спрашивал, чтобы смекалка не спала да умишко не тупился. Очень он, говорят, сметливых уважал, примечал их сразу и к делам государственным потихоньку приманивал. Иной и не хочет, а он так повернет, что и не отвертишься. Не по родовитости людей отмечал, не по кошельку тугому, по уму, по усердию, по тому, как человек за дело душой болеет. При нем много безродного народа в люди вышло. Бояре злились, конечно, пакостили тоже. Знамо дело, кому ж под холопом ходить хочется.
А царь и тут их перехитрил. Видит, что бояре носом водят, и ну давай женить да роднить одних с другими. Те, конечно, выть, плакаться зачинали: за что, мол, гнев такой накликали. А царь токмо глазищами черными зыркнет да как цыкнет на них: «Сполняй без рассуждения слово мое царское!».
Иных за казенный счет в Европу учиться посылал. На науку денег не жалел. Надолго вперед смотрел, чтоб российскому государству не в лаптях ходить впредь, а впереди всех быть и другим дорогу показывать. Сколь богатства у России, а нищая, сколь земли, лесов да рек без хозяйского глаза, сколь морей вокруг нее – некому и сравниться, а над нами все потешаются, сиволапыми почитают.
Обидно, вишь, Петру Ляксеичу стало! Побывал в Европах, подучился, званием своим не хвастался, простым трудом не гребовал, сам сперва всему выучился. И видит он, что тамошний народ куда как лучше нашего живет. Давай, мол, и мы так-то. Умом да искусностью Бог Русь не обидел, противу нашего-то те заморские много слабее, потому как Россия на перепутье всех дорог и стран, и с какой стороны ни зайди, все ее касается. Стало быть, нужно нам уметь ответ держать за все и нигде звания своего российского не терять.
А боярам новости царские не по нутру. Чуть царь отвернется – опять за старое, одним словом, фордыбачатся. Думал-думал Пётр Ляксеич, что же ему сделать, чтоб дела побыстрее наладились да время зря не пропало, и решил не боярам поклониться, а тем торговым да мастеровым людям, кои в государстве сейчас нужнее всех. Он, вишь, ради дела не боялся голову свою царскую преклонить перед простым человеком, от коего большая польза быть могла. Бояре-то поначалу хихикали: «Куда, мол, сермяжным мужикам справиться!». А царь свою линию гнет, не отступает, и пошли дела в гору! Тут уж боярам не до смеха стало. Смотрят, то тут, то там ваньки безродные поднялись, зашевелились толстопузые! Поняли, что так-то все потерять могут. А царю того и надо. Дела-то, вишь, великие у него. Сколь сил надо, а деньжищ-то – тьма! Где и брать, если не у толстопузых да не у долгобородых! Одним словом, тряхнули они мошной. И с монастырей дань брал, никого не жалел, коли дело требовало. Ни черта, ни бога не боялся! Закрутилась Россия-матушка!
А царь не унимается. Пуще того жмет. Все сразу тянет, будто двужильный, на все его хватает и все ему мало. Кругом кряхтят-скрипят, а ему хоть бы что! Алексашка Меншиков, верный пес и приспешник его, и тот взмолился было: «Полегче, – мол,– Пётр Ляксеич, уж дюже круто берешь ты! Продыху никакого!». А царь и глазом не моргнул. Только и бросил ему досадливо: «Раю вам,– говорит, – не дам здесь, потому сам, как черт в аду, в работе киплю. А коли пуп слаб, так прочь ступай. Ныне силы есть у нас Россию тянуть!».
У Алексашки ажник дух сперло от страха, что тот его отпихнуть может, только и вымолвил: «Что ты, – мол, – Пётр Ляксеич, это я так только…».
– То-то, – царь Пётр отвечает. – На перинах да на подушках до обеда на том свете спать будете. А на этом я вам спать не дам. С петухами будете вставать, со звездами ложиться!». – И кулак Алексашке под нос.
Тот с тех пор и жалобы прекратил навечно. Знал царев крутой ндрав и скорую расправу, на своей шкуре не раз испробовал.
Но и царю, к слову сказать, иной раз перепадало. Он, царь-то наш, ходил, вишь, по-простому, вроде как и не царь. Словцо крепкое, соленое уважал и не раз им пользовал да любил окромя своих придворных прихлебателей послушать, что в народе говорят про него и про дела его. И вышел случай с ним и с Алексашкой один раз.
Надумал он для России корабельный флот строить. Народу нагнал видимо-невидимо. Кипит работа кругом, а сам царь промеж работников расхаживает да поглядывает, что да как. Сильно разумел в этом деле, у самых наилучших голландских мастеров обучался и до того навострился, что те только диву дивились его смекалке. Царь им за науку почтение оказал и даже в благодарность повелел улицу в первопрестольной именем их города Амстердама наречь, да писарь подвел. Название-то нерусское, он то ли не дослышал, то ли так переврал, а записал, чтоб по приказу царя улицу Астрадамской назвали. По сей день она так в Москве и прозывается. Память, вишь, о Петре оставили, чтоб помнили дела его великие. Ну, так вот. Ходит Пётр Ляксеевич поглядывает, а Алексашка за ним следом бежит, все царевы замечания враз к исполнению принимает.
Увидал царь мастерового одного, залюбовался прямо. Собой он кряжистый, словно дуб, чернявый и спорый на работу. Топор в его руках так и играет, точно сам вырубливает и вытесывает.
Подошел царь к нему, руки в боки упер, стоит смотрит. Мастеровому то не понравилось. Воткнул он топор и говорит царю:
– Что пялишься, от безделья маешься? Тут и своих десятников-захребетников хватает! Экое весло без дела мотается, кака оглобля выросла, а ума не вынесла!
Царь аж головой дернулся и зубами заскрипел. Стоит, как в падучей, трясется от злости и слова вымолвить не может. Алексашка подскочил, хотел мастерового кулаком заехать, да царь не дал. Алексашка и говорит тут:
– Знаешь ли ты, холопья душа, с кем разговариваешь и на кого лаешься?
Мастеровой на царя глянул: по виду не барин, не купец, не крестьянин-лапотник, а Алексашка перед ним чертом вертится. Расфуфырился, как петух, важный, словно гусак. Чует мастеровой, что оконфузился, однако виду не подает.
– Что ж, – говорит он Алексашке, – одежка у него победнее твоего, а служишь-то ты ему, вона как перед ним кренделя выписываешь. Стало быть, поважнее тебя он птица будет!
Алексашка как палкой об землю стукнет да как завизжит на мужика, аж от злости красный, как рак вареный, сделался.
– Сгною, – орет, – сукиного сына! В каторги пойдешь, рожа мужицкая, лапоть лыковый! Я, – мол, – князь Меншиков, а это сам государь-ампиратор Пётр Ляксеич Романов, – и хотел мужика палкой огреть.
Однако царь опять вступился.
– Погоди, – говорит, – Александр Данилович, – палку свою об него сломать успеешь. Дай-ка я сам с ним поговорю, попытаю, сколь силен он в плотницком ремесле. Вот, коли урок мой не выдержит, тогда за все разом ему и воздашь, чтобы лишку на себя не брал!
А мужик стоит, словно в землю врос, ни слова сказать не может, ни шелохнуться. Шутка ли, самого царя охаял!
Царь на него глянул, усмехнулся.
– Видал я работу твою, – говорит, – ладно дело делаешь. У кого учился ремеслу своему?
– Тятенька покойный учил, – мужик отвечает, – бывало, плохо сделаешь, так поленом отходит, свет не мил. Два раза повторять не любил, слету чтобы все бралось и чтобы с первого разу тютелька в тютельку!
– Знатная наука у отца твоего, – загоготал Меншиков, обращаясь к царю. – То-то, должно поленьев об него поломал!
Царь подмигнул мужику и тоже захохотал заливисто и звонко. От этого и мужику вдруг стало смешно, и он сначала робко, а потом все бойчее начал вторить им глухим басистым рокотом.
– Да, брат, и мне случалось перепадало за криворукость мою от заграничных мастеров, когда в Амстердаме я был. Хороши там корабли, нам бы такие да побольше! Нужен России флот, для славного ее будущего нужен! Давай посмотрим, – говорит царь мужику, – кого учили лучше, чьи учителя искуснее.
И зачали они рядышком одну работу делать: царь – по-своему, мужик – по-своему. Алексашка из-за царевой спины мигает: уступи, мол, Петру Ляксеичу, деревня неотесанная. А тот ни в какую! Только покосится на царя исподлобья и опять за свое. Меншиков ему кулак сложил, погоди, дескать, сукин сын, ужо тебе будет за все. А тому хоть бы хны, знай, себе робит.
Царь-то поотстал, злится, опять головой задергал, и глаза у него чернее ночи сделались. Вот закончил он работу, пот с него капает, топор в бревно воткнул и говорит:
– По времени обогнал ты меня, признаю, а вот какова работа, погляжу еще. – И прямиком на мужиково место. А тот на цареву работу глядеть пошел.
Поглядел да и говорит царю прямо в глаза:
– Не годится супротив моей твоя работа, царь-государь! Родитель мой покойный об тебя не токмо полено, а и бревно бы обломал! Уж коряво ли тебя выучили мастера твои заморские или ты бестолков, а только работу б твою тятенька мой не принял!
А царь-то над мужицкой работой сидит и глаз не поднимает. Стыдно, вишь, ему, что сермяжный-то мужик его обштопал. Только делать нечего, надо ответ держать. Меншиков стоит ни жив, ни мертв, не знает, что и сказать. Надо же, мужицкое отродье, самого царя оконфузил! Но не даром Пётр Ляксеич Великим-то прозывался, не по росту токмо, по силе духа тож, говорит он мужику:
– Твоя взяла, душа из тебя вон! Сказывай, кто и откуда, как звать-величать тебя?
– Андрей Михайлов Ковшов, – мужик отвечает, – Воронежской губернии деревни Кряжи. – Сызмальства по плотницкому делу, семеро братьев нас.
– Добро, – царь говорит, – и что ж, все семеро плотники?
– Все, – кивнул мужик, – мы ершистые да к делу сноровистые! Ты уж не гневайся, царь-государь, на мужицкую правду, ее не всякий сказать может, жила не у всех позволяет!
– А тебе, значит, позволяет? – Засмеялся царь.
– Позволяет, – кивнул Андрей, – потому как прореха – всему делу помеха. Раз скособочишь, все вкривь пойдет, не выправишь опосля. Потому и делать надо, чтоб намертво стояло!
Обнял Пётр Ляксеич мужика и говорит:
– Ну, спасибо тебе, Андрей Михайлов Ковшов, за правду твою да за то, что не за задницу свою, а за дело душой болеешь. Вижу теперь, что поднимем Русь, коли русский мужик так берется, верю, что быть России державой великой! А тебе от меня за мастерство и за правду твою вот на память червонец золотой. Своих сынов вырасти да прикажи, чтобы славы твоей не роняли и России, как ты, служили, чтобы дальше тебя пошли и память твою добрыми делами вершили!
Поцеловал Пётр Ляксеич Андрея и дальше вместе с Алексашкой пошел. Тот только и успел головой покачать и руками развести: фортуна, мол.
Андрей Ковшов, говорят, в купцы потом выбился, разбогател, дело крепко держал, а почином тому будто червонец царский был.
КАК ЦАРЬ ПЕТР КУПЧИХУ СВАТАЛ
Царь Пётр Ляксеич тогда уж в годы вошел, в Петербурге жить зачал. А токмо нет-нет да и завернет в первопрестольную поразведать, как она, матушка, туточко без его хозяйского глаза. Знамо дело, ты хоть кого заместо себя оставь, а все едино с хозяйской рукой ничто не сравнить. В кумпанстве с ним и Алексашка Меншиков увязался. Энтот, как пес, везде за царем таскался и в такую силу при нем вошел, что и придворным боярам не снилось. Советчик первый при Петре Ляксеиче был. Деньгами крутил немеренно и в полном доверии у царя был. И так навострился царевы желания сполнять, что тот, бывало, токмо рот открыть хочет, а Алексашка уж во фронте: все, мол, сполнено, мин херц. Это он царя так называл по-немчурински, вроде как друг сердешный.
Ну, мужик ведь завсегда мужик, ежели мужик, хучь в каком чине ни будь. Вот и Пётр-то Ляксеич с Алексашкой святыми-то не были. Все же естество свое берет. Да и то сказать, эдакий мужичина да чтоб монахом прожил! Ни в жисть такому не бывать!
Я те больше скажу. Иной и смирный и тихий, живет себе никого не трогает. Так нет тебе! Обязательно шельма какая попадется, все мужчинское нутро перемутит, спокою лишит и зачнет, стерва, куражиться: вот, мол, я какая, возьми меня съешь. А токмо мужик сунется по простоте душевной – накося выкуси! И опять круть да верть перед его носом.
Иные просто болеть зачинают, сердешные, не пьют, не едят, до сухости доходят, а энтих еще больше забирает оттого, что власть такую над мужиком заимели. Одним словом, сучье племя адово, ядри их в кудыкину гору!
Ну, вот, значится, Пётр-то Ляксеич с Алексашкой свои государственные дела сделали и решили передохнуть малость после трудов праведных. Москва не Петербург. Кругом попы да бояре, и все воют да жалятся, а то Петру Ляксеичу хуже ножа вострого. Покуда долгогривых да долгобородых с места сдвинешь, сам упреешь. Им бы сидеть коптеть да брюхо растить, а царь покоя не дает, аж сам запалился.
Вот и собрались они с Алексашкой чуток в кабаке охолонуть, душу отвести. Царь и говорит Алексашке:
– Ты, Данилыч, петушиное-то свое скинь, одень чего попроще. Запросто пойдем, а то ты враз меня обнаружишь, а я хочу так побыть-послушать.
Меншиков-то пыль в глаза пустить любил, но царя ослушаться не посмел, переоделся по-купечески.
Пришли они в кабак. Сели. Кругом шум, гам. Мужики пьяные песни орут, пляшут. Ну, кто во что горазд. Половые только штофы успевают подносить. Смотрят, за одним столом мужик сам с собой сидит. По виду купец, справный мужик, токмо смурной очень. И тянет горькую одну за другой, будто воду пьет. Царь подмигнул Алексашке, дескать, тащи сюда его. А купец ни в какую, сидит недвижимо и токмо головой мотает и пьяные слезы вытирает.
Царь не погордился, сам к нему подсел, Алексашка туто ж присобачился. Налил Пётр Ляксеич всем по чарочке, чокнулся с мужиком и говорит:
– Выпей со мной, мил человек, за здоровье мое с кумпаньоном моим да и за свое тоже.
Выпили. Поставил купец чарочку на стол, встал, царю поклонился.
– Благодарствуем, – говорит, – за угощение и долгого вам жития.
Тут царь его и спрашивает:
– Прости, – мол, – если не в свое дело лезу, только с чего ты так печалишься-кручинишься? По виду-то ты мужик не промах, собой ладный да и не голь перекатная, али горе у тебя какое непоправимое?
Мужик только рукой махнул и опять за горькую.
– Э, – царь говорит, – в пустое дело ты ударился. Сия водица горю не поможет, а самого сгубить может, – и хвать его за руку. – Ты лучше расскажи нам с кумпаньоном моим про горе свое, вдруг чем пособим и тебе душе полегчает.
– Верно, – Алексашка подхватил. – Ничего хуже нет горе с самим собой мыкать, надорвешь нутро – потом не выправишься. Сказывай лучше, что за беда с тобой приключилась.
– Эх, люди добрые, – вздохнул купец, – не знаю, как и приступиться к рассказу моему. Оттого молчу, что насмешек боюсь, сколь вынес их – не счесть, стыдно и рот открыть.
Царь с Алексашкой переглянулись.
– Уж не баба ли виной всему? – Алексашка спрашивает. – Они ведь на всякие такие штуки горазды до невозможности.
– Угадал ты, – мужик отвечает, – баба, купчиха наша, соседка моя Акулина Карповна.
Алексашка царю незаметно подмигнул, дескать, слушай государь. Царь трубочку прикурил, помалкивает, а сам купца глазами ест.
– Ну, дак что ж дальше, рассказывай, коли начал, – толкнул Алексашка мужика.
– Да чего уж там, – мужик отвечает, – люди, я вижу, вы нездешные, авось, если насмешку и сделаете, то где в другом месте, а мне, может, и вправду легче станет.
Он тряхнул копной кудрявых черных волос и медленно начал.
– Так что, люди добрые, зовусь я Антипом Тимофеевым Иголкиным, купеческого звания. Бога гневить неча: двор крепкий имею, хозяйство доброе, что от тятеньки перешло, да двух сестер замужних, тоже за справных купцов отданных, да матушку, что со мной осталась. Я к нашему делу сызмальсва приучен. Бывало, родитель наш, куда ни поедет, с собой тянет, пущай, мол, приучается да помогает: и копейка целее будет и надежнее свой-то глаз. Так я уж поднаторел под рукой-то его. Дела шли – лучше не надо. У батюшки, вишь, нюх прямо на барыш был. Иной кто пока расторопится, а он уж взял свое. Завидовали многие, козни всякие строили. Сколь раз спалить хотели, только бог миловал. Он ведь шельму метит. А только батюшка все едино не уберегся. Как-то по весне с обозом ехал, а одни сани возьми да и в полынью провались, тонуть зачали.
Товару-то на санях много. Жалко, что пропадет зазря. Вот батюшка и почал нырять в ледяную купель добро спасать. Знамо ведь, как горбом своим тяжело наживать. Кое-как с мужиками сани-то вытащили, а тятенька больно сильно охолонул да с тех пор грудью и занемог. Пролежал в горячке с месяц, сердешный, да и преставился, Антип набожно перекрестился. – С тех пор один я со всем стал управляться. Поначалу боязно было, за отцовой спиной кто не герой? Сторожко, по шажку, дело и пошло. Еще две лавки открыл, широко зажил. Коли б батюшка жив был, должно, доволен бы мной остался.
А по соседству с нами другой купец жил. Силантий Еремеевич Порфирьев, по-улишному Сила. Уж борода вполовину седая и голова с плешью, а все в бобылях. Хозяин он дюже справный, только не в меру жаден был. Среди купцов и то, бывало, ропот, что Сила из-под себя сожрать готов.
И вдруг, как гром средь ясного неба, Сила женится. По всему порядку гул, гудеж. Бабы с девками все языки отмотали, кто да что. Знамо, сколь кумушек с дочками на такой кусок зуб имели, да мимо рта пронесли. А Сила-то хитер оказался. Он девку эту давно уж присмотрел, только виду не показывал. Спугнуть боялся. Она, вишь, почитай годков на тридцать моложе его. Одна дочка у родителев среди шести братьев. Попробуй, обидь али что – зашибут до смерти. Опять же не голь какая, мошной не возьмешь. И зачал он на кривой кобыле их объезжать. В кумпанство к ним втерся да возьми и подставь их в казенном деле, так их в долги и вогнал. Рыпнулись они было чего, а он им векселя долговые, те и за головы схватились. «Отдавайте, – говорит, – девку за меня, не то всем вам каторга». Ну, те повыли-повыли и согласились.
– А что за казенное дело такое? – Царь тут спрашивает.
– Да по нашей купеческой части, – Антип отвечает. – Царевым служивым провиянт да мануфактуру поставить. Коли что залежалось да гнить зачало, то туда запросто. За ничто гнилья накупят да с царскими ворами барыши и поделят, будто хорошего товару купили. Поди, потом разбери, кто виноват. А солдатик-то и вовсе человек казенный, кому ж ему жалиться?
Пётр Ляксеич прямо с лица почернел и головой задергался. Сидит, трясется весь, ажник стол ходуном ходит. Алексашка в муравья ужался. Тож шельма был, царев кулак за то не раз испробовал, знал, пес блудливый, за что бивали.
– Сыграли свадьбу, – снова продолжил свой рассказ Антип. – Прямо скажу вам, вроде и богато было и гостей довольно, а токмо веселья живого, радости никаких. Отец с братьями, как тучи, сидели смурные, что и зеленая их не брала, а матушка-то аж в голос выла, будто на похоронах. А невеста, изукрашенная вся, как с Силой на лавку села, так во всю свадьбу и глаз не подняла, будто каменная сидела. Гости-то закричат «Горько!», а она прямо побелеет вся, словно покойница, ни кровиночки в лице. Один Сила рад, расцвел, репей старый, и все ее бесстыже руками загребает да мнет без терпежу.
– Что ж девка так уж хороша, что твой хрыч стыда лишился? – Прищурив загоревшийся глаз, спросил царь и ущипнул себя за ус. – Заесило что ли так, что порты загорелись?
– То-то что заесило, подтвердил Антип, – должно, и порты загорелись. Я сам, как ее увидел, будто огнем меня опалили. Высоконька, не толста, но в теле, волос густой, темно-русый, а брови соболиной черноты, и глаза темны с огоньками, с лица дюже пригожая и статью хороша. Маков цвет девка, а такому хрену досталась! И вошла она в меня, как заноза, с той свадьбы. Не велю себе о ней думать, а она из головы нейдет, мимо дома ихнего иду – все глаза просмотрю, не мелькнет ли где в окошке, куда ни пойду, не чаю встретить. А Сила, сучий сын, как чует, никуда не пускает. Сидит моя кралечка одна взаперти да, прости господи, этого старого черта поджидает. – Антип широко перекрестился и сплюнул. – В церкви только и видались, как в воскресенье ходили, и то он там боле глазами зыркал по сторонам, чем крестился. К ней и баб никаких не подпускал, старуху только приставил доглядывать да его нахваливать, та все и шипела на всех окромя его. К отцу-матери и то не пущал, видать чуял, что не по себе сук срубил. Знамо дело, зять старше тестя… Да и жлоб тож, расходов лишних не допускал, снегу зимой не выпросишь. Так прошло два года.
– Деток-то, стало быть, не было у них? – Вмешался Алексашка. – В добре-то уж парочка бы и прибыла.
– Не было, – улыбнулся Антип. – Уж Бог ли не допустил от аспида такого или еще что, а не было. Не принесла ему Акулина Карповна ни сынка, ни дочки. Не бери не свое, все едино счастья не будет. Одна маята.
– Ты дальше говори, – поторопил его царь, снова наливая всем по чарке. – Промочи-ка горло да закуси для смака, – он пододвинул Антипу миску с жирной вареной бараниной, – веселей рассказ пойдет.
Чокнувшись, выпили и, жадно вгрызаясь в сочные куски, оба – и Алексашка и царь – вперились в Антипа горячими глазами.
– К тому времени, – снова начал Антип, – надумала матушка меня оженить. Уж и невесту присмотрела, нашу дальнюю сродственницу, и зачала ко мне издалека подступаться. Зря хулить не стану, видал я ее, хорошая девушка – и работящая и собой не плоха, а только не к моему сердцу. Я уж и так и эдак отшучусь – не унимается матушка.
«Пора, – говорит, – тебе, милок, своим домом, своей семьей жить, а мне внуков качать. Отец-то не дожил до того, стало быть, на мне долг сей висит и мне его сполнять. А хозяйство у нас большое, и руки работящие мне в подмогу нужны. Допрежь она до всего дойдет, сколь воды утечет. Да и пора уж тебе в мужиках ходить, а не в парнях». Зудит и зудит, спасу нет. А как скажешь, что другая люба, да еще мужняя жена, да Силина хозяйка!
Антип тяжело вздохнул и опять, молча, подвинул свою чарку к штофу. Так же, не проронив ни слова, царь опрокинул пузырь и доверху налил Антипу водки, аж полилась даже через край. Залпом опустошив чарку, он утерся рукавом своей рубахи и продолжал:
– Знамо, в купеческом деле как: деньга сперва, хозяйство. А уж что шуры-муры какие, то дело десятое. Сроду так, кого мать с отцом присмотрят, те и суженая с суженым. Ослушаться воли родительской не моги – проклянут. Голышом со двора сгонят. Опять же никакой надежи на Акулину Карповну у меня не было, одна сухота. Может, думаю и впрямь жениться, клин-то клином вышибают, авось, отобьется от души заноза. На масленицу смотрины сделали, уговорились на Красную Горку свадьбу справить. Матушка зарадовалась до невозможности. И Сила зыркать на меня перестал. Что ж, дело решенное, со своей бабой теперича буду, ему, знать, спокойнее оттого. А только душа-то у меня не на месте, ровно рвется что-то внутри. Вот уж и матушка замечать стала, что не в себе я. «Что это ты, голубок мой, не захворал ли часом, не приведи господь?», – спрашивает. А сама смотрит так, как наскрозь сверлит. Я молчу, а внутри-то все трясется, вот-вот лопнет, самому-то и то страшно. А она не отступает: «Скажи да скажи, что с тобой деется, материнское сердце вещее, единственному сыну не враг». Бухнулся я ей тут в ноги и повинился. «Что хошь, – говорю, – матушка делай со мной, а только не жени, потому как не будет мне жизни без Акулины Карповны, Силиной жены. А пуще того боюсь, что безвинную душу загублю будущей своей суженой, потому как любить ее не могу и доли ей со мной не будет». Маменька в слезы. «За что, – воет, – бог наказал? Ведь, ежели Сила узнает, со света сживет. Ему, нехристю, человека сгубить да по миру пустить, греха никакого. Дознается, старый черт, хлебнем лиха! И от людей сраму не оберешься, сколь языков злых да завистливых вокруг!».
– Эка ты, парень дурень, – Алексашка тут говорит. – Да слыханное ли дело у купца жену отбивать! Уж родителю яснее, кто тебе сгоже. А ты бы норов свой кобелиный за пазуху спрятал да и держал его там до поры до времени. Жизня-то долгая, глядишь, и обломится чего и, може, оттуда, откуда и не ждешь!
– Здоров ты, Алексашка, другим в уши заливать, – усмехнулся царь Пётр. – Тебя послушать, так агнец небесный, а на деле-то я, чай, со счета сбился, скольким девкам да бабам ты юбки задирал. Знаю я натуру твою кобелиную, а тут ишь лазарем каким поет! Ты, Антип, его не слушай, представляй историю свою дальше.
– Вот ты так всегда, мин херц,– обиженно надулся Алексашка, – а я токмо для его пользы старался. Уму-разуму учил. Опять же и ты… – он запнулся, чуть было не сказав «государь», – и ты не святой, сколь раз одним грешком попутаны!
– Ладно-ладно, – неожиданно расхохотался царь, – однако же ври, да знай меру! Да язык за зубами покрепче держи, дела да и грешки наши с тобой уж больно многим не по нутру. Ты про это помни.
Антип растерянно и настороженно слушал их перепалку, поочередно переводя взгляд с одного на другого. Было видно, что он струхнул и уже не рад своему знакомству.
– Что, Антипушка, испугался? – Желая успокоить купца, спросил царь и ласково похлопал его по плечу. – Ты не бойся. Это я так Алексашке… Он, сучий пес, хвастать горазд, особливо, как винца попьет. Вот я и осадил его малость. А ты сказывай дальше.
Антипка-то хоть и молод был да и выпивши сильно, а смекнул, что не больно простые люди перед ним, хоша и назвались купцами и по виду вроде ему ровня. Царя-то Петра Ляксеича, он сроду не видал, а от отца-то слыхивал, что царь росту огромадного и с ним везде главный его помощник мужицкого роду, а по званию выше всех именитых бояр. А тут, батюшки свет, сидят прямо перед ним два мужика: и один, как коломенская верста, а другой, вертлявый, ровно бес, перед ним крутится.
– Что это ты выпучился на нас? – Желая загладить вину перед царем, цыкнул Алексашка. – Дальше давай про Акулину свою рассказывай. Да не бойсь, не бойсь, вреда никакого мы тебе не сделаем, а пособить можем, коли что. Так что сказывай давай! – И он лихо подмигнул Антипу.
У Антипа от сердца отлегло. «Мало ли что спьяну померещится, – думает, – мало ли здоровенных мужиков в Россее. Только царю и дела, что по кабакам шляться да водку пить. Вона, и ручищи-то у него в мозолях да в копоти, нечто у царей так-то бывает!». И это совершенно успокоило его.
– Легко те лаяться, когда не тя касается, – огрызнулся Антип Алексашке, окончательно осмелев. – Знамо, чужую беду рукой разведу, к своей – ума не приложу. – Он сердито посмотрел в нагловатые насмешливые глаза Меншикова. – Акулина Карповна и в девках была загляденье, а в бабах еще пуще расцвела. Глаз отвесть невозможно. Оттого Сила-то и бесился. Мужики-то окрест только языками щелкали от зависти, да зря все. Маменьке-то меня жаль, конечно, да что делать-то? Поплакала она сколько-то, погоревала да и говорит: «Положись, голубок, на бога, он тя не оставит. А пока пусть все идет своим чередом. Коли это твое, никуда от тебя не денется». Так и порешили и уж боле об этом не разговаривали. Только радость с маменьки сошла, тихая такая стала, будто мышка.
Зима меж тем кончилась, занялась весна. Дружная такая, ранняя. Известно, купцы все, как муравьи, в своих дворах да лавках, а тут весной и подавно. Торговый люд, только успевай поворачивайся. Вот и мы так-то с маменькой – все в работе кипим. Свадьба на носу да прочие заботы – так наробишься, что едва до подушки доползешь, глядь, а уж спишь непробудно. Наступила Пасха, Пресветлый Христов День. И пошли мы с матушкой, как положено, в церковь. Глякося – и Сила тож с Акулиной Карповной своей идет. Сердце во мне захолонуло все: ни жив, ни мертв иду. Да и маменька лицом побелела. Поравнялись мы, христосоваться зачали. Сначала Сила с маменькой да со мной, потом уж Акулина Карповна. Поцеловалась она с матушкой, на меня глаза подняла. А из них так искры и сыпятся, словно кто там внутри огоньки зажигает, и сама она так жаром и пышет. Я стою, как чумной, а ей смешно – знай себе заливается, будто колокольчик, хохочет. И загорелось во мне ретивое пуще прежнего! Будь что будет, думаю, а где-нигде добуду ее себе. Матушке, конечно, ни гу-гу про это, итак уж я ее огорчил. На Пасху, известное дело, пей-гуляй народ. А у купцов-то особенно. Кажинный себя пошире показать хочет, спьяну-то очинно дурь любого видна. Тут те и мордобой, и самохвальство безбожное, и все, что ни на есть глупого в человеке выявляется. Иные под пьяную руку лезут, чтоб самим чем поживиться, либо вызнать чего да мало ли… Бывает, так зеленой хватят, память начисто отшибает. Ничего не помнят: где гуляли, с кем были и куды такую прорву деньжищ дели, наголо пропиваются. Вот таких-то дурачков Сила и обдирал. Сам-то он почти не пил, так только пригубит да поставит, а другого-то подпоит да в душу ему ужом и вползет. И уж коли что выведает потайного у человека, тут ему и удавка на шею, не даст жизни. И словно паук, будет высасывать того человека, пока до последней капли не высосет. Батюшка покойный хоть и не робкого десятка был, а с Силой сроду не связывался, опасался его и дел с ним никаких не имел. Другой был человек, не чета Силе-то, уважали его купцы.
День-то тот прошел-прокружился. По гостям да по будущей родне так находились, впору ноги рубить. Опять же выпили, как водится, разомлели и спали, словно убиенные. Только в ночь зачали к нам стучать, что ни есть мочи. Спросонку-то да выпивки не сразу и в толк возьмешь, что стряслось. А на улице – шум, крик, вопли. Мы в окошко-то – зырь, а там народ бегает, орет, и кто с чем – с ведром, с лоханью – Сила горит!
Накинул я что ни есть на себя – и туда. Смотрю, возля Силиного двора толпа огромная, а уж дом его вовсю занялся. Акулина-то Карповна стоит среди толпы не колыхнется, зато Сила орет, что есть мочи, чтоб добро-то его спасали. Однако ж охотников не нашлось в огонь лезть за Силу, жисть-то дороже. Некоторые, кому Сила напакостил дюже, радовались даже, вслух лаяли шельму. Так он все сам бегал в избу горящую, понатаскал, что смог, видать, и деньги уберег, да только и тут его жадность сгубила. Уж навовсе все загорелось. Лей не лей – толку мало, а он все в огонь бегает. Мужики-то, было, схватили его, да куда там! Будто взбесился Сила! Честит всех последними словами. Ну, и плюнули мужики. «Пущай, – говорят, – лезет, кровосос проклятый, коли лается по-собачьи да добра знать не хочет!». Сила-то и рванул от них в горящий дом. А тут как затрещало все… Сгорел Сила… заживо… – Антип замолчал и опять перекрестился. – Хучь и худой он человек был, – сказал он, – однако ж хрестьянин, и бог ему судья.








