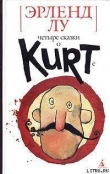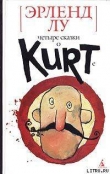Текст книги "Стезя смерти"
Автор книги: Надежда Попова
Жанр:
Историческое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Ты этого хотел, – подвел итог Райзе, с издевкой пожимая ему руку и направляясь к двери. – После не хнычь.
– Я ценю, что ты в меня веришь, Густав, – не выдержал Курт; тот рассмеялся, уже с сочувствием, и кивнул, берясь за ручку двери:
– Желаю удачного разочарования. А серьезно – если что, обращайся.
Оставшись наедине с безмятежным студентом, Курт с минуту стоял посреди комнатушки, медленно озираясь вокруг; удовлетворение и радость от того, что добился своего, мало-помалу уходили, уступая место некоторой потерянности. Не слишком удачно завершенное первое дело, при ведении которого выпускник академии святого Макария, приходится признать, не блистал особенным здравым смыслом, не вселяло уверенности в своих силах, да и Райзе со своей иронией несколько выбивал из колеи – более, нежели он пытался показать…
– Вот зараза… – тоскливо пробормотал Курт, приблизившись к телу на постели, и, пристально вглядываясь в лицо покойного, озлобленно сообщил: – Если выяснится, что ты понапрасну обеспокоил меня – пойдешь как лжесвидетель.
Студента, судя по его невозмутимому лицу, данная перспектива пугала слабо, что, впрочем, было малоудивительно – его неприятности в этом мире закончились, а вот проблемы господина следователя лишь начинались, и винить в этом, как всегда, было некого, кроме себя самого.
– Итак… – неопределенно подбодрил себя Курт и, усевшись на краешек скамьи у стола, решительным движением шлепнул перед собою опись имущества покойного.
Филипп Шлаг (двадцати шести лет, студент Кёльнского университета, пришлый) за три года своего обучения не скопил особенных богатств: вся немногочисленная мебель была, разумеется, во владении хозяина дома (Якоб Хюссель, урожденный кёльнец, холостяк, пятидесяти четырех лет) и состояла из шкафа, скамьи, на которой восседал майстер инквизитор в данный момент, табурета, стола и кровати. Даже постельное белье, если верить составленному списку, принадлежало домовладельцу; стало быть, бралась и дополнительная плата за поддержание оного в периодической и относительной чистоте…
Книг у почившего фактически не было, не считая « Experimenta et observationes ad biologiam plantarum» [24]24
«Опыты и наблюдения по биологии растений» (лат.)
[Закрыть]и справочника « Siglorum vocumque abbreviatorum explicatio» [25]25
«Объяснение условных обозначений и сокращений» (лат.)
[Закрыть]в десяток листов с разорванной обложкой; к слову, опрятностью Шлаг явно не отличался – одежда, которую он снял перед сном, валялась прямо на полу, и лишь рубашка висела на столбике изголовья, приветственно помахивая свешивающимся вниз рукавом на слабом весеннем ветерке, проникающем в растворенное окно.
По показаниям хозяина дома, вернулся студент поздно – почти в полночь. В шкафу, сообразно списку, лежал свечной огарок и пара непочатых свечей, пустой подсвечник стоял на столе, а светильник с, судя по запаху, дешевым и довольно-таки грязным маслом – на окне, где держать его зажженным не станет ни один человек в своем уме; стало быть, вчерашним вечером студент медицинского факультета Филипп Шлаг, войдя, немедля же разделся, разметав вещи как попало, и улегся в постель, где и умер вскоре после этого, как вывел Райзе, да и как мог судить сам Курт по величине и цвету трупных пятен на лопатках и пояснице. Даже самый усталый человек, возвратившись в свое жилище, сперва зажигает свет, дабы не сшибать мебель (исключения вроде него самого к делу не имеют касательства – навряд ли Шлаг страдал пирофобией); стало быть, покойный был не просто усталым, а усталым, как это ни курьезно в данной ситуации, смертельно.
– Ни хрена себе ты утомился на учебе, – хмыкнул Курт, вновь адресовавшись к недвижимому телу. – А еще говорят, что от лишения сна умереть нельзя… Ректора вашего, что ли, замести за жестокость?..
И хоть побеседовать с ним надо наверняка, уже всерьез додумал Курт, сложив и убрав список; вообще, пообщаться необходимо со всеми, кто умершего знал, – это положено по всем предписаниям, но с руководством университета и с наставником студента в ботанических науках уж тем паче. Кстати сказать, «медицина и ботаника» и «необъяснимая смерть без видимых повреждений и признаков насилия» – это сама по себе довольно настораживающая чреда понятий; чего только ни существует в мире трав, умеющее не оставить ни запаха от губ, ни пятен где-либо, ни следов судорог, ни вообще каких-либо примет отравления. Если слушатель медико-ботанического курса Филипп Шлаг принял нечто, убившее его и не оставившее никаких признаков этого, оное вещество теперь осталось лишь только в крови, где даже Райзе с его химическими познаниями не сумеет ничего вычленить…
Курт вздохнул, скосившись через плечо на тело, вновь начиная ощущать, как где-то над переносицей оживает мерзостная, точно ввертывали заржавелый штырь, тяжелая боль; разразившись еще одним вздохом, прошагал к изголовью и присел на корточки, глядя в окаменелое белое лицо. Вот, внезапно осознал Курт, вот в чем дело: лицо не попросту спокойное – даже вовсе не спокойное, а – ублаженное какое-то, лицо человека, ублаготворенного и не желающего более в жизни ничего, кроме того, что обрел в сей миг. Такие лица бывали у людей, достигших в молитвенном бдении того состояния, когда они перестают замечать окружающее, слышать людей подле себя и даже видеть Распятие, перед которым начинали произносить слова молитвословий. Словно просто вошел через распахнутое окно ангел во всей силе и славе и унес душу спящего человека прочь, а человек в предельный миг жизни успел открыть глаза и ангела сего узреть …
– Что ты увидел? – тихо пробормотал Курт, всматриваясь в остановившийся взгляд перед собою. – Что тебе пригрезилось?
Человек, умерший во сне; человек с умиротворением в лице и целой вселенной во взгляде – почему? Разве не должно было в последнее мгновение его жизни сердце, сжавшееся в конвульсии, легкие, мозг – разве не должно было его тело родить в сознании всплеск смятения, страха, изумления, в конце концов, каковое зачастую можно увидеть во взоре мертвых? Разве не должен был присниться Филиппу Шлагу апокалипсис, раздирающий его на части? Разве не должен был его рассудок встрепенуться, хотя бы задав самому себе в последний миг вопрос – «что происходит?», хотя бы удивиться странным ощущениям умирающего тела?..
– Ты не спал, верно? – уже шепотом произнес Курт. – Ты не спал, когда в последний раз вздохнул… Пусть в последнюю секунду – но ты свою смерть видел, я знаю…
Этого нельзя будет объяснить начальству, этого наверняка не поймут ни Райзе, ни Ланц, а он сам не сможет подобрать верных слов, точных определений, всего того, что Керн согласился бы назвать и признать уликой, но – Курт был убежден, что смерть застала Филиппа Шлага в сознании, в памяти, хотя и остается безвестным, насколько она была ясной. Если даже гибель и стала подкрадываться к нему во сне, то в момент ее прихода, пусть на долю мгновения ока, но он пришел в себя. Этот взгляд – пусть остановившийся и мертвый, пусть стеклянный и мутный, как плохо ошлифованный хрусталь – был слишком осмысленным, слишком внятным, слишком понимающим, знающим; знающим то, о чем не может рассказать дознавателю.
Если первое, пришедшее в голову Курту, окажется верным, если все дело в отраве, которую пока еще неясно как принял в себя этот студент, то, стало быть, это был не банальный яд, просто убивающий жертву, это было нечто, введшее его в смерть спокойно, безболезненно и даже блаженно. Почему? Что это может означать? Что его убил тот, кто не желал причинить страдания? Или – он убил себя сам, и наиболее легкий способ избрал сам же…
Курт поднялся, глядя на лицо, сливающееся цветом с простыней; если выяснится, что второе предположение верно, чего он добьется своим расследованием? Того, что парню, если дознание завершится скоро, откажут в отпевании и в погребении на церковном кладбище; тело даже не поленятся извлечь из земли и – в соответствии с законом – перенести на кладбище проклятых, к прочим самоубийцам и злоумышленникам, если следствие установит истину позже. Родственники не смогут заказывать поминальные службы, а имя не будет упоминаться в устах ни одного священнослужителя ни на одном из молебствий до скончания веков; и, если он, следователь Конгрегации, окажется неправ, если ошибется, если сделанные им выводы не будут соответствовать истине – то для чего все это? Кому нужно все то, что он затеял? Здесь, сейчас, ценой ошибки могла быть не только жизнь человека, если версия убийства окажется более вероятной, если появится подозреваемый, как в прочих, более частых случаях, которые доводится расследовать Конгрегации; цена – посмертие и память. Даже если следствие скажет, что покойный наложил на себя руки сам, что это – voluntaria mors [26]26
Добровольная смерть (лат.).
[Закрыть]и при этом не ошибется, если это окажется правдой, навряд ли майстер инквизитор почувствует себя довольным и скажет сам себе, как Керн, что «не зря работал»…
Теперь стало мниться, что во взгляде напротив сквозь умиротворение, сквозь благостную безмятежность пробивается упрек, словно бы человек, возлежащий на узкой кровати, призывал господина следователя отступиться от никчемной идеи, от того, что лишь принесет беду – всем. Укоризна в серых, как осенний пруд, глазах становилась все явственнее, все более отчетливой, и уже стало казаться, что вот-вот приподнимется голова, и голос, с усилием вырываясь из бесцветных губ, спросит с детской обидой: «За что так?»…
Дверь, открывшаяся за спиною под чьей-то рукой, ударила по мозгу скрипом, словно распоров его надвое; Курт вздрогнул, сморщившись, и обернулся к владельцу дома, замершему на пороге и смотрящему на него с некоторым удивлением.
– Я прошу прощения, что нарушаю ваше… – усмешка Хюсселя была столь явственна, что он поморщился снова, – уединение… но мне крайне необходимо кое-что знать…
Мысленно оценив весь юмор ситуации, когда свидетель порывается задавать вопросы инквизитору, Курт поднялся с корточек, снова бросив взгляд на глаза Филиппа Шлага; словно наваждение ушло, и вновь в них невозможно было увидеть ничего, кроме все того же покоя, тишины и блаженства…
– Пройди, – повел рукой он, и теперь покривился Хюссель.
– Вы меня извините, майстер инквизитор, но мне бы было как-то спокойнее от него подальше; я, знаете ли, не тяготею к обществу трупов. Вы можете заниматься своими делами дальше, я вас надолго не обеспокою, просто знать бы хотелось – раз такое дело, раз следствие, стало быть, я вам нужен буду? Поймите меня правильно, у меня, кроме этого покойника, еще десяток живых, и мне надо думать о моих постояльцах, да и дел по горло…
– Где мы можем поговорить, чтобы тебе было не так беспокойно? – оборвал Курт, и хозяин распахнул дверь шире:
– Прошу в мое обиталище.
Выйдя в коридор, он остановился, с некоторым удивлением глядя на того, кто, привалившись к стене, стоял напротив двери, уставясь в пол сумрачно и недовольно.
– Бруно? – уточнил Курт, словно бы в ответ мог услышать – «нет, это не я». – Ты здесь чего ради?
– Майстер Райзе прислал, – без особенного удовольствия откликнулся тот. – Я так понял – праздность кончилась; он подумал, что я могу потребоваться. Но если я не нужен, то…
– Нет, ты нужен, – возразил Курт, мысленно отвесив большой почтительный поклон Райзе, который пусть и не разделял его энтузиазма, высмеяв все начинания младшего сослуживца, все же оказался столь предусмотрителен и, прямо сказать, предупредителен. – Стой возле вот этой самой двери; и если кто-то попытается сюда войти, ты должен остановить его любым способом, какой представится подходящим.
– Вплоть до? – уточнил Бруно недоверчиво, и он кивнул:
– Вплоть до.
Хюссель покосился на подопечного майстера инквизитора не то с неудовольствием, не то с некоторой настороженностью; Курт уже приближенно представлял себе, что именно сейчас тревожит владельца дома и о чем ему так не терпится спросить у господина следователя: комната, по большому счету, почитается теперь пустующей и простаивает зря, посему хотелось бы знать, сколько еще времени начатое расследование будет препятствовать ему сдать ее снова и вновь начать получать свой законный доход…
– Я о комнате, – подтвердил его мысль Хюссель, когда они расселись в его «обиталище» этажом выше, закрыв за собою дверь. – Понимаете, ведь…
– Понимаю, – оборвал Курт, пытаясь определиться для себя, как ему до́лжно вести себя; его общение с местными жителями до сего дня было нечастым, и было неизвестно, какого отношения к своей должности возможно ожидать от них. Избыточная вежливость могла в первые же мгновения разговора вызвать к себе отношение снисходительное вплоть до презрения, излишними же строгостью и высокомерием он рисковал столкнуться с неприятием иного рода – откровенным пренебрежением и насмешкой; страх перед Конгрегацией, столь мешающий в работе ранее, среди кёльнцев был не в моде. – Все понимаю, Якоб, и я не стану долго задерживать твою комнату в столь непотребном виде. Лишь только я все осмотрю как следует, она в твоем распоряжении. Я тебя успокоил?
– Отчасти, майстер инквизитор. Вы теперь будете допрашивать моих постояльцев?
– Опрашивать, – поправил Курт, и тот тяжко вздохнул:
– Это ваши различия, а мне, простите, все едино…
– Что за печаль? – искренне удивился Курт, пожав плечами. – Это не помешает твоему распорядку…
– Нет, майстер инквизитор, вы уж простите, что прервал вас… Вы подозреваете убийство, верно?
Курт развел руками:
– Я не могу об этом говорить.
– И не надо, – отмахнулся тот. – И без вас о том говорят все кому не лень. Понимаете, если уж у тела задержался следователь, а после еще и прислали человека из Друденхауса – все уж и так говорят, что у меня в доме убили постояльца. Понимаете ли, майстер инквизитор, у меня в доме! А кое-кто припоминает, что покойник должен мне за два месяца, и я…
Вся вежливая уверенность Якоба Хюсселя улетучилась разом, как-то вдруг и почти без остатка; он вскочил, сделав два порывистых шага к двери, снова к Курту, остановился подле него, теребя рукав.
– Понимаете, майстер инквизитор, все они время от времени бывают мне должны, и, сами понимаете, не особенно меня жалуют, я ведь… – владелец снова сел, уже не глядя на собеседника и понизив голос. – Я содержу этот дом уже почти двадцать лет и таких студентов здесь перевидал несчитано; в глубине души каждому из них я сочувствую, но… Поймите, просто я не скуплюсь на слова, когда они держат оплату по два-три месяца; я терплю, но в конце концов могу и выселить. Ведь нельзя же корить меня за то, что я хочу получать плату за свои услуги…
– Ясно, – оборвал его Курт; это вышло жестко, но он не стал смягчать тона. – Филипп Шлаг был должен тебе, и ты грозил ему выселением. Я полагаю, в крепких выражениях. Так?
– Я говорил ему, что он должен вернуть долг, вот и все! – возразил Хюссель с отчаянной твердостью. – Понимаете, это многие слышали, и, как я говорил, не особенно меня любят…
– Имеешь в виду, что они могут наговаривать на тебя, так?
Хозяин сник, неопределенно повертев головой, и невесело улыбнулся, наконец, подняв к нему глаза.
– Не так, чтоб наговаривать… Если они расскажут правду… то есть – как они ее видят… Я решил поговорить с вами первым, сам, чтобы вы не сделали неверных выводов, услышав пристрастных свидетелей. Хочу объясниться, оправдаться, что ли…
– Ты не должен оправдываться, – перебил Курт; вообще продолжение этого разговора, строго говоря, не имело смысла, ибо все и так было предельно ясно – не имея хорошего отношения к себе среди своих постояльцев, Якоб Хюссель испугался того, что новичок, жадный до дела, наслушавшись их рассказов, ухватится за удобного подозреваемого. Кое-что, все-таки, было живо; не все в Кёльне были такими, как их обрисовал Ланц – расхрабрившимися и обнаглевшими, и опасливое отношение к ведомству, одно лишь именование которого у большей части обитателей Германии вызывает непроизвольную дрожь, в чем-то сохранилось. – Ты не должен оправдываться – ты не обвиняемый.
– Понимаете ли, майстер инквизитор, мне и подозреваемым-то быть не слишком хочется, – пояснил хозяин со вздохом. – Кто у меня селиться тогда будет… Позвольте, я вам просто расскажу, что было, хорошо?
– А что-то было? – уточнил Курт; хозяин замялся, снова отведя взгляд.
– Был… разговор неприятный у меня с ним накануне… Точнее – не так чтоб накануне, а дня за три, наверное. Некоторые слышали…
– Рассказывай, – махнул рукой он – в конце концов, не говорить же столь искренне рвущемуся сотрудничать свидетелю, что и без того все ясно, и пускай он помолчит; кроме того (как уже случалось выяснить не только со слов других, но и на собственном опыте) временами из рутинного, с виду бессмысленного разговора, проведенного лишь только из следования предписаниям, можно попутно узнать много любопытного.
– Извольте, – кивнул Хюссель, выпрямляясь на табурете и глядя мимо собеседника. – Третьего, кажется, дня (точно, уж простите, не могу припомнить) я его встретил внизу, у лестницы к комнатам, и напомнил, что второй месяц кончается, а он все должен. Тот лишь рукой махнул – понимаете, просто отмахнулся от меня, и все; а еще улыбается, гаденыш, прости Господи, прими его душу грешную… Ну, как это бывает, слово за словом, перешли на крик: я ему говорю, что выселю, а он только улыбается, будто все ему нипочем; все они начинают на моей шее ездить, пользоваться моей добротой. А покойник… в том смысле – тогда еще постоялец… издеваться начал. «Кроме денег, – говорит, – есть в жизни высокие материи, а ты, – говорит, – все о богатстве беспокоишься». Тут я и не стерпел. Какие, к матери, прошу прощения, высокие материи за мой счет? Пусть платят вовремя, а после философствуют, сколько им вздумается, о чем пожелают. Ну и наговорил ему тогда всякого… Сверху его приятели спускались, несколько, уж не помню сейчас, кто, и стояли, мерзавцы, слушали и подсмеивались ему. А когда он уже уходил, я ему вслед сказал, что или он заплатит, или хуже будет.
– Вот оно что, – неопределенно отозвался Курт, и владелец комнат слегка побледнел.
– Я-то думал тогда, что – вот месяц кончится, и укажу ему на дверь, чтоб знали впредь, – пояснил Хюссель поспешно. – Вот прямо с утра, подумалось тогда, в комнату к нему войду и скажу, чтоб выметался, и пусть бы не говорил, что я не предупреждал его заранее и не пытался по-хорошему. А эти стервецы давай ему вдогонку смеяться, что, мол, заплати лучше, а не то он тебя на потроха продаст, чтоб покрыть издержки…
Курт вздохнул – почти сострадающе; еще на память молодого Хюсселя пришлись времена, когда вот такого опрометчиво брошенного слова бывало вполне довольно, чтобы быть уверенным в своем будущем – как правило, неприятном и кратковременном. Да и тридцать лет назад начатые в Конгрегации реформы шли медленно и неохотно; излишне крепки в устояхбыли старые служители, сверх меры крепко держались они за старые правила и свою власть. По большому счету, новая Конгрегация в ее нынешнем виде в лучшем случае ровесница майстера Гессе…
– А сегодня, когда вы вернулись в комнату, один из них меня повстречал все там же, у лестницы; что, говорит, господин Хюссель, доигрались, уморили парня, вот и Инквизиция по вашу душу…
– Ну это, я полагаю, они не всерьез, – утешил его Курт, видя, что владелец не на шутку взволнован. – Уверен, тебе ничто не грозит в связи с этим.
– Вы думаете? – с такой надеждой произнес Хюссель, что он улыбнулся:
– Расследование веду я, а я пока не вижу причин считать, что ты можешь быть здесь замешан. А теперь, если твои вопросы исчерпались и ты успокоился за свою судьбу, – позволь, буду спрашивать я.
– Конечно! – отозвался Хюссель с готовностью; слова господина следователя явно уняли его взволнованность слабо, но столь долго и несолидно мяться в присутствии того, кто годился ему едва ль не во внуки, не позволяла пресловутая гордость вольного горожанина. – Я готов, всем, чем смогу…
– Когда ты его видел в последний раз? – оборвал владельца Курт и пояснил, не услышав ответа: – Живым, разумеется. Где, когда, в каких обстоятельствах?
– Вчера, – кивнул Хюссель, на миг заведя глаза к потолку. – Вчера, здесь; я отпирал ему входную дверь – на ночь, понятное дело, я ее запираю, и если кто из постояльцев припозднится, приходится просыпаться и отодвигать засов.
– А помощников у тебя нет? Почему ты сам?
– Есть, лентяи, – откликнулся тот так тяжко, что уточнять Курт не стал, лишь сочувственно вздохнув:
– Ясно. В котором часу это было?
– Почти в полночь – я говорил майстеру Райзе, поздно ночью, все спали уже – ну или просто разошлись по комнатам; студенты, они ж временами по всей ночи спать не ложатся, вы ж знаете, но – все уже были тут, кроме него.
– Якоб, в каком он был настроении? – вновь припомнив почудившийся ему немой упрек в глазах Филиппа Шлага, спросил Курт. – Ничего необычного в его поведении тебе не показалось?
Хюссель приумолк, глядя на него несколько растерянно, и пожал плечами, неловко улыбнувшись:
– В каком настроении?.. Да почем мне знать, оно мне надо? В обычном настроении.
– Припомни. Как он себя вел, что говорил, не был ли излишне весел или, напротив, опечален, возбужден…
– Я не знаю… – судя по мучительной складке на лбу владельца дома, тот искренне пытался вспомнить то, что от него требовали, и все никак не мог; вполне понятно, подумал Курт, если запоминать все, что делает или говорит каждый постоялец, не хватит ни сил, ни нервов, однако вслух высказывать этого не стал, глядя на Хюсселя с взыскательным ожиданием. – Был усталым, это понятно. Возбужден? Да, вот сейчас вы спросили, майстер инквизитор, и я подумал – да, был. Такой, знаете, вроде навеселе. Может, навеселе и был, не знаю; от них субботними вечерами частенько пивом разит, я уже принюхался, не замечаю… А вот опечаленным его называть я б не стал – нет, покойник был вполне жизнерадостен…
Хюссель осекся, хлопнув глазами; во взгляде отразилась борьба между едва сдерживаемым нервозным смехом и опасением вызвать праведный гнев представителя Конгрегации за нарушенные приличия и греховную насмешку над почившим. Господин дознаватель чуть повел уголком губ, словно давая дозволение, и тот облегченно хмыкнул, тут же возвратив серьезность.
– Стало быть, подавлен он не был? – уточнил Курт, ощущая облегчение – на самоубийство, кажется, ничто не указывало; однако же все более казалось, что тот упрек во взгляде Филиппа Шлага не почудился ему. Быть может, это был укор в том, что следователь не видит чего-то, что так легко разглядеть, что лежит на поверхности, в том, что возмездие медлит?.. Или просто надо больше отдыхать и меньше читать всяких небылиц на ночь…
– Подавлен был я, – сообщил Хюссель почти жалобно. – И снова напомнил ему о долге…
– Ясно. Он опять надерзил.
– Знаете, майстер инквизитор, а ведь нет! – вдруг понизил голос тот, даже оглянувшись в испуге, хотя за его спиною была лишь глухая стена. – Сейчас, сегодня, после его смерти, когда вы начали спрашивать, я думаю – это странно, да?
– То, что он не был груб?
– Нет, не то; он не просто не стал лаяться со мной, а как-то спешно принялся желать мне доброй ночи, а когда я снова о деньгах, сказал – да, мол, будут, будут, и так убежденно… Понимаете, я ведь эту публику знаю, и по тому, как они изъясняются, уже могу понять, врут ли. Так вот этот говорил так… твердо, знаете ли.
Курт кивнул, ничего не сказав в ответ; итак, начальные заключения таковы: накануне своей смерти покойный студент был чем-то возбужден, однако не в унынии, при этом спешил поскорее отвязаться от общества владельца дома и остаться наедине… С кем-то?..
– Ты видел, как Шлаг уходил к себе? – уточнил он, и Хюссель закивал:
– Да, без сомнения, а куда ж ему еще деваться ночью?
– Это ясно, – оборвал Курт требовательно, – однако ты – видел, как он ушел в свою комнату?
Хозяин приумолк, неопределенно пожав плечами, и потерянно пробормотал, вновь принявшись теребить рукав:
– Наверх он поднялся, это доподлинно, это – я могу ручаться; я засов вдвинул и ушел спать… А куда он после направился – наверняка к себе, куда ж еще? Ну, может, к какому своему приятелю из соседей.
– Стало быть, Якоб, дверь ты снова запер изнутри после его прихода? Это точно?
– Майстер инквизитор, я ведь не младенец и не первый год тут обитаю; что ж я, не соображаю, разве? Это уже въелось, как почесаться, я прошу простить; разумеется, засов я вдвинул… – он вдруг вскинул взгляд к лицу собеседника, осознав, кажется, смысл заданного вопроса, и уточнил нерешительно: – Вы это к тому, не мог ли кто войти ночью по-тихому и моего постояльца того… упокоить?
– Вроде этого, – согласился Курт не слишком охотно, и хозяин вновь побледнел, взволнованно закачав головой:
– Господь с вами, что касаемо безопасности с улицы… в том смысле – опасности с улицы, то у меня все в налаженности, я ж ведь, прошу прощения, тоже тут живу, так что ж я – самому себе враг, разве? Никто войти не мог, за это я вам головой руча… – в горле его что-то булькнуло, будто Хюссель набрал в рот воды и, уже сглотнув, вдруг обнаружил, что это нечто непотребное. – Хочу сказать – я уверен, что никто не мог, то есть, за то, что я дверь запер, я точно отвечаю, а…
– Хорошо, – остановил его Курт, подняв руку, и тот замолк. – А если так, Якоб: твоя комната от двери в довольном отдалении, и если допустить, что кто-то из постояльцев пожелает потихоньку отпереть ее и выйти или же кого впустить – это возможно сделать так, чтобы ты не услышал? Чисто в теории?
– Я не знаю… – тихо проронил тот, вяло дернув плечом. – Наверняка; стук-то я слышу, когда кто-то из них припозднится, а вот засов услышать…
– Стало быть, такое возможно. Так?
– Должен признать, что – да; у меня ведь все здесь в полном порядке, петли смазаны, пол натерт, комнаты… – Хюссель наткнулся на нетерпеливый взгляд майстера инквизитора и запнулся, поспешно договорив: – В том смысле, что при желании… чисто в теории… можно и такое.
Курт медленно кивнул, подавив вздох. Можно… Конечно, можно, только к чему был задан этот вопрос, он и сам не понимал; если смерть Филиппа Шлага имеет неестественное, насильственное объяснение, то это либо обычное мирское отравление, либо же – и впрямь maleficia [27]27
Колдовство (лат.)
[Закрыть], что по ведомству Конгрегации, однако и в том, и в другом случае находиться подле пострадавшего вовсе не обязательно, а даже и, напротив, нежелательно. Станет ли злоумышленник пробираться ночью в дом к жертве, если яду можно подсыпать и в другом месте, а вред сверхъестественный наносится, как правило, на расстоянии, в том-то и его преимущество, а также сложнодоказуемость…
– Ясно, – подытожил Курт, мысленно подведя черту и поставив птичку напротив пункта «поведение жертвы накануне гибели»; уверенность в том факте, что смерть студента – нечто странное, окрепла окончательно. – Ты упомянул его приятелей из твоих постояльцев. Имена помнишь?
– Разумеется, – покривился Хюссель со вздохом. – Все они у меня вот где уже сидят; раньше такого не бывало, знаете ли, раньше юноши знали, как себя вести со старшими. А нынешнее поколение никаких понятий об уважительности не имеет…
Он вновь запнулся, встретивши взгляд Курта; тот вопрошающе изогнул бровь, и хозяина опять кинуло в бледность.
– В том смысле… – пробормотал он смятенно, – что… я не всех кряду имею в виду, я ни в коей мере не желал вас оскорбить, майстер инквизитор…
– Имена, Якоб, – оборвал он, и тот закивал:
– Да, конечно, прошу прощения…
Запомнить неполный десяток имен было делом нехитрым, однако Курт снова укорил себя за несобранность и недальновидность; Райзе, к примеру, отправившись на освидетельствование места происшествия, не забыл прихватить с собою письменный набор, а майстер Гессе в поспешности и возбужденности предчувствием грядущего дознания ни о чем подобном не задумался. Теперь придется держать все девять имен в памяти, пока не представится возможность их записать…
В душе шевельнулся неприятный червячок – не то плохие предчувствия в связи с новым делом, не то просто недовольство собою самим; с собственной рассеянностью некогда курсант, а теперь выпускник номер тысяча двадцать один ничего не мог поделать, как ни старался; конечно, как говорится в набившей оскомину пословице, errare humanum est [28]28
Человеку свойственно ошибаться (лат.).
[Закрыть], однако же, выпускник сum eximia laude [29]29
С отличием (лат.).
[Закрыть], как выяснилось, ошибался слишком часто и порою – страшно…
Курт вздохнул, усилием воли заставив мысли не разбегаться в стороны, и принудил себя слушать то, что говорит владелец дома. Может быть, наставник был прав, призывая его оставить службу следователя, продолжали, тем не менее, ползти нехорошие думы; возможно, так и следовало поступить, перейти к тому занятию, где самое большее, что можно испортить, – это лишний лист пергамента, а если ошибиться – то в неверно переписанном с подлинника слове. Последним экзаменом станет ваше первое дело, говорили наставники академии, и, быть может, он свой экзамен провалил? Быть может, его, если говорить правдиво перед собою самим, громкий провал свидетельствует о том, что все это – не для него? Что́ такое его неуверенность и смятенность – просто ли память о неудаче или внутренний голос, советующий оставить то, к чему не способен?
Нет, возразил Курт самому себе, понимая вместе с тем, что лишь пытается сам себя убедить; нет. Наставники сами рекомендовали его когда-то именно к дознавательской службе, и сам факт, что он способен разглядеть в неприметных мелочах нужное и важное, говорит о том, что они не обманулись в нем. Ну, что же, с мысленной невеселой усмешкой подумал он, поднимаясь и прощаясь с хозяином дома, остается лишь доказать это – и им, и, что главное, себе…