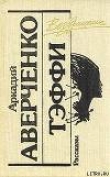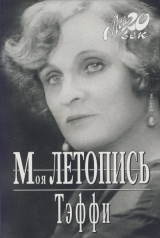
Текст книги "Моя летопись"
Автор книги: Надежда Лохвицкая
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
– А я хочу еще и от себя дать об этой книге отзыв.
И отзыв всегда бывал очень для меня лестный. Надо заметить, что такое доброжелательство – явление в писательском кругу чрезвычайно редкое. Почти небывалое. Повторяю – он был очень хорошим товарищем.
Жил Куприн в эмиграции – он, его жена, Елизавета Маврикиевна, и молоденькая дочь [133]133
С. 184. …его жена, Елизавета Маврикиевна, и молоденькая дочь… – Второй женой Куприна была Елизавета Морицовна (урожд. Гейнрих; 1882–1942). Дочь Куприна Ксения (1908–1981) впоследствии стала актрисой, снялась более чем в тридцати фильмах; вернувшись в СССР в 1958 г., работала в Театре им. А. С. Пушкина. Об отце она написала воспоминания «Куприн – мой отец» (1968). (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]– очень странно. Вечно в каких-то невероятных долгах.
– Должны десять тысяч в мясную.
Все удивлялись. Ну какой парижский мясник станет отпускать столько в долг русскому беженцу?
Для Куприна устраивались сборы. У него были преданные друзья, выручавшие его в трудную минуту. Елизавета Маврикиевна открыла маленькую библиотеку и писчебумажный магазин. Все шло скверно.
Одно время жили на юге. Там он сдружился с местными рыбаками, и те брали его с собой в море на рыбную ловлю.
Он, наверное, как мальчик, играл в настоящего рыболова, хмурил брови и надвигал на лоб мятую, «пропитанную морской солью» фуражку. Он писал рассказ про то, как надо готовить буайбез, какую следует выбирать рыбу – морского угря и, главное, колючую рыбку, без которой из буайбеза ничего не выйдет. Писал с любовью, со знанием дела. И чувствовалось, как дорог ему весь этот рыбачий быт, как он радостно вживается в него, как чудесно «играет».
Пропадал на рыбной ловле по целым дням. Вечером Елизавета Маврикиевна бегала по всем береговым кабачкам, разыскивая его. Раз нашла в компании рыбаков с пьяной девицей, которая сидела у него на коленях.
– Папочка, иди же домой! – позвала она.
– Не понимаю тебя, – отвечал Куприн тоном джентльмена. – Ты же видишь, что на мне сидит дама. Не могу же я ее побеспокоить.
Но общими усилиями даму побеспокоили.
Он всегда любил и искал простых людей, чистых сердцем и мужественных духом. Долгое время дружил с клоуном, любил циркачей за их опасную для жизни профессию.
Как-то, встретив у меня молодую, очень буржуазную даму, он вполне серьезно убеждал ее бросить все и поступить в наездницы.
– Вот родители не позаботились о вас, не дали вам настоящего воспитания. Вы где учились?
– В институте.
– Ну вот видите. Ну на что это годится? Раз родители вовремя не позаботились, попробуйте исправить их ошибку. Конечно, на трапеции работать вам было бы уже трудно. Поздно спохватились. Упустили время. Но наездница из вас может еще выйти вполне приличная. Только не теряйте времени, идите завтра же к директору цирка.
Стихов Куприн вообще не писал, но было у него одно стихотворение, которое он сам любил и напечатал несколько раз, уступая просьбам разных маленьких газет и журналов. В стихотворении этом говорилось о его нежной тайной любви, о желании счастья той, кого он так робко любит, о том, как бросится под копыта мчащихся лошадей и «она» будет думать, что вот случайно погиб славный и «почтительный» старик. Стихотворение было очень нежное, в стиле мопассановского «Forte comme la mort» [134]134
«Сильна, как смерть» (фр.).
[Закрыть] [135]135
С. 185. …в стиле мопассановского «Forte сотте la mort»… – Имеется в виду роман Г. де Мопассана «Сильна как смерть». (прим. Ст. Н.).
[Закрыть], очевидно, этим романом и навеянное.
Вот оно, это стихотворение, и открывало тайный уголок романтической души Куприна.
Все знают его как кутилу, под конец жизни даже больного алкоголика, но ведь не все знают тайную нежность его души, его мечты о храбрых, сильных и справедливых людях, о красивой, никому не известной любви.
Никто не знает, что три года подряд 13 января, в канун русского Нового года, он уходил в маленькое бистро и там, сидя один за бутылкой вина, писал письмо нежное, почтительно-любезное все той же женщине, которую почти никогда не видел и которую, может быть, даже и не любил. Но он сам, Александр Иванович, был выдуман Гамсуном и, подчиняясь воле своего создателя, должен был тайно и нежно и, главное, безнадежно любить и каждый раз под Новый год писать все той же женщине свое волшебное письмо.
Конец беженской жизни Куприна был очень печальный. Совсем больной, он плохо видел, плохо понимал, что ему говорят. Жена водила его под руку:
Как-то раз я встретила их на улице.
– Здравствуйте, Александр Иванович.
Он смотрит как-то смущенно в сторону.
Елизавета Маврикиевна сказала:
– Папочка, это Надежда Александровна. Поздоровайся. Протяни руку.
Он подал мне руку.
– Ну вот, папочка, – сказала Елизавета Маврикиевна, – ты поздоровался. Теперь можешь опустить руку.
Грустная встреча.
Елизавета Маврикиевна решила, что благоразумнее всего вернуться на родину. Пошла в консульство, похлопотала. Оттуда приехал служащий, посмотрел на Куприна, доложил послу все, что увидел, и Куприну разрешили вернуться. Они как-то очень быстро собрались и, ни с кем не попрощавшись, уехали. Потом мы читали в советских газетах о том, что он говорил какие-то толковые и даже трогательные речи. Но верилось в это с трудом. Может быть, как-нибудь особенно лечили его, что достигли таких необычайных результатов? Умер он довольно скоро.
Вот какой странный жил между нами человек, грубый и нежный, фантазер и мечтатель, знаменитый русский писатель Александр Иванович Куприн.
Георгий Чулков и Мейерхольд[136]136
С. 186. Не знаю, жив ли Георгий Чулков. – Чулков Георгий Иванович (1879–1939) – поэт, прозаик, литературный критик, мемуарист. Умер в Москве 1 января 1939 г. (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]
Не знаю, жив ли Георгий Чулков [137]137
А. Измайлов в своих сатирических портретах написал о Чулкове… – Тзффи цитирует пародию «История русской критики» (Измайлов А. А. Кривое зеркало: Пародии и шаржи. СПб., 1914. С. 138–139). Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921) – прозаик, поэт, литературный критик; прославился как автор пародий, прозаических и стихотворных, собранных в его книгах «Кривое зеркало» (1908, 4 издания до 1914 г.) и «Осиновый кол» (1915). С 1898 по 1916 г. вел рубрику «Литературное обозрение» в газете «Биржевые ведомости» и одним из первых откликнулся положительной рецензией на книгу юмористических рассказов Тэффи. (прим. Ст. Н.).
[Закрыть].
Воспоминание о нем осталось очень милое. Красивый, приятный, талантливый человек. Но главное, что характеризовало его, это непогасаемый восторг перед каким-нибудь талантом. Он не помня себя погружался в этот восторг, только им и бредил, только им и жил.
А. Измайлов в своих сатирических портретах написал о Чулкове [138]138
…еще до Театра Комиссаржевской…. – Театр был основан в Петербурге в сентябре 1904 г. В. Э. Мейерхольд работал в Театре В. Ф. Комиссаржевской с лета 1906-го и до конца 1907 г. С Чулковым и Мейерхольдом Тэффи встречалась в 1906 г. на «Башне» Вяч. Иванова, входила в «инициативную группу» театра «Факелы» (ем.: Волков Н. Мейерхольд. Т. 1. М.; Л., 1929. С. 218–219). (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]: «Александр Блок! Александр Блок! Александр Блок! Дайте попочке сахару».
Но ему и сахару не нужно. Ничего ему не нужно. Забывал самого себя.
Я его видала часто вместе с Мейерхольдом еще до Театра Комиссаржевской [139]139
С. 186–187. …перед закатом Мейерхольда большевики начали строить театр его имени… – Театр имени Мейерхольда в Москве (1920–1938); основа его – Театр РСФСР 1-й – название свое получил в 1923 г.; с 1926 г. – ГОСТИМ (Гос. театр им. Вс. Мейерхольда). (прим. Ст. Н.).
[Закрыть], где Мейерхольд наконец развернулся. До этого театра были только планы, чертежи будущего великого здания, декламация и предчувствие триумфа. Предчувствия не обманули. Ведь перед закатом Мейерхольда большевики начали строить театр его имени [140]140
С. 187. Когда ставили мою большую пьесу в московском Малом театре… – 2 марта 1916 г. в Малом театре состоялась премьера пьесы Тэффи «Шарманка Сатаны» (в главных ролях – Вера Пашенная и Александр Остужев). (прим. Ст. Н.).
[Закрыть], где, если верить газетам, для каждого зрителя был обещан особый вентилятор.
Мейерхольд чертил магический треугольник. В углы треугольника помещались – автор, режиссер и актер. Каждый в своем углу. Общение – через катеты и гипотенузу. Автора и актера соединяет гипотенуза – длиннейший путь. И это не без умысла. Таким образом, автору выходило проще общаться с актером через режиссера по двум катетам. Непосредственное общение автора с актером подрывает работу режиссера, который лучше знает, что хочет выразить автор и как нужно его выражать.
Впоследствии я на горьком опыте узнала весь трагизм этой гипотенузы, отделяющей автора от актера.
Режиссер всегда считает автора врагом пьесы. Автор своими замечаниями только портит дело. Написал пьесу автор, но режиссер, конечно, лучше понимает, что именно автор хотел сказать.
Так, в одной из моих пьес выведен нежный молодой влюбленный, который говорит любимой женщине: «Солнце мое, я люблю тебя». Режиссер напялил на влюбленного страшный рыжий парик, огромный зеленый галстук с торчащими концами и загримировал идиотом.
– Почему?
– Как почему? По вашей же пьесе. Ведь он же у вас идиот.
– Да с чего вы это взяли?
– Да как же: он говорит даме «солнце мое». Ясно же, что он идиот!
Когда ставили мою большую пьесу в московском Малом театре [141]141
Ставил пьесу Платон… – Платон Иван Степанович (1870–1935) – русский режиссер и драматург, с 1895 г. работал в режиссерском управлении Малого театра. (прим. Ст. Н.).
[Закрыть], я приехала, чтобы прочесть ее актерам. Потом стала ходить на репетиции. Ставил пьесу Платон [142]142
С. 188. Главная роль у Остужева. – Остужев Александр Алексеевич (наст. фам. Пожаров; 1874–1953) – с 1898 г. актер Малого театра; в пьесе Тэффи сыграл роль адвоката Андрея Николаевича Долгова. «Не без тонкости и ловкости прошел через кустарники флирта г. Остужев, изображая российского Дон-Жуана» (Русское слово. 1916. № 51. С. 5). (прим. Ст. Н.).
[Закрыть], серьезный режиссер – театр ведь Императорский!
Первый акт кончался у меня чтением нежного стихотворения, и занавес под это чтение должен был медленно-медленно опускаться. Было красиво, и создавалось «настроение». И каждый раз театральный плотник пускал занавес с какой-то нарочитой скоростью: трррррр-бах! Я чуть не плакала. Платон успокаивал:
– Ох уж эти авторы! Да уверяю вас, что на спектакле он сделает прекрасно.
– Так почему же он сейчас хоть бы раз не сделал как следует?
– Ох уж эти авторы!
Я ненавижу длинноты. И конечно, вырывала кусочки то у одного, то у другого актера. А актеры обожают поговорить побольше.
Платон уговорил меня уехать и вернуться через месяц к последним репетициям.
– Вот тогда увидите, как мы подадим вашу пьесу. Сейчас актеры еще не вошли в роль, ваши замечания их нервируют.
Поверила. Уехала. Через месяц приехала.
Тррррр-бум! – бахнул занавес. Главная роль у Остужева [143]143
НезлобинКонстантин Николаевич (1857–1930) – режиссер, актер, антрепренер, переводчик. (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]. Чувствую длинноты. Поправить ничего нельзя, потому что он-глухой и учит роль назубок. Реплик он не слышит. Все актеры, увы, вошли в роль, и теперь уж ничего с ними не поделаешь.
Пьеса мне до того не понравилась, что когда приехал ко мне Незлобин [144]144
…помню, как писали в советских газетах о постановке Мейерхольдом «Ревизора». – Постановка «Ревизора» в 1926 г. в Театре им. Вс. Мейерхольда подверглась резкой критике в советской прессе. (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]и попросил дать ее для Петербурга, я в ужасе крикнула:
– Ох, не надо!
Он только руками развел:
– Первый раз вижу автора, который не хочет, чтобы его пьесу играли.
Я пьесу дала, но тут уж себя отстояла. Вылезла из заклятого треугольника, сама говорила с актерами, и пьеса сошла отлично.
Но это было много позже. А в то время, о котором веду рассказ, Мейерхольд чертил свою геометрию, Чулков пламенел. Потом оба решили, что со мной им трудно, что видимая стена отделяет меня и их живая мечта от этой стены отскакивает. Они были правы.
Я помню, как писали в советских газетах о постановке Мейерхольдом «Ревизора» [145]145
У Мейерхольда была очень милая жена… – Ольга Михайловна Мунт (1874–1940). (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]. У него из шкапа в будуаре городничихи вереницей выходили ее «мечтаемые» любовники. Поле было свободное. Мертвый Гоголь, загнанный за гипотенузу, протестовать не мог.
У Мейерхольда была очень милая жена [146]146
После революции он женился на другой. —Второй женой Мейерхольда после 1920 г. стала Зинаида Николаевна Райх (1894–1939). (прим. Ст. Н.).
[Закрыть], тихая, из породы «жертвенных». После революции он женился на другой [147]147
ЛуначарскийАнатолий Васильевич (1875–1933) – критик, публицист, драматург; с 1917 г. – нарком просвещения. В середине 1920-х годов Луначарский женился на актрисе Наталье Розенель. (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]. Вообще все тогда спешно развелись и переженились. Гумилев, Ахматова, Толстой, директор «Кривого зеркала» Кугель, Луначарский [148]148
…вторая жена Гумилева… – Анна Николаевна Энгельгардт (1895–1942). (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]… Началось: вторая жена Гумилева [149]149
…третий муж Ахматовой… – Скорее всего, имеется в виду второй муж Ахматовой Владимир Казимирович Шилейко (1891–1930). (прим. Ст. Н.).
[Закрыть], третий муж Ахматовой
, третья жена Толстого [150]150
…третья жена Толстого… – Н. В. Крандиевская. О ней см. в примеч. к «Воспоминаниям». (прим. Ст. Н.).
[Закрыть], новая жена Мейерхольда… Все эти вторые и третьи браки, все какое-то спешное, нереальное. Точно мечутся люди испуганные и тоскующие и хватаются за какие-то фантомы, призраки, бредовые сны. Старались утвердить на чем-то новом свою новую страшную жизнь, которая уже заранее была обречена на гибель.
В последний раз я видела Мейерхольда на одном из беженских этапов – в Новороссийске. Он был какой-то растерянный, но настойчиво просил зайти к нему. Я записала его адрес и обещала прийти.
– Мне очень бы хотелось кое о чем поговорить с вами, – сказал он, прощаясь. – И не откладывайте.
Дня через два я пошла по этому адресу. Шла очень долго, куда-то далеко за город. Наконец нашла его дом. Долго звонила, стучала. Никто не отозвался, никто не открывал. Чудились какие-то шорохи, шепоты, точно притаился кто-то и дышать не смеет. Я уже собралась уходить, как откуда-то сбоку из-за дома вышел плешивый старик в грязном кителе. Остановился и смотрит на меня. А я на него.
Наконец спрашиваю:
– Вы здешний?
– А что?
Человек был осторожный.
– Я ищу Мейерхольда.
– Первый раз слышу такое имя.
– Он мне дал свой адрес. Он здесь живет?
– Покажите адрес.
Я вынула из сумочки записку, показала ему.
– Это не его почерк, – сказал старик и посмотрел на меня, подозрительно прищурив глаза.
– Да, это я сама записала, а он продиктовал. Но как же вы знаете его почерк, когда вы даже имени его никогда не слыхали?
Старик смутился, и вся его плешивая голова покраснела.
– Во всяком случае, его здесь нет и никогда не было. Видите – дом закрыт.
– Хорошо. Я верю вам, что вы его не знаете и что он здесь не живет. Но если вы случайно с ним познакомитесь, скажите ему, что я приходила, потому что он меня звал.
Я сказала свое имя и ушла.
Обернувшись на повороте, я заметила, что старик, спрятавшись за дерево, следит за мной.
Все это было странно. Потом, когда я узнала, что он вернулся к большевикам, я поняла, что он уже прятался от белых. Боялся, что его решение стало известно и ему грозят неприятности, в те времена очень серьезные.
Он сам выбрал свою судьбу. Работал у большевиков, как ему хотелось. Потом, как водится, оказался, к полному своему удивлению, иностранным шпионом, был арестован. Какой именно смертью он умер, никто не знает. [151]151
С. 189. Какой именно смертью он умер, никто не знает. —В 1939 г. Мейерхольд был арестован и осужден по абсурдному обвинению. Погиб в заключении в 1942 г. (по другим данным – в 1940 г.). (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]Знают только, что такую смерть не называют «своей».
[152]152
Впервые: Новое русское слово. 1949. № 13407. 9 января. (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]
Знакомство мое с Сологубом началось довольно занятно и дружбы не предвещало. Но впоследствии мы подружились.
Как-то давно, еще в самом начале моей литературной жизни, сочинила я, покорная духу времени, революционное стихотворение «Пчелки» [153]153
С. 189. …в самом начале моей литературной жизни, сочинила я… революцаонное стихотворение «Пчелки». – Стихотворение «Пчелки» («Мы бедные пчелки, работницы-пчелки!..»), посвященное К. Платонову, написано весной 1905 г., впервые опубликовано в газете «Вперед» (Женева) под заглавием «Знамя свободы» без подписи. Вошло в книгу «Семь огней» (СПб.: Шиповник, 1910; цикл «Алмаз»). (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]. Там было все, что полагалось для свержения царизма: и «красное знамя свободы», и «Мы ждем, не пробьет ли тревога, не стукнет ли жданный сигнал у порога…», и прочие молнии революционной грозы.
Кто-то послал это стихотворение в Женеву, и оно было напечатано в большевистском журнале.
Впоследствии, в дни «полусвобод», я читала его с эстрады, причем распорядители-студенты уводили присутствовавшего для порядка полицейского в буфет и поили его водкой, пока я колебала устои. Тогда еще действовала цензура и вне разрешенной программы ничего нельзя было читать.
Вернувшийся в залу пристав, удивляясь чрезмерной возбужденности аудитории, спрашивал:
– Что она там такое читала?
– А вот только то, что в программе. «Моя любовь, как странный сон» [154]154
С. 190. «Моя любовь, как странный сон». – Стихотворение из цикла «Аметист» (вошло в книгу «Семь огней»). (прим. Ст. Н.).
[Закрыть].
– Чего же они, чудаки, так волнуются? Ведь это же ейная любовь, а не ихняя.
Но в то время, с которого я начинаю свой рассказ, стихи эти я читала только в тесном писательском кружке.
И вот мне говорят странную вещь:
– Вы знаете, что Сологуб написал ваших «Пчелок»? [155]155
…Сологуб написал ваших «Пчелок»? – В № 9 за 1905 г. журнала «Вопросы жизни» на первой странице было помещено стихотворение Ф. Сологуба «Швея» с примечанием от редакции, в котором от имени Сологуба сообщалось, что «тема… стихотворения “Швея” совпадает с темой стихотворения “Пчелки”». (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]
– Как так?
– Да так. Переделал по-своему и будет печатать.
Я Сологуба еще не знала, но раз где-то мне его показывали.
Это был человек, как я теперь понимаю, лет сорока, но тогда, вероятно потому, что я сама была очень молода, он мне показался старым. Даже не старым, а каким-то древним. Лицо у него было бледное, длинное, безбровое, около носа большая бородавка, жиденькая рыжеватая бородка словно оттягивала вниз худые щеки, тусклые, полузакрытые глаза. Всегда усталое, всегда скучающее лицо. Помню, в одном своем стихотворении он говорит:
Вот эту смертельную усталость и выражало всегда его лицо. Иногда где-нибудь в гостях за столом он закрывал глаза и так, словно забыв их открыть, оставался несколько минут. Он никогда не смеялся.
Такова была внешность Сологуба.
Я попросила, чтобы нас познакомили.
– Федор Кузьмич, вы, говорят, переделали на свой лад мои стихи.
– Какие стихи?
– «Пчелки».
– Это ваши стихи?
– Мои. Почему вы их забрали себе?
– Да, я помню, какая-то дама читала эти стихи, мне понравилось, я и переделал их по-своему.
– Эта дама – я. Слушайте, ведь это же нехорошо так – забрать себе чужую вещь.
– Нехорошо тому, у кого берут, и недурно тому, кто берет.
Я засмеялась.
– Во всяком случае, мне очень лестно, что мои стихи вам понравились.
– Ну вот видите. Значит, мы оба довольны.
На этом дело и кончилось.
Через несколько дней получила я от Сологуба приглашение непременно прийти к нему в субботу. Будут братья-писатели.
Жил Сологуб на Васильевском острове в казенной квартирке городского училища, где был преподавателем и инспектором. Жил он с сестрой, плоскогрудой, чахоточной старой девой. Тихая она была и робкая, брата обожала и побаивалась, говорила о нем шепотом.
Он рассказывал в своих стихах:
Мы были праздничные дети, [157]157
С. 191. «Мы были праздничные дети…»– Начало стихотворения Сологуба, датированного 30 августа 1906 г. Далее Тэффи неточно цитирует это же стихотворение. Его третья строфа начинается так:
Хоть бедных раковин случайноНабрать бы у ручья… (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]
Сестра и я…
Они были очень бедные, эти праздничные дети, мечтавшие, чтоб дали им «хоть пестрых раковинок из ручья». Печально и тускло протянули они трудные дни своей молодости. Чахоточная сестра, не получившая своей доли пестрых раковинок, уже догорала. Он сам изнывал от скучной учительской работы, писал урывками по ночам, всегда усталый от мальчишьего шума своих учеников.
Печатался он у Нотовича в «Новостях», причем Нотович сурово правил его волшебные и мудрые сказочки.
– Опять принес декадентскую ерунду.
Платил гроши. Считал себя благодетелем.
– Ну кто его вообще будет печатать? И кто будет читать!
В сказочках говорилось о красоте и смерти.
Очаровательна была сказочка о полевой лилии, которую потом без конца читали с эстрады. Сам Соломон во всей славе своей не превосходил ее пышностью. (Пересказываю, как помню.) Но капуста ее осуждала. Что это? Стоит голая! Вот я так оделась: сначала рубашку, на рубашку пряжку, на пряжку одежку, на одежку застежку, потом рубашку, на рубашку пряжку, на пряжку покрышку, не видать кочерыжку, тепло и прилично.
О смерти рассказывается, как послал Бог ангела своего Степаниду Курносую отнять у матери ребенка. Мать плакала и не могла утешиться. Тогда ангел Божий Степанида Курносая стала ее утешать:
– Ты не плачь.
А мать ответила:
– Ты свое дело сделала, отняла у меня ребенка. Теперь не мешай мне мое дело делать – плакать о нем.
О смерти говорит и маленькая сказочка о волшебной палочке. Кому очень тяжело на свете, тот должен только прижать ее к виску, и все горе сразу уйдет.
Так жил Сологуб в маленькой казенной квартирке с лампадками, угощал мятными пряничками, румяными булочками, пастилой и медовыми лепешками, за которыми сестра его ездила куда-то через реку на конке. Рассказывала нам по секрету:
– Хотелось мне как-нибудь проехаться на конке на империале, [158]158
С. 192. …проехаться на конке на империале… – Во второй половине XIX в. в городах появился новый вид рейсового транспорта – конно-железная дорога. Это были ходившие по рельсам, запряженные лошадьми вагончики с сидячими местами для пассажиров. Более дешевые места находились на крыше-империале, куда можно было взобраться по винтовой лестнице. Женщинам на империале ездить запрещалось. В просторечии конно-железную дорогу прозвали «конно-железкой», затем просто «конкой». (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]да «мой» не позволяет. Это, говорит, для дамы неприлично.
Хозяином Сологуб был приветливым, ходил вокруг стола и потчевал гостей.
– Вот это яблочко коробовка, а вот там анисовка, а вот то антоновка. А это пастила рябиновая.
В маленьком темном его кабинете на простом столе лежали грудой рукописи и смотрело из темной рамки женское лицо, красивое и умное, – портрет Зинаиды Гиппиус.
Вечера в казенной квартирке, когда собирались близкие литературные друзья, бывали очень интересны. Там слышали мы «Мелкого беса» и начало «Навьих чар». [159]159
Там слышали мы «Мелкого беса» и начало «Навьих чар». – Имеются в виду романы Ф. Сологуба; в 1907 г. вышло отдельное издание «Мелкого беса» и начаты «Навьи чары». (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]Последняя вещь совсем сумбурная, и в ней он как-то запутался. Там как раз появились «тихие мальчики», над которыми многие посмеивались, подозревая в них что-то сексуально неблагочестивое, хотя сам автор определенно говорил, что мальчики эти были тихие, потому что были полуживые-полумертвые. Ему вообще приятен был образ ребенка, полуотошедшего от жизни. В одном из первых рассказов был у него такой мальчик, ненавидевший жизнь и смех и мечтавший о звездах, где живут мудрые звери и никто никогда не смеется.
В «Навьих чарах» он предполагал вывести Христа, который должен был явиться как светский господин, даже с визитной карточкой «Осип Осипович Давидов». Но до этого в романе дело не дошло. Должно быть, одумался или не справился.
Когда мы познакомились ближе и как бы подружились (насколько возможна была дружба с этим странным человеком), я все искала к нему ключа, хотела до конца понять его и не могла. Чувствовалась в нем затаенная нежность, которой он стыдился и которую не хотел показывать. Вот, например, прорвалось у него как-то о школьниках, его учениках: «Поднимают лапки, замазанные чернилами». Значит, любил он этих детей, если так ласково сказал. Но это проскользнуло случайно.
Вспоминала его стихи, где даже смех благословляется, потому что он детский.
Да, нежность души своей он прятал. Он хотел быть демоничным.
И вот начались вечера с уклоном эстето-эротическим. Писались, читались и обсуждались вещи изощренно эротические. Помню один рассказ Сологуба – не знаю, был ли он напечатан, – где старый король приводит к своей молодой жене юного пажа и смотрит на их ласки. Когда у королевы родился сын, и король, и народ ликовали.
– Это мой сын, – заявлял король. – Я принимал участие в его зарождении.
Ребенка объявили наследником, а пажа повесили на воротах города, как собаку.
Все слушатели, конечно, согласились, что этот ребенок – сын короля, а паж тут абсолютно ни при чем. Паж – собака, и кончено. Кто-то, однако, робко заметил: а вдруг ребенок вышел как две капли воды похожим на пажа?
Все замахали руками:
– Не все ли равно. Мало ли какое бывает случайное сходство.
И участники вечеров старались превзойти друг друга эстето-эротизмом. Часто выходило совсем неладно, хотя и подано было искусными стихами.
Но вот умерла тихая сестра Сологуба. [161]161
…умерла тихая сестра Сологуба. – Ольга Кузьминична Тетерникова умерла от туберкулеза в 1907 г. (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]Он сообщил мне об этом очень милым и нежным письмом.
«…Пишу Вам об этом, потому что она очень Вас любила и велела Вам жить подольше. А мое начальство заботится, чтобы я не слишком горевал: гонит меня с квартиры…» И тут начался перелом.
Он бросил службу, женился на переводчице Анастасии Чеботаревской [162]162
…женился на переводчице Анастасии Чеботаревской… – Чеботаревская Анастасия Николаевна (1876–1921) – критик, переводчица; жена Ф. Сологуба с 1908 г.; покончила с собой, бросившись в Неву. (прим. Ст. Н.).
[Закрыть], которая перекроила его быт по-новому, по-ненужному. Была взята большая квартира, куплены золоченые стулики. На стенах большого холодного кабинета красовались почему-то Леды разных художников. [163]163
С. 194. На стенах большого холодного кабинета красовались почему-то Леды разных художников. —Леда – в греческой мифологии супруга спартанского царя Тиндарея. Зевс, плененный красотой Леды, овладел ею, обратившись в лебедя. Этот сюжет послужил темой картин многих живописцев разных стран и эпох. (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]
– Не кабинет, а ледник, – сострил кто-то.
Тихие беседы сменились шумными сборищами с танцами, с масками.
Сологуб сбрил усы и бороду, и все стали говорить, что он похож на римлянина времен упадка. Он ходил как гость по новым комнатам, надменно сжимал бритые губы, щурил глаза, искал гаснущие сны.
Жена его, Анастасия Чеботаревская, создала вокруг него атмосферу беспокойную и напряженную. Ей все казалось, что к Сологубу относятся недостаточно почтительно, всюду чудились ей обиды, намеки, невнимание. Она пачками писала письма в редакцию, совершенно для Сологуба ненужные и даже вредные, защищая его от воображаемых нападок, ссорилась и ссорила. Сологуб поддавался ее влиянию, так как по природе был очень мнителен и обидчив. Обиду чувствовал и за других. Поэтому очень бережно обходился с молодыми начинающими поэтами, слушал их порою прескверные стихи внимательно и серьезно и строгими глазами обводил присутствовавших, чтобы никто не смел улыбаться. Но авторов слишком самонадеянных любил ставить на место.
Приехал как-то из Москвы плотный выхоленный господин, печатавшийся там в каких-то сборниках, на которые давал деньги. Был он, между прочим, присяжным поверенным. И весь вечер Сологуб называл его именно присяжным поверенным.
– Ну а теперь московский присяжный поверенный прочтет нам свои стихи.
Или:
– Вот какие стихи пишут московские присяжные поверенные.
Выходило как-то очень обидно, и всем было неловко, что хозяин дома так измывается над гостем.
Зато когда привел к нему кто-то испуганного, от подобострастия заикающегося юношу, Сологуб весь вечер называл его без всякой усмешки «молодой поэт» и очень внимательно слушал его стихи, которые тот бормотал, сбиваясь и шепелявя.
Маленькие литературные сборища у Сологуба обыкновенно протекали так: все садились в кружок. Сологуб обращался к кому-нибудь и говорил:
– Ну вот начнете вы.
Ответ всегда был смущенный:
– Почему же именно я? У меня нет ничего нового.
– Поищите в кармане. Найдется.
Испытуемый вынимает записную книжку, долго перелистывает.
– Да у меня правда ничего нового нет.
– Читайте старые.
– Старые неинтересно.
– Все равно.
Испытуемый снова перелистывает книжку.
– Ну вот одно новое. Только оно, пожалуй, слишком длинно.
– Все равно.
Начинается чтение. Кончается при гробовом молчании, потому что выражать какое-нибудь мнение или одобрение было не принято.
– Следующее, – говорит Сологуб и закрывает глаза.
– Да, собственно говоря… – мечется испытуемый. – Впрочем, вот еще одно. Только оно, пожалуй, слишком коротенькое.
– Все равно.
Читает. Молчание.
Третье стихотворение.
Испытуемый уже не защищается. Видно, как спешит скорее покончить. Читает. Молчание.
Вот так, наверно, Федор Кузьмич, учитель городского училища, в холодном жестоком спокойствии терзал своих мальчишек.
– Теперь ваша очередь, – обращается мертвым голосом Сологуб к соседу выпотрошенного поэта. И тот тоже отнекивается, и мечется, и шарит по карманам под змеиным взглядом хозяина, и тоже читает три стихотворения. И так в тоскливой муке смыкался круг стихов.
Раз как-то я долго уверяла, что у меня нет третьего стихотворения, и, когда Сологуб все-таки его требовал, сказала:
– Ну если так, так хорошо же.
И прочла Пушкина «Заклинание». [164]164
С. 195. …прочла Пушкина «Заклинание». – Стихотворение 1830 г. («О, если правда, что в ночи…»). (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]
По лицам присутствующих поняла, что никто из них не слушают. Только Бальмонт при словах «Я жду Лейлы» чуть-чуть шевельнул бровями. Но уже после ужина, когда я уходила домой, Сологуб, прощаясь со мной, промямлил:
– Да, да. Пушкин писал хорошие стихи.
На этих вечерах Сологуб и сам читал какой-нибудь отрывок из своего нового романа. Чаще переводы Верлена, Рембо. Переводил он неудачно, тяжело, неуклюже. Читал вяло, сонно, и всем хотелось спать. Профессор Аничков [165]165
АничковЕвгений Васильевич (1866–1937) – литературовед, историк литературы, фольклорист, критик, прозаик; после революции – в эмиграции. (прим. Ст. Н.).
[Закрыть], очень быстро засыпавший и знавший за собой эту слабость, обыкновенно слушал стоя, прислонясь к стене или к печке, но и это не помогало. Он засыпал стоя, как лошадь. Изредка, очнувшись, чтобы показать, что он слушает, начинал совершенно некстати громко хохотать. Тогда Сологуб на минуту прерывал чтение и медленно поворачивал к виновному свои мертвые глаза. И тот стихал и сжимался, как кролик под взглядом удава. Писал Сологуб всегда очень много.
– Я всех писателей разделяю на графоманов и дилетантов. Я графоман, а вы дилетантка.
После нашумевшего романа «Мелкий бес» началась бешеная сологубовская слава.
Издатели набросились на него. Перепечатали его старые произведения, прошедшие когда-то незаметно. Он закончил свой роман «Навьи чары». Конец, написанный после перелома, то есть когда судьба вознесла его, не оправдал обещанного. И то, что намечал он в тихой комнате с лампадкой, осталось невыполненным. Я помнила, как он рассказывал о дальнейшем ходе романа, и этого в напечатанной книге не нашла. Дух отлетел от него. И только в стихах своих был он прежним, одиноким, усталым, боялся жизни, «бабищи румяной и дебелой» [166]166
С. 196. …боялся жизни, «бабищи румяной и дебелой»… – Цитата из сказки Сологуба «Пленная смерть»: «…стоит возле него жизнь, бабища дебелая и румяная, но безобразная» (Сологуб Ф. Собр. соч. Т. X. СПб., 1923. С. 41). «Проклятой бабищей» называет Сологуб жизнь в стихотворении «Безумное светило бытия» (1922): «Я жизни не хочу, – уйди, уйди / Ты, бабища проклятая…». (прим. Ст. Н.).
[Закрыть], и любил ту, чье имя писал с большой буквы – Смерть.
– Смертерадостный, – называли его.
– Рыцарь Смерти, – называла я.
Но и в стихах своих принялся он фокусничать, играть пустяками.
Я ему говорила, что это похоже на скороговорку: «Сшит колпак, да не по-колпаковски», и заставляла одного косноязычного поэта, не выговаривавшего букву «л», декламировать эти стихи. У него выходило:
Бевей вивей, авее вава
Быва бева ты и ава.
А о Смерти еще находил прежние слова и говорил о ней нежно. Она приходила и просила под окном, чтобы брат ее Сон открыл ей двери. Она устала. «Я косила целый день…» [168]168
«Я косила целый день…»– Цитата из стихотворения Сологуба «Тихая колыбельная» (1906). (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]
Она хотела накормить голодных своих смертенышей…
Настоящая фамилия Сологуба была Тетерников, но, как мне рассказывали, в редакции, куда он отнес первые свои произведения, посоветовали ему придумать псевдоним.
– Неудобно музе увенчать лаврами голову Тетерникова.
Кто-то вступился, сказал, что знал почтенного полковника с такой фамилией и тот ничуть не огорчался.
– А почем вы знаете? Может быть, и полковнику приятнее было бы более поэтическое имя, только вот в армии нельзя служить под псевдонимом.
И тут же придумали Тетерникову псевдоним – Федор Сологуб. С одним «л», чтобы не путали с автором «Тарантаса» [169]169
С. 197. …придумали Тетерникову псевдоним – Федор Сологуб. С одним «л», чтобы не путали с автором «Тарантаса». – Псевдоним «Сологуб» придуман в редакции журнала «Северный вестник». Автор «Тарантаса» – граф Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882). (прим. Ст. Н.).
[Закрыть]. И мы знаем, что муза этот псевдоним почтила своим вниманием.
Венец славы своей нес Сологуб спокойно и как бы презрительно. С журналистами и интервьюерами обращался надменно.
Помню, как шли мы вместе по фойе театра и к нему подбежал какой-то газетный сотрудник и почтительно спрашивал его мнение о новой пьесе. Сологуб шел, не замедляя шага, не поворачивая головы, лениво цедя слова сквозь зубы, а журналист забегал, как собачонка, то справа, то слева, переспрашивал и не всегда получал ответ. Так мстил (вероятно бессознательно) Сологуб за измывательства над его первыми, лучшими и самыми вдохновенными вещами.
Сологуба считали колдуном и садистом. В своих стихах он и бичевал, и казнил, и колдовал. Черная сила играла в них.
Признав отцом своим дьявола, он принял от него и все черное его наследство: злобную тоску, душевное одиночество, холод сердца, отвращение от земной радости и презрение к человеку. Как сон, вспоминались его грустные, нежные стихи:
В поле не видно ни зги.
Кто-то зовет: «Помоги!»
Как помогу?
Сам я и беден и мал,
Сам я смертельно устал —
Что я могу?
Голос зовет в тишине:
«Брат мой, приблизься ко мне,
Легче вдвоем.
Если не сможем идти,
Вместе умрем на пути,
Вместе умрем!»
Теперь пошла эротика, нагие флагелянты [171]171
С. 198. Флагелланты (лат.) – бичующиеся; религиозные аскеты-фанатики, проповедовавшие публичное самобичевание ради «искупления грехов»; это движение, возникнув в XIII в. среди городской бедноты Италии как протест против католической церкви, гнета феодалов и непрерывных войн, распространилось потом по всей Западной Европе; флагелланты жестоко преследовались как еретики и в XV в. постепенно исчезли. (прим. Ст. Н.).
[Закрыть], мертвые люди, живые мертвецы, колдовство, комплекс Эдипа [172]172
Комплекс Эдипа(или Эдипов комплекс) – понятие психоанализа; согласно Фрейду, представляет собой результат вытеснения в бессознательное враждебных импульсов по отношению к отцу, возникающих в раннем детстве. (прим. Ст. Н.).
[Закрыть], воющие собаки, оборотни. Было:
Я верю в творящего Бога,
В святые заветы небес…
Стало:
Что за человек Сологуб, понять было трудно. Его отношения ко мне я тоже не понимала. Казалось бы, совершенно безразличное. Но вот неожиданно узнаю, что мою пьесу «Царица Шамурамат» [174]174
…мою пьесу «Царица Шамурамат»… – Так Тэффи называет свою пьесу «Полдень Дзохары. Легенда Вавилона», вошедшую в книгу «Семь огней» (СПб.: Шиповник, 1910. С. 83—111), посвященную Сологубу. (прим. Ст. Н.).
[Закрыть](я тогда увлекалась Древним Востоком) он старался устроить в Театр Комиссаржевской.
Раз как-то пришел он ко мне с Георгием Чулковым. Я была в самой лютой неврастении. Чулков ничего не заметил, а Сологуб странно пристально присматривался ко мне и все приговаривал:
– Так-так. Так-так.
Вечером пришел снова и настаивал, чтобы я пошла с ним в ресторан обедать, и оттуда повел по набережной.
– Не надо вам домой торопиться. Дома будет хуже.
Была белая ночь, нервная и тоскливая, как раз бы Рыцарю Смерти поговорить о своей Даме. Но он был неестественно весел, болтал и шутил, и я поняла, что он жалеет меня и хочет развлечь. Потом выяснилось, что так это и было. Его мертвые глаза видели многое, живым глазам недоступное и ненужное.
Он ненавидел шаржи, карикатуры и пародии.
В каком-то журнале появилась пародия на него Сергея Городецкого под случайным псевдонимом. Сологуб почему-то решил, что сочинила ее я, и остро обиделся. Вечером у себя за ужином он подошел ко мне и сказал:
– Вы, кажется, огорчены, что я узнал про вашу проделку?
– Какую проделку?
– Да ваш пасквиль на меня.
– Я знаю, о чем вы говорите. Это не я сочинила. Все свои произведения, как бы плохи они ни были, я всегда подписываю своим именем.
Он отошел, но в конце ужина подошел снова.
– Вы не расстраивайтесь, – сказал он. – Мне все это совершенно безразлично.
– Вот это меня и расстраивает, – отвечала я. – Вы думаете, что я вас высмеяла, и говорите, что вам это безразлично. Вот именно это меня и расстраивает.
Он задумался и потом весь вечер был со мной необычайно ласков.
Несмотря на свою надменную мрачность, он иногда охотно втягивался в какую-нибудь забавную чепуху.
Как-то вспомнили школьную забаву:
– Почему говорят гимн-Азия, а не гимн-Африка? Почему чер-Нила, а не чер-Волги?
С этого и пошло. Решили писать роман по новому ладу. Начало было такое:
«На улицу вышел человек в синих панталонах».
По-новому писали так:
«На у-роже ты-шел лоб-столетие в ре-них хам-купонах».
Игра была из рук вон глупая, но страшно завлекательная, и многие из нашего писательского кружка охотно разделывали эту чепуху. И многие серьезные и даже мрачные, как и сам Сологуб, сначала недоуменно пожимали плечами, потом, словно нехотя, придумывали слова два-три, а там и пошло. Втягивались.