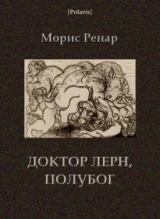
Текст книги "Доктор Лерн, полубог"
Автор книги: Морис Ренар
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
– А кроме того, – прибавила эта бестолковая голова, – я не думала, что вы в саду, я была уверена, что вы в ла…
Грубая тяжеловесная пощечина прервала ее на этом слоге – начальном слова «лабиринт», как я предположил.
– О, дядюшка! – воскликнул я в негодовании.
– Послушайте, вы! Или оставьте меня в покое, или убирайтесь вон! Поняли?
Варвара была в таком ужасе, что даже не смела заплакать во весь голос. От сдерживаемых рыданий она икала. Побледнела она страшно, и костистая рука Лерна оставила на щеке ярко-красный след пальцев.
– Ступайте, возьмите багаж этого господина в сарае и снесите его в львиную комнату.
(Эта комната помещалась в первом этаже западного крыла).
– А вы не поместите меня в ту комнату, которую я занимал всегда?
– В какую?
– Как в какую?.. Ну… в желтую, в партере, в восточном крыле, разве вы забыли?
– Нет, – отрезал он сухо, – она занята. Ступайте, Варвара.
Кухарка побежала от нас еще быстрее, чем бежала раньше, и доставила нам возможность любоваться другой стороной ее грузной фигуры, колыхавшейся от быстрого бега.
Направо зеленел заглохший пруд. Мне стало казаться, что я сплю или нахожусь в летаргии. Я все больше и больше удивлялся.
Все же я постарался ничем не выказать своего изумления при виде новой большой постройки из серого камня, прислоненной одной стороной к утесу. Постройка эта состояла из двух зданий, разделенных небольшим двориком; двор этот был закрыт от чужих взглядов стеной с воротами посредине, которые в данный момент тоже были закрыты, но оттуда доносилось клохтанье и даже раздался лай собаки, по-видимому, почуявшей наше присутствие.
Я решился позондировать почву:
– Вы покажете мне вашу ферму?
Лерн пожал плечами и сказал:
– Может быть!
Потом, обернувшись к дому, он позвал: «Вильгельм, Вильгельм!»
Немец с лицом, как солнечные часы, открыл слуховое окно и высунулся в него. Профессор принялся его ругать на его родном языке так свирепо, что бедняга дрожал всем телом.
– Черт возьми! – подумал я, – по-видимому, по его недосмотру, как раз этой ночью вырвались на свободу такие вещи, которые не должны были быть там. Я в этом уверен.
Когда дядя окончил выговор, мы пошли дальше вдоль пастбища. На пастбище находились черный бык и четыре разномастные коровы. Все это стадо, без видимой причины, эскортировало нас во время нашей прогулки вдоль пастбища. Мой ужасный родственник развеселился:
– Вот, Николай, представляю тебе Юпитера; а вот белая Европа, рыжая Ио, белокурая Атор и Пасифая в очаровательном платье – можешь назвать его молочным с чернильными пятнами, или же угольным, испещренным меловыми полосами, как тебе будет угодно.
Эти воспоминания из области легкомысленной мифологии заставили меня улыбнуться. По правде сказать, я готов был ухватиться за первый представившийся предлог, чтобы немного рассеяться; у меня была чисто физическая потребность в этом. Кроме того, я так проголодался, что мог думать только о том, как бы удовлетворить чувство голода. Поэтому меня притягивал только замок: там мне дадут поесть. И эта мысль чуть не заставила меня пройти, не обращая внимания, мимо оранжереи.
Было бы очень жаль. Старую оранжерею расширили, пристроив к ней два больших флигеля; насколько можно было разглядеть за опущенными шторами, эта постройка была произведена очень тщательно и были применены все новейшие усовершенствования. Вся постройка целиком напоминала что-то среднее между дворцом и колоколом и производила довольно неожиданное впечатление чего-то грандиозного.
Такая роскошная теплица в такой трущобе?.. Я с не меньшим изумлением констатировал бы присутствие любовного источника в монастыре.
Во времена моей тетушки львиная комната предназначена была для гостей. Она освещалась – и теперь освещается – тремя окнами, помещенными в нишах, вроде альковов. Одно окно выходит на ту сторону, где находится оранжерея, и снабжено балконом; через другое виден парк: сквозь него я увидел пастбище, за ним пруд, а совсем вдали избушку, которая исполняла роль Бриарея; третье окно приходилось напротив восточного крыла, из него я увидел окна моей прежней комнаты – со спущенными шторами – и, в перспективе, весь фасад замка, заслонявший от меня вид налево.
Я почувствовал себя в этой комнате, как в гостинице. Ни одна вещь не будила во мне воспоминаний. Картина Жуи, потрескавшаяся от времени, снятая со стены и брошенная куда-то в угол, украшала ее яркой раскраской своих львов. Портьеры кровати и окна были украшены теми же изображениями. Между окон симметрично висели две гравюры: «Воспитание Ахилла» и «Похищение Деяниры», которые были так сильно испорчены сыростью, что с трудом можно было рассмотреть лица; убранство довершали недурные нормандские часы, футляр которых напоминал поставленный дыбом гроб – эмблема и в тоже время мера времени. Все это было старомодно и неприглядно.
Я с наслаждением умылся довольно жесткой водой и переодел белье. Варвара принесла мне, причем вошла не постучав, тарелку простого крестьянского супа, ни звука не ответила мне на высказанное мною сожаление по поводу ее щеки и тяжеловесно испарилась, как гигантский эльф.
В зале никого не было, разве только если назвать кем-нибудь две тени.
Маленькое креслице, обитое черным бархатом с двумя желтыми кистями… Потерявшая форму присевшая опухоль, которую я когда-то так удачно назвал жабой, разве я мог увидеть ее снова, не воскресив на ней тени моей милой рассказчицы сказок, моей славной тетушки? А тень моей матери – более строгой, с которой я не смел шутить – разве я могу не вспомнить, как она облокачивалась на твои ручки, милое кресло, если только ты на самом деле кресло, а не что-нибудь другое?
Все до мельчайших подробностей осталось по-старому. Начиная от знаменитых белых обоев, убранных гирляндами цветов, заплетенных в веночки, кончая ламбрекенами из серого шелка, которые соприкасались своими обшитыми бахромой полами – все удивительно сохранилось. Набитые шерстью опухоли по-прежнему округляли поверхность диванов и кресел, и время не сделало более плоскими сиденья шезлонгов и пуфов. Со стен мне, как и в детстве, улыбались все мои усопшие родственники: мои предки, дедушки и бабушки – пастели-миниатюры, мой отец, гимназистом – дагерротип; на камине были прислонены к зеркалу фотографические снимки в бумажных рамках. Группа большого формата привлекла мое внимание. Я снял ее, чтобы лучше рассмотреть. Это был мой дядя в обществе пяти мужчин и большого сенбернара. Фотография была снята в Фонвале: фоном служила стена замка и можно было узнать лавровое дерево в кадке. Любительский снимок, без фирмы. На карточке Лерн выглядел добрым, мужественным и веселым, словом, был похож на того ученого Лерна, каким я рассчитывал его увидеть. Из остальных пяти я узнал только троих – это были три немца, остальных двух я никогда не видал.
В этот момент дверь открылась так внезапно, что я не успел поставить карточку на место. Вошел Лерн, толкая перед собой молодую женщину.
– Мой племянник, Николай Вермон – мадемуазель Эмма Бурдише.
М-ль Эмма, надо полагать, только что выслушала от Лерна один из тех резких выговоров, на которые он был такой мастер. Это видно было по ее растерянному выражению лица. У нее не хватило силы воли даже на то, чтобы сделать всеми принятое ласковое выражение лица; она ограничилась неловким движением головы. Я же, поклонившись, боялся поднять глаза, чтобы дядя нечаянно не прочел того, что делалось у меня на душе.
На душе? – Если под этим словом понимать группу способностей, выделяющих и возвышающих человека над остальными животными, то я думаю, что лучше будет не компрометировать моей души в данном случае.
Мне небезызвестно, что хотя всякая любовь в своей основе и представляет животное стремление полов к соединению, все же, по временам, случается, что дружба и уважение облагораживают это чувство.
Увы! Моя страсть к Эмме осталась навсегда на ступени первобытного животного чувства; и если бы какому-нибудь Фрагонару вздумалось увековечить нашу первую встречу и он решился бы, в подражание восемнадцатому веку, украсить картину изображением Амура, то я посоветовал бы ему изобразить Эроса с козлиными ногами, – Купидона-фавна без улыбки и без крыльев, – его колчан сделать из лыка, а стрелы из дерева и обагрить кровью; – и назвать следовало бы э т о г о бога любви, не стесняясь, Паном. Это единственный всемирный бог Любви, дарящий наслаждением, не спрашивая у вас позволения, обольстительный порок, делающий вас отцами и матерями, чувственный властелин жизни, который относится с одинаковой заботливостью к вольному воздуху и к кабаньей берлоге, к прекрасной кровати и к собачьей конуре, тот самый, который толкнул нас друг к другу – м-ль Бурдише и меня, как двух шаловливых кроликов.
Существуют ли ступени женственности? Если да, то я ни в одной женщине никогда в жизни не встречал большей женственности, чем в Эмме. Я не стану ее описывать, так как не видел в ней объекта, а только существо. Была ли она прекрасна? Несомненно. Возбуждала ли желание обладать ею? О, наверное!
Все-таки цвет волос ее я запомнил: они были огненного цвета, темно-красного, – может быть, выкрашены; перед моими глазами сейчас пронеслось ее тело и пробудило умершие желания. Она была прекрасно сложена и не имела ничего общего с этими тонкими, плоскими женскими фигурами, которые представляют так мало соблазна для мужчин, потому что любознательному взору не на чем отдохнуть. Платья Эммы вовсе и не стремились скрыть ее приятные округлости и, наоборот, из вполне похвального стремления к истине, она давала возможность убедиться, что природа наделила ее ими в двойном количестве, что всегда стремятся доказать скульпторы и художники в пику портнихам.
Добавлю, что это очаровательное существо находилось тогда как раз в расцвете своей красоты и молодости.
Кровь прилила у меня к голове, и вдруг я почувствовал, что мною овладевает чувство бешеной ревности. Ей-Богу, мне казалось, что я охотно отказался бы от этой женщины, лишь бы никто другой к ней не прикасался. Лерн, бывший мне до этого момента противным, сделался для меня невыносимым. Теперь я твердо решил остаться – во что бы то ни стало.
Между тем разговор не завязывался – мы не знали, о чем говорить. Сбитый с толку внезапностью появления и желая скрыть свое смущение, я пробормотал, чтобы что-нибудь сказать:
– Видите, дядя, я как раз разглядывал эту карточку…
– Ах, да, группа моих помощников, во главе со мной. Вильгельм, Карл, Иоанн. А вот Мак-Бель, мой ученик. Не правда ли, очень удачно вышел, Эмма?
Он поднес карточку к глазам Эммы и указывал на изящного, стройного, начисто выбритого, по американской моде, молодого человека небольшого роста, опиравшегося на сенбернара.
– Правда, красивый и остроумный малый? – насмешливо спрашивал профессор. – Идеальнейший шотландец!
Эмма не шелохнулась, все еще не отделавшись от испуганного выражения лица. Но все же она медленно и с трудом произнесла:
– Его Нелли была такая забавная – умела делать всякие штуки, точно ученая собака из цирка..
– А Мак-Белль? – настаивал дядя. – Он тоже был забавен, да?
По задрожавшему подбородку я увидел, что она сейчас расплачется. Она прошептала:
– Бедный, несчастный Мак-Белль!..
– Да, – сказал мне дядя, отвечая на мой немой вопрос, – Донифан Мак-Белль вынужден был оставить у меня службу вследствие чрезвычайно неприятных обстоятельств, о которых можно только пожалеть. Молюсь Богу, чтобы судьба уберегла тебя от таких неприятностей, Николай.
– А кто этот другой? – спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему. – Этот господин с темными усами и бакенбардами, кто это?
– Он тоже уехал.
– Это доктор Клоц, – сказала подошедшая поближе и успокоившаяся Эмма, – Отто Клоц; о, этот…
Лерн взглянул на нее с таким выражением, что она замолчала от взгляда. Я не знаю, угрозу какого наказания она прочла в нем, но бедную девушку судорожно передернуло.
В этот момент Варвара, с трудом протиснув в двери половину своей мощной фигуры, жеманно доложила, что кушать подано.
Стол был накрыт всего на три прибора; я решил, что немцы едят отдельно в сером здании.
Завтрак прошел в угрюмом молчании. М-ль Бурдише не проронила ни одного слова и ничего не ела, так что, уходя к себе, я не мог вывести никакого заключения о том, к какому кругу общества она принадлежит, потому что ужас обезличивает и уравнивает людей.
Но я с трудом держался на ногах от усталости. Как только подали десерт, я попросил разрешения пойти спать, причем просил не будить меня до завтрашнего утра.
Войдя к себе в комнату, я немедленно стал раздеваться. Говоря по правде, путешествие, ночь проведенная в лесу и приключения этого утра довели меня до полного изнеможения. Все эти загадки изводили меня, во-первых, потому, что это были загадки, а во-вторых, потому, что они представлялись такими неясными; и мне казалось, что я брожу в каком-то тумане, в котором неясные очертания сфинксов поворачивались ко мне неопределенными лицами.
Я взялся за подвязки, чтобы отстегнуть их… и не отстегнул.
Я увидел в окно, что Лерн в сопровождении своих трех помощников идет по саду, направляясь к серому зданию.
Они идут туда работать, размышлял я, это не подлежит никакому сомнению… За мной никто не следит; особых мер предосторожности еще не успели предпринять против меня, тем более, что дядя убежден, что я сплю.
..Николай! Надо действовать сейчас или никогда!.. С чего начать? С Эммы или с тайны?.. Гм… бедняжка здорово напугана сегодня; что же касается секрета…
Машинально одев снова жилетку и пиджак, я ходил от окна к окну, не зная, на что решиться.
Тут сквозь вычурную решетку балкона я обратил внимание на громадную, расширенную оранжерею. Она была таинственна, заперта, вход в нее был запрещен – она притягивала меня…
Я вышел, стараясь не производить шума и не привлекать ничьего внимания.
ОРАНЖЕРЕЯ
Когда я очутился на дворе, у меня было такое ощущение, точно все меня выслеживают, и я бегом бросился в лесок, примыкавший к оранжерее. Потом, пробираясь сквозь густую заросль кустов, направился к входной двери этого здания.
Было очень жарко. Я с трудом пробирался вперед, тщательно избегая царапин и могущего меня выдать шума. Наконец, я увидел главный купол и одну из полукруглых сторон оранжереи: оказалось, что я подошел к ней с боку. Я решил, что будет осторожнее, если я сначала рассмотрю ее, не выходя из леска.
Прежде всего, меня поразило, что за ней, по-видимому, был очень тщательный уход: на устроенном вокруг нее тротуаре все до одной плитки были целы, ни один камень цокольного фундамента не был даже тронут, ставни были аккуратно пригнаны, все планки были на своем месте, и сквозь все отверстия решетчатых ставень видны были стекла, ярко блестевшие на солнце.
Я внимательно прислушался: ни звука не долетало ни со стороны замка, ни со стороны серого здания. В оранжерее тоже царила полная тишина. Слышен был только гул бесчисленного количества мошек, резвившихся в жарком воздухе этого летнего послеобеденного часа.
Тогда я решился. Подойдя вплотную к окну, я приподнял деревянный ставень и попытался разглядеть, что происходит внутри. Но я ничего не мог увидеть, потому что стекла были замазаны чем-то белым с внутренней стороны. Было более чем вероятно, что Лерн пользовался оранжереей не для того, для чего она была первоначально предназначена, а занимался в ней теперь совсем другим, а никак не культурой цветов. Мне показалось довольно правдоподобным предположение о культуре микробов, которые потихоньку разрастаются в теплой тепличной атмосфере.
Я обошел стеклянный дом кругом. Всюду та же замазка мешала видеть, что делается внутри; мне показалось, что местами она была не так густо намазана. Форточки, хотя и были полуоткрыты, но были так высоко от земли, что я не мог достать до них. Боковых входов не было, а сзади тоже нельзя было попасть в оранжерею.
Так как я все подвигался вперед, разглядывая кирпичи и столь же прозрачные, как они, стекла, то скоро очутился напротив замка, со стороны моего балкона. Мое положение на открытой, незащищенной местности становилось опасным. Приходилось, несмотря на все старания, отправиться в свою комнату и оставить мысль об исследовании предполагаемого дворца микробов, не осмотрев его фасада. Поэтому я решил вернуться к себе, ограничив обзор фасада беглым взглядом, как вдруг при этом взгляде я неожиданно заметил, что разгадка дается мне сама в руки. Дверь была только прикрыта, а высунувшаяся во всю свою длину замочная задвижка указывала на то, что запиравший дверь думал, что запер ее на двойной оборот ключа. О, Вильгельм! Милейший ветрогон!
С первых шагов я должен был сознаться, что мои бактериологические гипотезы ошибочны. Я попал в помещение, напоенное ароматом цветов – атмосфера была сырая и теплая, чуть-чуть пробивался запах никотина.
Я остановился на пороге, очарованный.
Ни одна оранжерея – даже королевская – не произвела бы на меня впечатления такой безумной роскоши, как эта, с первого взгляда. В этом круглом здании, очутившись среди дивных растений, я был прямо поражен. Листья давали полную хроматическую гамму зеленого цвета, в котором ярко выделялись тона разноцветных фруктов и цветов; все это было великолепно расставлено этажами по подымавшимся до самого купола подставкам.
Но глаза постепенно привыкали к этому необыкновенному зрелищу и мой восторг понемногу стихал. Конечно, для того, чтобы этот зимний сад произвел на меня такое сильное впечатление, надо было, чтобы он состоял из необыкновенно редких растений, так как особенной гармонии в их распределении не замечалось. Растения были расставлены по ранжиру, а не по законам изящества и вкуса, вроде того, как если бы рай был поручен попечениям жандарма: они были грубо собраны в одно место по категориям, горшки стояли, как солдаты, на каждом была наклеена этикетка, что указывало скорее на уход ботаника, чем садовника; вообще, во всем проявлялось больше знания, чем вкуса. Эти соображения заставили меня призадуматься. Впрочем, неужели можно было допустить хотя на минуту, что Лерн станет заниматься садоводством для удовольствия?
Продолжая осмотр, я с восторгом разглядывал эти чудеса, хотя, по своему невежеству, не мог бы назвать ни одно из них. Я все же машинально попробовал это сделать, и тогда это великолепие, которое в общей картине производило впечатление чрезвычайной редкости, показалось мне в настоящем свете…
Не веря своим глазам и охваченный лихорадочным любопытством, я стал внимательно разглядывать кактус, – несмотря на свое невежество, я все же узнал его… Но меня сбивал с толку его красный цветок… Я тщательно пригляделся к нему – и мое смущение только усилилось…
Но сомнение было непозволительно: этот цветок, поразивший меня своим видом, был цветком гераниума.
Я перешел к соседнему растению: – из земли поднимались три бамбуковых трубки и окончания их были украшены, как капителями, тремя цветками далии.
Почти напуганный этим, задыхаясь от этих неестественных благоуханий, я беспомощно оглядывался кругом, и чудесная бессвязность того места, где я находился, стала для меня ясной.
Там царили: весна, лето и осень все вместе, а зиму Лерн, должно быть, исключил потому, что собраны все растения, все фрукты, но ни один из них не расцвел, не распустился на своем родном кусте или дереве.
Целая колония васильков украшала отрекшийся от своего предназначения куст шток-розы, превратившийся, благодаря им, в голубой тирс. Ветви араукарий были густо усеяны темно-синими колокольчиками горечавки. А на длинных змеевидных стеблях камелий, расставленных шпалерами, красовались пестрые тюльпаны.
Напротив входной двери, у самой застекленной стены, густой массой стояли деревца. Одно из них, выделявшееся из массы, привлекло мое внимание. На нем висело несколько груш, между тем, это было апельсинное дерево. Сзади него, по решетке, гирляндами вились виноградные лозы, которым не стыдно было бы вырасти и в Ханаане; гигантские гроздья состояли из мирабелл – на одной лозе, и рябины – на другой.
Затем, на ветвях миниатюрного дуба, рядом с самостоятельно выросшими желудями, можно было увидеть вишни – на одной ветке, а на другой – орехи. Одна ягода не удалась: не получилось ни вишни, ни ореха, а образовалась чудовищная и отвратительная шероховатая опухоль, испещренная розоватыми жилками.
На ели, вместо смолистых шишек, росли каштаны и лучистые астры; кроме того, на ней росли такие контрасты, как золотистый шар апельсина – солнце восточных фруктовых садов – и кизил, который производит впечатление посмертного плода умершего от голода дерева.
Дальше были сгруппированы более законченные чудеса. Славный Демустье написал бы, что Флора здесь гуляет под руку с Помоной. Большая часть основных растений была мне незнакома, и я запомнил только те, названия которых известны первому встречному. Я, как сейчас, вижу удивительную вербу, на которой выросли гортензии, мак, персики и земляника. Но все-таки самым красивым из этих ублюдков был восхитительный розовый куст, на котором пышно расцвели китайские астры вперемешку с мелкими китайскими яблочками.
В самом центре круглого здания стоял куст с разнообразными ветвями остролиста, липы и тополя; раздвинув ветви, я имел возможность убедиться, что все они растут на одном и том же стволе.
Это было торжественной победой прививки; искусство, которое Лерн за пятнадцать лет довел до степени чуда, даже до такой степени, что зрелище результата его трудов внушало чувство некоторого беспокойства. Когда человек вмешивается в творчество природы, он создает чудовищное. Меня охватило какое-то беспокойное чувство.
– По какому праву он вмешивается в творчество самой природы? – думал я. – Разве допустимо нарушать законы жизни в такой мере? Разве эта святотатственная игра не является преступным оскорблением Природы?.. Я еще понимаю, если бы эти фальсифицированные предметы радовали изысканный вкус; но, не представляя, в сущности, ничего нового, это какие-то дикие соединения, и больше ничего – что-то вроде растительных химер, или цветочных фавнов, ни то, ни се… Честное слово, все равно – привлекательна эта задача, или нет, но нечестива она во всяком случае, и больше ничего.
Но как бы там ни было, чтобы добиться таких результатов, профессор должен был потратить бездну времени и труда. Эта коллекция служила доказательством этого, да, кроме того, тут же находились и другие доказательства того, что ученый здесь работал: я заметил на столе массу скляночек и не меньшее количество инструментов для прививки и орудий садовника; все это блестело и сверкало, как хирургический набор. Эта находка заставила меня внимательнее присмотреться к цветам, и мне их стало жалко.
Все они были замазаны разного рода клеем, на них были наложены повязки – чуть ли не хирургические, были испещрены рубцами – почти ранами, из которых сочилась какая-то сомнительного цвета жидкость.
На коре апельсинного дерева была глубокая рана. Она имела форму глаза; из этого глаза медленно лились слезы. Я стал нервничать… Трудно поверить, что меня охватила странная жуть при взгляде на оперированный дуб… из-за вишен… они производили на меня впечатление капель крови… Флок, флок! Две созревшие вишни упали к моим ногам, прошумев, как капли начинающегося дождя.
Я почувствовал, что лишился хладнокровия, необходимого, чтобы приглядеться к этикеткам. Я узнал только несколько чисел, да что Лерн исписал их неразборчивыми французско-немецкими названиями, с многочисленными поправками.
Продолжая внимательно прислушиваться, я обхватил голову руками и дал себе несколько минут передышки, чтобы собраться с духом, – затем открыл дверь в правое крыло.
Передо мной оказалась небольшая галерея. Стеклянная крыша смягчала дневной свет и даже доводила его до голубоватых сумерек. Воздух был удивительно свежий. Пол был устлан плитами.
В этой комнате находились три аквариума, три больших ящика из хрусталя, до того прозрачного, что казалось, будто вода самостоятельно держится в воздухе в форме трех геометрически правильных параллелепипедов.
В двух боковых аквариумах помещались морские растения. Они мало отличались один от другого на первый взгляд. Но в круглом здании я мог убедиться, с какою тщательностью Лерн все распределял по группам, и поэтому я не мог допустить мысли, чтобы он поместил в двух разных помещениях совершенно одинаковые предметы.
Оба бассейна изображали тот же подводный пейзаж. Справа, как и слева, древесные разрастания самых разнообразных цветов покрывали маленькие утесы своими окаменелыми раздвоенными ветвями; песочная почва была усеяна морскими звездами, похожими на эдельвейсы; там и сям валялись пучки меловых палочек, на конце которых распускалось что-то мясистое, напоминающее хризантемы, желтого и фиолетового цвета. Мне трудно описать массу других венчиков, которые там находились; некоторые были похожи на маслянистые, восковые или желатинные чашечки; большая часть была очень неопределенного цвета и неясной формы, а сплошь и рядом они казались просто оттенком воды.
Из крана, находившегося внутри аквариумов, вырывались тысячи пузырьков, и их шумные жемчужины пробирались сквозь ветви деревьев перед тем, как достигнуть поверхности воды и там лопнуть. При виде их можно было подумать, что этот подводный садик нуждался в поливке воздухом.
Собрав все свои гимназические воспоминания, я решил, что оба собрания – различающиеся только в подробностях – заключали в себе исключительно полипов, – существа странные, как, например, кораллы или губки, словом, те существа, которым натуралисты отводят место между растениями и животными.
Двусмысленность их положения всегда вызывает интерес. Я постучал пальцем в левое стекло.
Немедленно задвигалось что-то неожиданное, напоминая опаловый стаканчик венецианского стекла, который сохранил свою тягучесть; что-то пурпуровое задвигалось ему навстречу: это были две медузы. Но мой стук вызвал и другие движения. Актинии, напоминая желтые или сиреневые помпончики, втягивались в свои известковые трубочки и снова распускались ритмичными движениями; лучи морских звезд и иглы морских ежей лениво пошевеливались; заплавали какие-то серые, алые, шафранного цвета вещи и, точно в водовороте, весь аквариум взволновался.
Я постучал в правый аквариум. Ничего не зашевелилось.
Было совершенно ясно: это разделение полипов на две части давало мне возможность легче усвоить себе ту разницу, которая в них заложена, ту, которая, соединяя животное с растением, роднит человека с травой. Эти существа были подобраны так, что находившиеся в левом аквариуме – активные – были на нижней ступени лестницы; находившиеся в правом – неподвижные – были на верхушке своей лестницы: одни начинали становиться животными, другие кончали быть растениями.
Итак, воображаемая бездна, которая, казалось бы, разделяет эти две антитезы, сводится к незначительным, почти незаметным изменениям в структуре, к различию, которое меньше поражает, чем несходство волка с лисицей, а между тем, ведь они двойники, братья.
И вот эту минимальную величину, это различие, которое создавало между ними, по твердому убеждению всех без исключения ученых, непроницаемую стену, потому что оно отделяло неподвижность от произвольного движения, Л е р н у н и ч т о ж и л.
В бассейне, стоявшем в глубине, обе породы б ы л и п ри в и ты о дн а к д р угой. Я заметил там студенистый листочек из породы неподвижных, привитый к подвижной ножке – и т е п е р ь л и с т о ч е к т о ж е дв и га лс я сам о сто я те л ьн о. Привитые приобретали свойства тех растений, к которым их прививали: неподвижные, всасывая живительный сок, начинали двигаться, а деятельность двигавшихся парализовалась от проникновения в них сока неподвижных.
Я бы охотно подробно осмотрел все применения этого нового принципа, но какая-то медуза, прикрепленная чуть не сотней повязок к морской водоросли, стала отчаянно биться о стекло, и я отвернулся с отвращением. Эта последняя стадия прививок, сопряженная с такими мучениями, была, на мой взгляд, лишним доказательством профанации, и я стал искать в голубых сумерках другое, менее тяжелое зрелище.
Набор профессора был разложен в строгом порядке. На этажерке была расставлена целая аптека. На четырех столах, сделанных из стекла, расставленных вперемешку с аквариумами, расположились ножички и пинцеты мучительства.
Нет! Лерн не имел права!.. Это было так же гнусно, как убийство, даже больше… И эти отвратительные упражнения и опыты над девственной природой были, одновременно, ужасным убийством и омерзительным насилием.
В то время, как я предавался этому вполне законному припадку ярости, раздался шум – я услышал стук.
Я убежден, что после моей смерти, в аду мне не придумают большего мучения, как этот пустячный шум, как будто от ударов маленьким молотком по чему-то твердому.
В течение секунды я испытывал такое ощущение, точно все мои нервы обнажились. Кто-то стучал!
Одним прыжком я очутился в круглом здании; лицо мое было, должно быть, ужасно, потому что инстинктивно, из боязни встретиться с врагом, я придал ему ужасное выражение.
На пороге никого. В парке – тоже. Я вернулся обратно.
Шум возобновился… Он доносился из неисследованного еще крыла здания… Потеряв голову, я бросился туда, не отдавая себе отчета в безрассудстве своего поступка, рискуя столкнуться лицом к лицу с опасностью; я был до того возбужден, что стукнулся головой о дверь, открывая ее с разбега.
До этого припадка довело меня состояние моих нервов и безумная усталость; и до сегодняшнего дня я не могу решить вопроса, не галлюцинировал ли я и не казались ли мне предметы более странными, чем они были на самом деле.
В третьем зале царил яркий свет, и, благодаря этому, мои подозрения о присутствии постороннего человека рассеялись. На конторке я увидел клетку, которая вертелась во все стороны из-за отчаянно метавшейся в ней крысы. Когда крыса подпрыгивала, вместе с ней подпрыгивала и западня – вот причина стука. Увидев меня, грызун остановился. Я не обратил внимания на это обстоятельство.
В этом зале было меньше порядка, чем в предыдущих – она производила впечатление теплицы, за которой не особенно тщательно ухаживали. Но разбросанные в беспорядке, перепачканные полотенца, невытертые ланцеты, не опорожненные пробирки, все это указывало на неоконченную работу, которая была временно приостановлена, и могло служить оправданием того, что эта комната производила впечатление меньшего порядка.
Я продолжал свое следствие.
Первые два свидетеля, попавшиеся мне на глаза, дали мне немного материала. Это оказались два скромных растения, мирно стоявшие в своих фаянсовых горшках. Я позабыл их латинские названия, оканчивавшиеся на um, или на us, о чем я теперь очень жалею, потому что указание на эти названия придало бы моему ратеказу больше авторитетности и научности. Но кому могло бы придти в голову запоминать латинские названия шильника или кроличьего уха?








