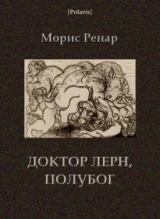
Текст книги "Доктор Лерн, полубог"
Автор книги: Морис Ренар
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
ОПЫТЫ?.. ГАЛЛЮЦИНАЦИИ?.
Мы находились все втроем – Эмма, Лерн и я – в маленьком зале, когда с профессором случился припадок головокружения.
Это был уже не первый; с некоторого времени я заметил, что в здоровье моего дяди происходит что-то неладное. Но до сих пор все его недомогания носили туманный характер – это был первый, ясно выраженный, характерный случай, так что я мог наблюдать все детали его и странные обстоятельства, которыми припадок сопровождался. Вот почему я буду говорить, главным образом, об этом. Всякий, не знающий о том, что тут происходило, объяснил бы этот припадок мозговым переутомлением. Да и на самом деле, дядюшка работал поразительно много. Он уже не довольствовался оранжереей, лабораторией и замком: он присоединил к ним весь парк. Теперь весь Фонваль ощетинился странными шестами, невиданными мачтами, необыкновенными семафорами; и когда оказалось, что некоторые деревья мешают производству опытов, была вызвана армия дровосеков, чтобы вырубить их. Радость, которую я испытал, увидев, что люди получили право свободного доступа в это имение, утешила меня в горе, причиненном мне этой святотатственной вырубкой. Весь Фонваль превратился в огромную лабораторию, и целый день можно было видеть, как дядюшка лихорадочно носится от одного здания к другому, от одной мачты к другой в поисках способа уничтожить фатальный отросток. Но по временам у него случались минуты слабости под влиянием припадков, о которых я начал говорить. Обыкновенно, это происходило в то время, как, погруженный в глубокую задумчивость, он начинал пристально вглядываться в какой-нибудь предмет; вот тут-то, в полном разгаре его мозговой деятельности, он вдруг начинал бледнеть, чувствуя приближение припадка. Он становился все бледнее и бледнее… пока цвет лица сам собою постепенно не становился нормальным. После припадков он становился вялым и бессильным. Он терял после них мужество, и я слышал, как после одного из них он бормотал унылым тоном: «Я никогда не добьюсь этого… никогда». Часто мне хотелось заговорить с ним по этому поводу. На этот раз я решился.
Мы пили кофе. Лерн сидел в кресле напротив окна и держал в руках чашку. Говорили о том, о сем, причем слова раздавались все реже и реже. За отсутствием интересной темы, разговор угасал; мало-помалу он совсем прекратился, как гаснет огонь за отсутствием топлива в печке.
Пробили часы, за окном прошли дровосеки, направляясь на работу, с топорами на плечах. Они заставили меня подумать о ликторах в рубищах, которые направлялись чинить пытки деревьям.
Который из моих старых приятелей погибнет сегодня? Этот бук? Или вот то каштановое дерево?.. Сквозь окно я видел, как их темнеющая листва выделялась на общем фоне пожелтевшего леса. Только сосны чернели. В воздухе кружились и падали желтые листья, хотя не было даже ветерка. Колоссальный тополь выделялся своею седою головой над лиственным уровнем остальных деревьев. Я давно помнил его все таким же монументальным и, глядя на него, вспоминал свое детство…
Вдруг на нем началась птичья паника; две вороны улетели с него, каркая; белка, прыгая с ветки на ветку, перепрыгнула с него на соседнее ореховое дерево. Должно быть, на дерево влезло какое-нибудь вонючее животное и перепугало их. Я не мог его разглядеть, потому что густые кустарники закрывали от меня низ дерева. Но я испытал тяжелое чувство, когда увидал, как оно задрожало сверху до низу, покачнулось и медленно закачало своими ветвями. Получалось такое впечатление, точно задул ветер, но только для него одного.
Моя мысль вернулась к дровосекам, но без определенной связи с этими явлениями. «Неужели дядя приказал им, – подумал я, – срубить этот тополь, который является почтенным патриархом этого леса, царем Фонваля? Это было бы досадно и несправедливо». Подумав это, я повернулся к Лерну, чтобы навести у него справки, и тут-то я и заметил, что с ним повторился его обычный припадок.
Я заметил его неподвижность, бледность, напряженность взгляда, словом, все отличительные признаки припадка; кроме того, мне удалось определить, куда направлен с такой настойчивостью его взгляд человека, находящегося в сомнамбулическом сне. Он, оказывается, смотрел на тополь, движения которого были так страшны, что до ужаса напоминали любовные воинственные пожатия пальмовых листьев в оранжерее… Я вспомнил о записной книжечке. Не существовало ли какой-нибудь скрытой связи между с л а б о с т ь ю этого человека и о ж и в л е н и е м этого дерева…
Вдруг раздался глухой звук удара топора о ствол дерева. Тополь содрогнулся, задрожал… дядя привскочил на месте: выпавшая из его рук чашка разбилась вдребезги, упав на пол, а он, в то время, как кровь медленно приливала к его бледным щекам, схватился за ногу, точно топор дровосека ударил одновременно и дерево, и человека.
Лерн мало-помалу приходил в себя. Я сделал вид, что ничего не заметил, кроме обморочного состояния, и сказал ему, что ему следовало бы полечиться, так как эти часто повторяющиеся обмороки могут довести человека до могилы. «Знает ли он хотя бы, чем они вызваны?»
Дядя сделал головой знак, что – да. Эмма подбежала к креслу и засуетилась вокруг дяди.
– Я знаю, в чем дело, – удалось ему, наконец, выговорить, – сердцебиение… обмороки… на сердечной почве… я лечусь…
Но это была неправда. Профессор вовсе не лечился. Он сжигал свою жизнь, гоняясь за химерой, заботясь о своем теле не больше, как о старой рухляди, которую надо выбросить, как только она отслужит свою службу.
Эмма посоветовала ему:
– Что если бы вам прогуляться? На свежем воздухе вам будет лучше.
Он поднялся с места и вышел в парк. Мы видели, как он пошел по направлению к тополю с трубкой в зубах. Удары топора все учащались. Дерево склонилось, упало… Звук от падения напомнил землетрясение. Ветви задели дядю по лицу – он не сдвинулся с места.
Лишившись этого гиганта, Фонваль теперь казался еще более плоским, и я тщетно старался восстановить в своем воображении место уже позабытое, которое занимал в парке тополь и его вышину, уже казавшуюся легендарной. Лерн вернулся. Он даже не отдавал себе отчета, что подвергался опасности. Становилось жутко на душе при мысли, что он мог быть таким же рассеянным при своих рискованных опытах, например, при перемещениях душ, о которых упоминалось в книжечке…
Присутствовал я при одном из этих опытов. Я думал об этом с жутким чувством, с тем странным ощущением, которое я столько раз испытывал в Фонвале, с чувством человека, бродящего в абсолютной темноте ощупью. Случайно ли совпал обморок Лерна с волнением дерева? Или же между ним существовала какая-нибудь связь в момент удара топором по дереву?.. Конечно, достаточно было приближения дровосеков к тополю, чтобы обеспокоенные птицы улетели… И колыхание листьев легко было объяснить тем, что кто-то влез на дерево, чтобы привязать традиционную веревку…
Еще лишний раз я стоял на перекрестке всевозможных решений, интересовавших меня вопросов. Но мой мозг утратил свойственную ему проницательность: притупляющее действие цирцейских операций еще не прошло, а усиленный режим страстной любви, которым меня окружила Эмма с молчаливого благоволения дяди, тоже не имел в себе ничего, восстанавливающего силы.
А так как разврат был для меня всегда притягательной силой, то я так же не мог обходиться без Эммы, как ку-рильшик опиума без своей трубки или морфиноман без своего шприца. (Да простит мне глупенькая очарователь-ница это сравнение хотя бы из-за его верности!). Я осмелел настолько, что сплошь и рядом проводил ночи в комнате моей дарительницы восторгов, рядом с комнатой Лер-на. Как-то вечером он накрыл нас в ней и воспользовался этим случаем, чтобы назавтра повторить нам условия нашего контракта: «Полная свобода любить друг друга, но с непременным условием не избегать и не покидать меня. В противном случае, вы ничего не получите от меня». Говоря это, он обращался, главным образом, к Эмме, так как знал, как неотразимо действует на нее это обещание.
Я до сих пор удивляюсь и не могу понять, как я, по доброй воле, согласился на такое позорное предложение. Но женщина сильнее самого искусного заклинателя: выразительный взгляд любимых очей, непередаваемое грациозное движение тела – и вся ваша жизнь идет шиворот-навыворот; мы совершенно меняемся скорее и полнее, чем от прикосновения волшебной палочки или скальпеля хирурга. Что такое Лерн в сравнении с Эммою?..
Эмма… Я проводил с ней все ночи, несмотря на близость Лерна. Он помещался тут же, за перегородкой; он мог нас слышать, мог подглядывать за нами в замочную скважину… Да простит мне Бог, но должен сознаться, что находил в этой мысли какое-то возбуждающее средство, какое-то пикантное, порочное побуждение для продолжения наших оргий.
А между тем, и без этого какое блаженство… И с каждой ночью я все сильнее увлекался…
Простосердечная и непосредственная натура, изобрета-тельнейшая любовница, Эмма обладала даром удивительно разнообразить древний, как мир, акт любви, который неизменен в своей основе, но обряды которого тоже не менее разнообразны, чем мир. Она умела любить по-разному, не прибегая к этим занумерованным, упоминаемым во всех каталогах легкомысленных писателей XVIII века позам, к слову сказать, очень скучным, а благодаря каким-то оригинальным, трудно определяемым и очаровательным свойствам своей натуры. Она была многообразна в любви, развратна инстинктивно, моментально превращаясь из тиранической повелительницы в легкую податливую добычу. Правда, что ее тело легко поддавалось всем ее лукавым и забавным выдумкам. Так как, сплошь и рядом, поза и жесты необузданной куртизанки, благодаря какому-то непроизвольному целомудренному движению, или благодаря внезапно наступившей неподвижности, напоминали до полного обмана движения очень молодой девушки. Ах! Это тело обезумевшей девственницы, производившее такое странное впечатление недозрелости…
Мне кажется, что я достаточно подробно описал наше времяпрепровождение, чтобы понятно было, насколько оно мне было дорого – и что если я вынужден был решиться прекратить его, то причина для этого должна была быть необычайно серьезна.
Причину эту я нашел в следующем приключении, которое я объяснил бы, вероятно, состоянием своей нервной системы после операции, если бы я заблаговременно не познакомился с содержанием дядиной записной книжечки. Весьма вероятно, что я приписал бы его «патологическому последствию операции», и Лерну удалось бы насмеяться надо мной до конца. К счастью, я разгадал его тактику с первого момента нападения.
Как-то вечером, когда я, по установившейся привычке, проходил по комнатам первого этажа, чтобы пройти через свою комнату в комнату Эммы, я услышал, как в дядиной комнате, находящейся над столовой, передвигают кресло. В этот поздний час он, обыкновенно, не передвигался больше; эта мелкая подробность не произвела на меня никакого впечатления. Я продолжал свой путь, не стараясь заглушать свои шаги, так как я шел не на тайное, а на разрешенное свидание.
Эмма завивала на ночь свой последний локон. К очаровательному обычному аромату этой комнаты примешивался запах слегка пригорелой бумаги, на которой пробовали, не слишком ли сильно нагрелись щипцы; мне кажется, что это символ примеси запаха диавола к аромату женского тела.
Рядом все стихло. Для вящей предосторожности, я запер комнату на задвижку с той стороны, где находилась комната Лерна. Нам нечего было, таким образом, бояться неожиданного появления дяди, конечно, не представлявшего опасности, но все же несвоевременного. Сквозь скважину было видно, что в соседней комнате не было света. Ни разу я еще не предпринимал таких мер предосторожности.
Вся дрожа, окутанная легким кружевом и шелком, Эмма повлекла меня к кровати.
Две яркие лампы горели на камине, потому что восхитительное зрелище взаимного восторга не заслуживает презрения; и надо быть благодарным природе, которая хочет, чтобы каждое из наших чувств получало свою дозу радости при этом наслаждении, и только в этом случае она наградила нас шестью чувствами.
Эмма действовала на них постепенно. Мое счастье зажигалось о ее восторги и оживало от прикосновения к яркому пламени ее чувства. При ней божественная комедия замыкалась в полный круг. Все там было: пролог, неожиданные перемены, ловкие проделки, развязка. И все это происходило, как происходит в великолепных пьесах: совершались именно те события, которых ждешь, но всегда совершенно неожиданно.
Сначала Эмма хотела, чтобы ее ласкали…
Потом, находя, что предварительные испытания достаточно долго продолжались, она приняла позу героини и решила в этот вечер, как и в многие предыдущие, проскакать фантастический свадебный галоп.
Но, как раз в то время, когда она, как опытная Валькирия, мчалась к бездне удовлетворения, произошла эта страшная, удивительная вещь.
Вместо того, чтобы подниматься по сладострастной тропинке наслаждения к пароксизму страсти, мне показалось, что я испытываю противоположное чувство, испытывая все меньше и меньше удовольствия, переходя постепенно к безразличию. Я продолжал чувствовать себя бодрым, все возрастающая страсть жгла мою кровь, но чем больше увлекалось мое тело, тем меньше я испытывал удовольствия… Этот печальный результат взволновал меня. Но вот и это волнение улеглось… Я хотел усмирить свое расходившееся тело, но куда там – моя воля ослабевала с каждой минутой. Я чувствовал, как мой мозг сжимается и точно садится; и моя душа, сделавшаяся совсем маленькой, потеряла способность управлять моим телом и воспринимать его ощущения. Едва-едва мне удавалось отдавать себе отчет в поступках моего тела и заметить, что оно проявляет совершенно исключительную энергию, чем Эмма, по-видимому, была очень довольна.
Надеясь остановить действие этого странного явления, я старался усилить свою волю, но тщетно. Казалось, что чья-то чужая душа захватила место моей и, управляя по своему усмотрению мной, впитывает в себя наслаждение от моей нечистой радости при помощи моих нервов.
Эта душа загнала мое «я» в уголок моего мозга; какой-то самозванец обманывал меня с моей любовницей, тоже введенной в заблуждение, при помощи какого-то гнусного приема…
Эти микроскопические мыслишки волновали мою душу – душу карлика. Душа эта сделалась до того незначительной к моменту апофеоза, что я испугался, как бы она совсем не покинула меня.
Потом она стала расти, увеличиваться в объеме и постепенно заняла целиком принадлежащее ей место. Мои мысли прояснились. Я испытывал сильное утомление – арье-гард Эроса – и судорогу в правой ноге. Мое плечо онемело от прикосновения, превратившегося в чувство тяжести: на нем лежала голова Эммы и неизбежный у нее обморок не дал ей времени и возможности опустить голову на подушку.
Я продолжал вступать в свои права. Но это продолжалось довольно долго. Мои глаза еще ни разу не мигнули: они были направлены в определенное место, и я заметил теперь, что в продолжение этого необыкновенного времени чьи-то глаза, не отрываясь, смотрели в замочную скважину из комнаты Лерна. Даже и сейчас они не могли оторваться от нее…
Я освободился от объятий ненужной и бесполезной теперь возлюбленной… У самой двери, по ту сторону ее, послышался легкий шум, точно кто-то встал со стула и отходил от нее на цыпочках… Замочная скважина производила на меня впечатление маленького темного окна, выходящего в тайну…
Эмма вздохнула:
– Ты никогда еще не доставлял мне столько радости, Николай, за исключением одного раза… Послушай… прошу тебя…
Я убежал, не отвечая.
Теперь мне все сделалось ясным. Разве профессор не сознался мне: «Я думал было перевоплотиться в твою внешность, чтобы быть любимым под видом тебя». Его старание спасти мое истерзанное тело, метод. изложенный в записной книжке, история с тополем, – все это, приведенное в связь между собой, стало его религией. Так называемые обмороки становились подозрительно похожими на опыты, во время которых Лерн, при помощи чего-то вроде гипнотизма, переносился душой в заранее назначенные места. Приложив глаз к замочной скважине, он перелил свое «я» в мой мозг, пользуясь своим несовершенным еще открытием, чтобы устраивать самые невероятные перевоплощения… Мне скажут, что характер невероятности моего рассуждения должен был бы заставить меня усомниться в его ценности; но в Фонвале несвязность была возведена в закон, всякое объяснение имело тем больше шансов быть правильным, чем абсурднее оно казалось на первый взгляд.
Ах, эта мысль о глазах Лерна у замочной скважины! Они, эти глаза, преследовали меня и казались мне всемогущими, как глаза Иеговы, преследовавшие с высоты небес грешного Каина…
Хотя сейчас я и шучу над этим, но тогда мне было совсем не до шуток, так как новая опасность была для меня ясна, и я думал только о том, как избежать ее. После довольно долгих размышлений, я остановился на единственном разумном плане, который я, собственно говоря, давным-давно должен был бы привести в исполнение: на отъезде. Конечно, совместном с Эммой, потому что теперь я ни за что на свете не оставил бы ее дяде: приобретя снова вид человека, я вместе с тем приобрел и его способность к увлечению.
Но Эмма не принадлежала к числу тех натур, которых можно похищать против их воли. Согласится ли она бросить одним ударом Лерна и обещанные им богатства? Конечно, нет. Бедная девушка недаром мирилась с тою жизнью, на которую ее обрек в течении стольких лет Лерн; она думала только о будущем великолепии; она была неумна и жадна. Чтобы уговорить ее уйти со мной, надо было убедить ее, что она при этом ни сантима не потеряет… И только Лерн мог убедить ее в этом.
Значит, надо было добиться во что бы то ни стало согласия профессора.
…Конечно, речь могла идти только о насильно вырванном согласии, но я надеялся, что мне великолепно удастся запугать его. Я искусно намекну на убийство Мак-Белля и Клоца; дядя перепугается и поговорит с Эммой в нужном мне смысле, и я увезу с собой свою подругу… заранее идя на то, что Николай Вермон лишится наследства, вероятно, сильно затронутого, а м-ль Бурдише – роскоши, впрочем, очень сомнительной.
Скоро я разработал свой план действий во всех подробностях.
СМЕРТЬ И МАСКА
Но привести его в исполнение мне так и не пришлось.
Не потому, что я поколебался приступить к его исполнению. Мое решение было непоколебимо; и, если у меня и явилось опасение угрожавшей мне опасности при выполнении его, то эти мысли пришли мне в голову тогда, когда весь план был неисполним. Покуда этого обстоятельства еще не было, я с нетерпением искал случая сделать так, как решил и даже, должен сознаться в этом, я очень настойчиво искал этого случая и спешил покончить с этим делом, так как мое чувство страха все росло.
Моему перепуганному воображению повсюду мерещилась опасность, причем она казалась мне тем коварнее и таинственнее, чем незаметнее она была на первый взгляд. Эмма проводила ночи в моей комнате. Замочные скважины, просветы у дверей, все отверстия, сквозь которые мог бы проникнуть глаз опасного подглядчика, были тщательно заделаны мною. Несмотря на то, что я должен был бы чувствовать себя здесь в полной безопасности, Эмма жаловалась на мою холодность, – до того я был весь занят одной мыслью. Как-то раз, когда я заставил себя не думать о Лерне, ее странный обморок произошел раньше обыкновенного; теперь я объясняю себе это предшествующим периодом воздержания, но тогда я предположил возможность нового несчастья: не перевоплотил ли Лерн свою душу в Эмму… И ужас, и отвращение, охватившие меня при мысли, что я пошел навстречу отвратительным наклонностям старого Лерна, обнимая свою подругу, заставили меня окончательно отказаться от них. Я не рисковал больше глядеть дяде прямо в глаза. Я бродил, опустив голову, избегая взгляда всех встречных, даже глаз портретов, которые следуют за вами, когда вы проходите мимо них. Всякий пустяк приводил меня в содрогание. Я пугался всего: белоголовой птицы, колыхавшейся от дуновения ветерка травки, пения птиц в густой листве деревьев…
Вы сами видите, что нельзя было медлить с отъездом, и я стремился к этому всеми силами души. Но я решил выбрать такой момент для беседы с Лерном, когда он должен был бы согласиться на мое предложение, для того, чтобы прибегнуть к угрозе только в крайнем случае. А момент этот все не приходил. Он все еще не мог добиться того открытия, которого жаждал. Незадача изводила его. Его обмороки – или, вернее, его опыты – все увеличивались в количестве и ослабляли его организм. И в зависимости от этого портилось его настроение.
Только наши прогулки сохранили еще способность восстанавливать его душевное спокойствие, и то более или менее; он еще продолжал мурлыкать свое «рум фил дум», останавливаясь каждые десять шагов, чтобы произнести какой-нибудь научный афоризм. Но все же по-прежнему больше всего приводил его в восхищение автомобиль.
По-видимому, несмотря на печальный результат, которого я добился при аналогичных условиях несколько месяцев тому назад, приходилось решиться поговорить с ним во время поездки на автомобиле.
Я так и поступил бы, не произойди несчастье.
Это произошло в Луркском лесу за три километра от Грея, когда мы возвращались в Фонваль из поездки в Ву-зье.
Мы полным ходом поднимались в гору. Управлял дядя. Я повторял про себя то, что собирался сказать, в сотый раз проверял точность своих выражений и смысл заранее подготовленных длинных фраз и чувствовал сухость во рту от страха за результат своей речи. С самого отъезда, я с минуты на минуту откладывал это объяснение в поисках твердого и решительного тона, которым мог бы запугать тирана. У каждой деревушки, у каждого поворота дороги я говорил себе: «Вот где ты заговоришь». Но мы пронеслись мимо всех встречных деревень, обогнули все повороты, а я все еще не произнес ни одного слова. В моем распоряжении оставалось всего около десяти минут. Ну же, смелее!.. Я решил, – начну атаку, когда мы въедем на эту гору. Это последняя отсрочка…
Моя первая фраза стояла наготове и ждала, чтобы я ее произнес, как актер, стоящий у выхода на сцене и ждущий, чтобы его выпустили, как вдруг автомобиль резко повернул направо, потом свернул налево и приподнялся на своих боковых колесах… Мы сейчас опрокинемся… Я схватился за рулевое колесо и пустил в ход все тормоза – ручные и ножные, какие только мог достать… Автомобиль мало-помалу перестал прыгать из стороны в сторону, замедлил свой ход и остановился как раз вовремя.
Тогда я взглянул на Лерна.
Он почти выскользнул из своего сиденья, голова его свисала на грудь, выражения глаз за очками нельзя было разглядеть; одна рука беспомощно болталась… Обморок… Ну, можно сказать, что нам повезло… Но в таком случае, значит, эти обмороки были настоящими – до потери сознания включительно. Чего я только не придумаю со своей дуростью…
А дядя, между тем, все не приходил в себя. Сняв с него автомобильную фуражку с очками, я заметил, что его лицо приобрело восковую бледность; руки, с которых я снял перчатки, имели тот же оттенок. Полный невежда в медицине, я стал похлопывать по ним: я видел, что так делают на сцене, когда хотят привести в себя упавшую в обморок.
В тиши полей раздался звук аплодисментов. Ими приветствовали выход великого актера.
Действительно, Фредерик Лерн перестал существовать. Я понял это по его холодеющим пальцам, по синеющим щекам, по потускневшему взгляду его глаз, наконец, по переставшему биться сердцу. Болезнь сердца, в существование которой я отказывался верить, привела его к смерти, как всегда бывает при этих болезнях – внезапной.
Удивление, а также и возбуждение от сознания неминуемой гибели, от которой мне удалось спастись, огорошили меня… Итак, в одну секунду от Лерна осталась только пища для червей, да имя, которое скоро всеми будет забыто, словом – ничто. Несмотря на мою ненависть к этому зловредному человеку и радость от сознания, что теперь он больше не опасен мне, быстрота и неожиданность перехода от жизни к смерти, уничтожившей одним дуновением этот чудовищно гениальный мозг, приводила меня в ужас.
Как марионетка, брошенная рукой, которая приводила ее в движение и симулировала в ней жизнь, как картонный паяц, висящий на краю игрушечной сцены, Лерн лежал, откинувшись всем телом; а смерть еще сильнее напудрила его маску умершего Пьеро.
Но в то время, как покинувший тело моего дяди гений удалялся в неизвестность, лицо его, как мне показалось, хорошело. Мы до того привыкли к выражению, что душа украшает тело, что я удивлялся тому, как украшало лицо дяди отсутствие души. Внимательно всматриваясь в лицо Лерна, я увидел, как это явление все прогрессирует. Глубокая тайна озаряла его вполне спокойное чело, точно жизнь на нем была тучей, скрывшей какое-то неизвестное нам солнце. Лицо постепенно приобретало оттенок белого мрамора, и манекен превращался в статую.
Слезы затуманили мой взор. Я снял фуражку. Если бы мой дядя погиб пятнадцать лет тому назад в полном расцвете счастья и таланта, то останки тогдашнего Лерна не были бы прекраснее…
Но я не мог оставаться дольше на большой дороге наедине с мертвецом. Я без особенного удовольствия обнял его, пересадил налево от себя и крепко привязал багажными ремнями к сиденью. Когда я одел ему на голову фуражку с очками, натянул на руки перчатки, он производил впечатление уснувшего путника.
Мы тронулись в путь, сидя рядом друг с другом.
В Грее никто не обратил внимания на напряженную позу моего спутника, и мне удалось спокойно довезти его в Фонваль. Я был полон преклонения перед гениальностью усопшего ученого и жалости перед влюбленным стариком, который перенес столько страданий. Я забыл о нанесенных мне оскорблениях, сидя рядом с умершим оскорбителем. Я испытывал чувство глубокого уважения и, не знаю, сознаваться ли в этом, непреодолимого отвращения, под впечатлением которого старался отодвинуться от него, насколько мог, дальше.
Со времени моей встречи с немцами в лабиринте, в утро моего приезда в Фонваль, я ни разу не обращался к ним с какими-либо словами. Я пошел за ними в лабораторию, оставив автомобиль с его трупом-шофером у главного входа в замок.
По моей оживленной жестикуляции, помощники тотчас же догадались, что произошло что-то необыкновенное, и пошли за мной. У них было выражение лиц субъектов, знающих за собой что-то скверное и предвидящих возможность несчастья во всякой неожиданности. Когда трое сообщников убедились в том ударе, который их поразил, они не могли скрыть ни своего разочарования, ни своего ужаса. Они завели громкий оживленный разговор. Иоанн говорил высокомерным тоном, оба остальные – рабски-почтительным. Я спокойно ждал, пока им будет угодно обратиться ко мне.
Наконец, они кончили и помогли мне внести профессора в его комнату и уложить его на кровать. Эмма, увидев нас, убежала с громким криком. Так как немцы, не сказав ни слова, ушли, мы с Варварой остались одни у трупа. Толстая горничная пролила несколько слез; я думаю, что она сделала это не столько из огорчения по поводу смерти ее хозяина, сколько из присущего всем людям чувства уважения перед смертью вообще. Она смотрела на него с высоты своего громадного роста. Лерн менялся на вид: нос вытянулся, ногти посинели.
Долгое молчание.
– Нужно было бы убрать его, – прервал я вдруг молчание.
– Предоставьте эту обязанность мне, – ответила Варвара, – она не из веселых, но мне не в первый раз придется заняться этим делом.
Я повернулся спиной, чтобы не смотреть, как делают туалет мертвеца. Варвара была в этом отношении похожа на всех деревенских кумушек: при случае, она могла быть и повивальной бабкой, и уборщицей мертвецов. Немного спустя, она заявила:
– Все сделано, и хорошо сделано. Все на месте, за исключением святой воды и орденов, которых я не могу найти…
Лерн лежал на своей белоснежной кровати до того бледный, что казалось, точно это был надгробный памятник, причем ложе и лежавшее на нем изображение были точно высечены из одного куска мрамора. Дядя был тщательно причесан, одет в белую рубашку со складками и белый галстук. В пальцы бледных, положенных крест-накрест рук были положены четки. На груди лежал крест. Колени и ноги выделялись под простыней, как две острых, белоснежных тропинки… На столе стояла тарелка, без воды, с лежащей в ней веткой сухого дерева, а сзади горели две свечи; Варвара устроила из стола нечто вроде маленького алтаря, и я упрекнул ее в непоследовательности. Она возразила, что таков был обычай у них, и, уклонившись от спора, закрыла портьеры. На лицо мертвеца легли мрачные тени – предвестницы тех морщин, которые выроет на нем всемогущая смерть.
– Откройте настежь, – сказал я. – Дайте войти в комнату солнцу, пению птиц и аромату цветов…
Служанка повиновалась, ворча, что «все это противоречит обычаю», потом, получив от меня инструкции для принятия необходимых мер, она, по моей просьбе, покинула меня.
Сквозь открытое окно в комнату проникал запах осенних листьев. Он бесконечно грустен. Он напоминает похоронный гимн… Пронеслись, каркая, вороны, и их полет вызвал в моем мозгу картину полета смерти с косой… Приближение вечера сменяло яркость дня…
Чтобы не смотреть на кровать, я принялся за осмотр комнаты. Над старинным бюро улыбался портрет тети Ли-дивины, писанный пастелью. Совершенно напрасно художники пишут портреты с улыбками: этим портретам часто приходится присутствовать при таких вещах, при которых вовсе не до смеха; например, портрету тети Лидивины пришлось лицезреть связь своего супруга с какой-то женщиной, а теперь улыбаться его трупу… Портрет был написан лет двадцать тому назад, но, благодаря нежным тонам пастельных красок, выглядел гораздо более старым. С каждым днем он все больше выцветал и казался все старше, так что значительно удалял в даль времен мою тетю и мою молодость. Он мне разонравился.
Я постарался отвлечь свое внимание в другую сторону, на появление первых летучих мышей, на наступление сумерек, на танцующие тени, которые отбрасывали колеблемые ветерком свечи…
Поднявшийся вдруг ветер привлек мое внимание на несколько минут; он завывал в густой листве деревьев и, прислушиваясь к его вою, казалось, что слышишь полет времени. Сильным порывом ветра задуло одну свечу, пламя другой заколебалось – я поспешным движением закрыл окно: меня вовсе не соблазняла мысль остаться в потемках.
И внезапно я сделался искренним с самим собой и бросил попытки надуть самого себя: – я чувствовал настоятельную потребность смотреть на мертвеца, убедиться в том, что он не может больше вредить мне.
Тогда я зажег лампу и поставил ее так, чтобы она ярко осветила Лерна.








