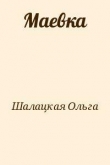Текст книги "Необычайные рассказы"
Автор книги: Морис Ренар
Жанр:
Прочая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Я не смел отказаться; но на мой взгляд, Орм слишком часто служил ареной для всякого рода ненормальных явлений. Тут не было покоя, необходимого для хорошего пищеварения – и я охотно покинул бы эту местность. Я воздерживался только из вежливости.
– Хорошо, – сказал я, – будем выслеживать саранчу.
– Бедные листья, – заметил Гамбертен, – беззащитные листья…
– Неужели вы хотели бы, – сказал я, улыбаясь, – чтобы они были вооружены с ног до головы.
– Есть и такие, мой друг, – их ворсинки ощетиниваются, и когда безрассудное насекомое садится на них, ворсинки захватывают его и лист съедает насекомое.
– Не может быть!
– Это тоже остаток опыта природы; но, попробовав произвести такое растение, природа пришла к заключению, что опыт неудачен и не продолжала его.
– Как, существует плотоядное растение?
– Помните, Дюпон, что все органические вещества и существа происходят от одной и той же первичной материи; все, и вы, и я, и этот кусочек мха – все происходит от одного и того же. Сейчас вы отличаетесь от них колоссальным различием, но это различие соизмеримо,а ваши предполагаемые предки, при условии, что они были современниками, тем меньше отличались друг от друга, чем ближе были по времени к нашему общему первичному предку…
– Да, студень, желе, сироп, – сказал я с отвращением…
– Ну да – протоплазма.
Я собирался высказать некоторые соображения, когда нас перебил прибежавший Фома. Его голос дрожал.
– Сударь, старая цистерна, что на ферме, пуста. Я хотел набрать там только что воды, потому что в моем колодце сегодня нет воды. И вдруг… там тоже ни капли…
– Ну что же… это от жары…
– Сударь, на прошлой неделе цистерна была полна до краев. Никакая жара не в состоянии осушить такой глубокий водоем в неделю. Тем более, что с двенадцати часов она в тени.
Я попытался пошутить и сказал не особенно убедительным тоном:
– Может быть, это тоже саранча…
Гамбертен пожал плечами:
– Говорю вам, что это от жары.
Затем он вернулся домой.
И действительно, цистерна превратилась в прямоугольную яму, увешанную мокрыми водорослями. На дне, в грязноватой луже, прыгали лягушки.
Я было тоже направился домой, как вдруг ржанье привлекло мое внимание в сторону конюшни. Несчастная Жаба не выходила больше оттуда с тех пор, как раскопки были прекращены. Я пошел погладить ее. Она была совершенно взмылена, как лошадь, только что вернувшаяся после долгого пути, так что я сильно заподозрил Фому в том, что он плохо ходит за лошадью.
Я совершенно откровенно заявил об этом конюху.
– Сударь, – ответил он мне, – я давно уже не запрягал Жабу, а уход за ней лучше, чем за новорожденным ребенком. Если она тоща, то это происходит потому, что пища ей не впрок, а получает она полную меру, поверьте мне. Но представьте себе – может быть, и тут виновата жара – что с некоторого времени я всегда застаю ее в таком же виде всякий раз, как прихожу по утрам засыпать ей корм.
– Когда мы ездили в пещеру, – возразил я, – нам приходилось отправляться в путь довольно рано, а между тем на лошади не было ни одного мокрого волоска, несмотря на жару…
– Конечно нет! Это началось дней восемь тому назад…
– Восемь дней, – вскрикнул я. – Да что же здесь такое происходит за последнюю неделю?..
Приходилось мне в жизни присутствовать при отвратительных зрелищах. Но я не помню случая, чтобы ужас охватил меня с такой силой, как тогда.
Тут что-то крылось. Это уже было не только предположением. Совпадение сроков связывало события, по-видимому, не связанные друг с другом ничем, кроме какой-то внутренней цепи: странности. Все это должно было быть следствием одной и той же причины. Но какой? И могла ли эта причина быть не необыкновенной?
Господи Боже мой, в чем тут было дело?
Я вспомнил о саранче. Нужно было во что бы то ни стало выследить ее тайную работу.
День тянулся очень медленно. Меня охватило странное волнение, и я не мог оставаться подле Гамбертена. Я лихорадочно бегал по всему замку и вымышлял самые невероятные гипотезы. Всякий, кто когда-либо ждал ответа на вопрос чрезвычайной важности, поймет мое душевное состояние. Я убежден, что если бы нам грозило немедленное и тайное осуждение, я не волновался бы сильнее.
Обед прошел в молчании. Гамбертену не удалось вывести меня из моей озабоченной молчаливости. Я всей душой призывал ночь, надеясь, что она принесет с собой разгадку тайны.
Мы просидели не больше десяти минут за столом.
В этот момент отдаленный шум заставил меня насторожить уши. Гамбертен взглянул на меня.
Шум повторился. Он напоминал отвратительный скрип вагонных колес, которые внезапно затормозили.
– Вы очень бледны, Дюпон! Не больны ли вы?
– Этот… шум… Что это такое?.. Разве отсюда слышно, как проходят поезда?
– О, да успокойтесь же, Дюпон! У вас нервы молоденькой новобрачной. Возможно, да и очень может быть, что ветер дует со стороны станции… Свисток паровоза?..
– Да нет же – это не свисток!
– Да почем я знаю, наконец! На равнине постоянно занимаются разными работами, более или менее шумными…
– Звук доносится со стороны гор – я убежден в этом. Можно было бы допустить, что это эхо поезда, но…
– Знаете, что я вам скажу – вы трус! Выпейте бокал вина и замолчите!
На этом наш разговор и кончился.
Три часа спустя наступила долгожданная ночь. Мы притаились в кустах, неподалеку от нетронутых еще деревьев.
Было так жарко, что казалось, будто находишься в огненной печи.
Мы не спускали глаз с неба, поджидая появления саранчи. Звезды сияли на славу.
Мы разговаривали шепотом. Гамбертен рассказал мне, что жаркая погода продолжает свое опустошительное действие: пропало еще несколько свиней. Солнце ли повлияло на их мозг, лес ли разбудил в них жажду к бродячей жизни – неизвестно; но в хлев они не вернулись. Кроме того, начинался неурожай и зимой неизбежно предстоял голод.
Несмотря на разговор, мы чувствовали, как нас мало-помалу охватывало оцепенение жаркой летней ночи. Саранча не показывалась, но звезды нас гипнотизировали.
Подкрепленный повторными отхлебываниями коньяку, я отдался во власть экстазу этого часа:
– Какое очарованье, Гамбертен!
Он, предвидя восторженную тираду, высмеял меня.
– Да, да, смейтесь, пожалуйста, – сказал я ему. – Дело в том, видите ли вы, что я глубоко люблю природу, точно мне угрожает возможность никогда не видеть ее больше, как выздоравливающий любит жизнь…
Треск ветвей сзади нас перебил меня. Мы вскочили на ноги, но наши глаза, ослепленные блеском звезд, не могли ничего различить в густой тени леса. Треск сучьев раздавался все дальше от нас… и прекратился.
– Черт возьми! – закричал Гамбертен. – Да держитесь же бодрее, Дюпон, что за мальчишество! Я слышу, как у вас зубы стучат. Причина этого шума – свинья, какая-нибудь заблудившаяся свинья, о которых я вам только что рассказывал.
– Вы думаете, что?..
– Ну конечно! Что же тут может быть другого?
Да, конечно, черт возьми, что же это может быть другого? Постоянно этот ужасный вопросительный знак!
Мы снова принялись стеречь.
Ни за какие блага мира я не согласился бы оторвать свой взор от небосвода. Я чувствовал, что моя нервная система возбуждена донельзя, так что я готов поверить всяким галлюцинациям. Мне казалось, что я вижу серебристое небо, усеянное черными точками.
Когда наступила заря, я был весь в поту и дрожал, как Жаба.
Мы внимательно осмотрели все: но чуть смятые кусты не выдали своего секрета.
Гамбертен был убежден, что саранча почуяла наше присутствие. Уходя, он решил переменить тактику.
На следующую ночь мы устроились у окна коридора во втором этаже, откуда был виден весь парк.
К несчастью, луна взошла как раз против нашего окна, так что на темной массе леса деревья парка не были видны и можно было разглядеть только верхушки их, освещенные лунным светом; вдобавок невезенья, как раз в это время и произошло таинственное событие, которое нам так и не удалось разъяснить.
Сначала мы увидели, как зашевелилась верхушка одного дерева, и поняли, что, значит, низ этого дерева подвергся нападению, затем среди верхних ветвей, освещенных луной, появилось нечто вроде большой птицы, и постепенно один за другим исчезли все листья. Но дерево так мало возвышалось над кучей остальных деревьев леса, что мы не могли разглядеть всю птицу целиком.
Таким образом, мы обладали одним, хотя и отрицательным элементом истины: саранчи не было.
Гамбертен задумался, наморщив лоб.
– А все же, – сказал я ему, – вчерашний шум… ну, знаете, шум железной дороги?..
– Ну, так что же?.. дальше?..
– А если… это… крик?
– Крик?.. Я слышал все голоса природы… нет, это не крик!.. Впрочем… пойдемте спать, – сказал он внезапно. – Я сплю наяву!
Но он не лег спать. Его шаги раздавались безостановочно. И я, со своей стороны, бодрствовал, стараясь вывести заключение. Но все мои рассуждения ни к чему толковому не приводили.
При первых лучах солнца я побежал к деревьям и внимательно осмотрел их.
Я констатировал два факта.
Птица (?) не оставляла больше и жилок – у жертвы не оставалось ни малейшего намека на лист. Кроме того, на половине высоты дерева было содрано с него приблизительно около метра коры.
В остальном ничего особенного.
Какое вывести заключение? Я уселся на опушке леса в тени чинары, чтобы пораздумать внимательно над всем этим.
Лежавший на земле лист привлек мое внимание. Я поднял его. Он был вязок – можно было подумать, что он обмазан слюной, и на нем ясно виден был след точно от большой буквы V.
Этот отпечаток был мне знаком. Мне показалось, что мои глаза где-то видели такое же изображение. Где бы это могло быть?.. Ах, да! Гамбертен нарисовал его на стене… это было… да нет! не может быть!
Я бросился в оранжерею и сравнил отпечаток на листе с рисунком на стене. Сходство было поразительное… Чей-то клюв, совершенно подобный клювам игуанодонов, прикусил этот лист.
Вошел Гамбертен. Я, не находя слов и заикаясь, поделился с ним своим открытием.
– Да ведь это сумасшествие! – воскликнул он. – Живой игуанодон!
– Но послушайте, – возразил я, – речь идет вовсе не об этом: я думаю о птице, так как мы ведь видели птицу…
– Нет ни одной птицы, у которой клюв был бы так устроен!
Я предчувствовал невозможное и сказал помимо своей воли:
– Хорошо, пусть клюв исчез, но раз птица происходит от игуанодона, то не встречалось ли в доисторические времена птеродактилей, которые были снабжены такими же клювами?
– Никогда! Первые, взлетевшие на воздух, обладали клювами, снабженными клыками от края до края. Были ли они только плотоядными или всеядными – я не знаю. Во всяком случае, их укус оставлял след укуса зубами – за это я ручаюсь!
– В таком случае, Гамбертен, при данных обстоятельствах, одно из двух: или я сошел с ума, или в вашем парке прогуливается по ночам игуанодон.
– Но это недопустимо! Абсолютно недопустимо! – повторял Гамбертен.
Тем не менее, в его глазах блистал задорный огонек, и я видел, как безумно этому сумасшедшему маньяку хотелось, чтобы то, что он так страстно отрицал, оказалось правдой.
– Такое животное, такой тяжести, оставило бы следы своих шагов! – сказал он.
– Земля тверда, как камень!
– Да, но каким образом ящер мог бы дожить до нашей эпохи?
Я молчал, не зная, что ответить.
– Вы сами прекрасно видите, что это безумие… Безумие!
Он сравнил свой эскиз с листом:
– И вы утверждаете, что теперь уничтожаются и все жилки?.. Но почему же этого не было раньше?.. А на коре следы царапин когтей?.. Но почему раньше он не трогал верхушек деревьев?.. И эта пена!.. эта слюна, свойственная только жвачным!.. Дюпон, мне кажется, что я тоже начинаю сходить с ума! Ничего удивительного в этом нет, если принять во внимание это проклятое солнце. Нужно посоветоваться с каким-нибудь хладнокровным и рассудительным чело веком, чтобы убедиться, что мы оба не сошли с ума.
V
С каким-нибудь рассудительным человеком – сказал Гамбертен.
На четыре лье в окружности не было иных рассудительных людей, кроме учителей и кюре. В нашей бедной деревушке не было школы, но зато была церковь, напоминавшая со своей колокольней большой сарай с голубятней на крыше. Старый священник недавно умер и был замещен кюре, только что окончившим семинарию. Случайно Гамбертен это знал, хотя обычно он мало интересовался тем, что происходит в нынешнем веке.
– Я не особенно долюбливаю духовенство, – сказал он, – я совершенно не разделяю их образа мыслей. Но этот еще молод; так как он еще не знает жизни, то, вероятно, пока еще искренен. Пойдемте поговорить с этим молодым пастырем.
Аббат Ридель принял нас с веселой снисходительностью, глядя нам прямо в глаза и не пряча от нас своих рук.
Мы заговорили о его прихожанах.
– Превосходные души, – сказал он, – но преследуемые страхом перед дьяволом. Не Бог их влечет к себе, а боязнь ада толкает их к небу. И это вполне понятно, потому что сатану они не видят, ни один кумир не изображает его, так что они с легкостью представляют себе его присутствие повсюду; тогда как изображение Бога они видят на каждом шагу… и не предвидят от Него никакой опасности для себя… О, ужас перед неизвестным, – какая это могучая сила!
Эти слова удивительно подходили к нашему положению. Гамбертен сделал мне незаметный знак глазами, и аббат Ридель занял место среди уважаемых нами лиц.
– Несчастье заключается в том, – продолжал он, – что мои предшественники пользовались этим страхом (да немало моих коллег и посейчас пользуется этим), чтобы привлекать свою паству в лоно церкви. Я не признаю этого метода и предо мной громадная задача…
– Не собираетесь ли вы, – вставил Гамбертен, – пользуясь тишиной сельской жизни, возобновить ваши любимые занятия? Углубиться в научные или литературные труды, которые вы предпочитали в семинарии?
– Я надеялся заняться археологией, – ответил священник, грустно улыбнувшись, – но я считаю, что все мое время принадлежит моей пастве, так что я теперь изучаю медицину…
– Ветеринарную? – позволил себе добавить Гамбертен.
Кюре не обратил на это никакого внимания и продолжал:
– Доктор живет далеко и зимой, по снегу ему трудно приезжать, да и кроме того, заниматься археологией в этой местности, где нет ни одного памятника…
– Да, – сказал Гамбертен, – археология довольно хорошая вещь… это палеонтология жилищ… она начинается там, где первая кончается… Видите ли, господин кюре, я – палеонтолог.
– Я знаю это, граф.
– Да… палеонтолог… так что вы сами поймете, что во мне мало данных для церковного старосты.
– Отчего же? Я не вижу, почему одно мешает другому!
– Как? – воскликнул Гамбертен. – Как, вы хотите, чтобы я верил в то, что мир создан в семь дней, когда я вижу, касаюсь пальцами наглядных доказательств того, что он образовался очень медленно, постепенными тысячелетними наслоениями? Как я могу допустить возможность внезапного появления пары взрослых людей в старом лесу среди зрелых уже при создании плодов, когда все мои находки доказывают, что в азойскую эру существования земли нечем было дышать, что годы изменяют индивидуальность людей и что эволюция рас происходит на громадном промежутке времени? Наконец, чем объяснить эту Божью бездеятельность с… начала вечности… если можно так выразиться… А затем ваш так называемый всемирный потоп, который, в сущности, локализировался около горы Арарат!.. И этот Ноев ковчег, да, господин кюре, Ноев ковчег!..
– Милостивый государь, в то время, когда не считали еще, что без науки не может быть счастья, Святой Августин ответил бы вам: «Чудеса может творить только Господь. Их существование доказывает Его существование, а грандиозность их является только доказательством Его могущества». Но современникам уже мало слов Святого Августина, ведь с тех пор, как люди сделались такими образованными – они значительно улучшились – не правда ли? Ныне появились особые толкователи Библии ко всеобщему удовлетворению.
– Ага, господин «врач поневоле» [2]2
«Врач поневоле» – название одной из комедий Мольера ( Прим. перев.).
[Закрыть]– вы изменили все это.
– Ничего подобного! Но слова Моисея, касающиеся мироздания, не представляют пересказа Божьих слов, а являются только его вдохновенной догадкой. Следовательно, допустимы все разъяснения их в тех случаях, когда Церковь не высказалась определенно…
И кюре затеял ученый спор, подробности которого я не могу припомнить, не смотря на все мое желание… Проклятая память!.. Во всяком случае, я помню, что спор затянулся и что Гамбертен, не желая прерывать его, увел кюре завтракать к себе, в замок.
Что касается меня, то я, несмотря на терзавшие меня мысли о таинственном посетителе, очень внимательно следил за спором, надеясь на то, что встречу в нем научное подтверждение догматов веры. Но я постоянно был одного мнения с тем, кто говорил, и, в конце кондов, моя нерешительность возрастала по мере того, как с той и другой стороны увеличивались доказательства. В результате антагонисты соглашались по большинству вопросов, но, возвращаясь к началу мироздания и дойдя до вопроса, откуда взялись первичные клеточки, Гамбертен утверждал:
– До этого пункта наука была в состоянии все объяснить, следовательно, она осветит и это явление, как и другие, как только будет располагать достаточно могущественными способами исследования.
А кюре, опровергнув теорию внезапного самозарождения, отвечал:
– К чему же ждать сомнительного будущего, когда творческая воля Бога так просто рассеивает наши сомнения?
Мне казалось, что они вертятся в каком-то заколдованном кругу, причем они спорили с особенной горячностью, потому что имели слушателя.
Но один из упреков кюре был обоснованнее других: указывая на библиотеку, он обратил внимание Гамбертена на слишком односторонний подбор книг.
– Сколько у вас тут биологов и философов: Фламмарион, Спенсер, Геккель, Дарвин, Дидро, Вольтер, даже Лукреций – этот дарвинист древних… Но для своей защиты я нахожу только Библию без комментариев, да детское издание Нового Завета… А где же Катрфаж, где?..
Гамбертен перебил его довольно невежливо и ответил, на мой взгляд довольно бестолково, что у него также нет и книг на китайском языке, потому что он не понимает по-китайски.
Спор привел его в возбужденное состояние. Полагая, что его раздражительность может довести его до грубостей, о которых он впоследствии пожалеет, я постарался отвлечь его внимание, указав на густые черные тучи, появившиеся на так долго бывшем безоблачным небе.
Кюре решил вернуться к себе до дождя.
– Ну что, – спросил Гамбертен после его ухода, – кажется, он не принял нас за сумасшедших?
– Скоро мы сами будем знать, как нужно относиться к этому вопросу. Взгляните!
Полил проливной дождь.
Прекратился он только на следующий день.
При виде освеженной листвы и повеселевших полей, Фома и его жена наполнили замок своею шумною радостью. Я думаю, что все окрестные жители разделили их радость и отпраздновали плодотворный дождь.
Нам этот дождь должен был помочь открыть тайну, и мы его благословляли.
С невинным видом вышедших прогуляться без определенной цели людей, чтобы не привлечь к себе внимания Фомы, мы направились к рощице индийских жасминов.
Грязь осталась девственно чистой, так что гипотеза о птице выплыла с новой убедительностью. Но бродя вокруг деревьев, мы были поражены видом чинара, стоявшего поодаль от этой рощицы: он претерпел участь остальных своих предшественников. Его ветви были обезлиствены до высоты остальных деревьев, а на коре были видны характерные царапины. У подножья дерева влажная истоптанная почва сохранила отпечатки лап гигантской птицы.
Это вовсе не устраняло предположения о птице громадной величины, и я с ужасом стал думать о гигантском орле Синдбада-морехода из арабских сказок. Но мне пришло в голову пойти по следам этого животного.
Местами следы были стерты, точно после прохода животного тут проволокли тяжелый мешок по земле.
– Может быть, эта борозда образовалась от хвоста? – сказал Гамбертен. – Но она недостаточно глубока. Значит, игуанодоны ходили не так, как кенгуру, опираясь на свой хвостовой придаток… Какая головоломка!
Случай пришел нам на помощь.
Порывом ветра наклонило тополь; в своем падении он уперся в мощный дуб, так что образовался косой портик. Животное прошло под ним; и в этом месте среди следов лап оказалось два отпечатка плоских рук, снабженных длинным утончающимся большим пальцем. Нагибаясь, животное на секунду встало на четыре ноги.
Сомнениям не оставалось больше места: это была не птица и не саранча – наш ночной посетитель был самый настоящий, самый несомненный игуанодон.
Ни одного слова не было произнесено. Но подтверждение факта, возможность которого мы, как-никак, предвидели, внезапно остановило наше преследование. Перепуганный приключением, я опустился прямо в грязь.
– Только не это, Дюпон, – сказал Гамбертен, – надо идти по следам, пока мы не найдем логовища зверя.
– Что вы там поете? – закричал я, придя в себя благодаря вспышке гнева. – Вы хотите вступить в бой с этим аллигатором, у которого к каждому пальцу приделано по сабле? С какою целью? И так видно, что его следы ведут к горе и даже прямо в пещеру! Он вышел из пещеры, ваш поганый зверь вышел из вашей поганой пещеры, слышите ли! А теперь вернемся домой, и поскорее! Я вовсе не жажду встречи, от одной мысли о которой меня охватывает ужас.
Гамбертен, пораженный моим бешенством, безропотно дал увести себя домой.
Как ни ужасно было то, что мы открыли, все же я чувствовал себя спокойнее после того, как тайна разъяснилась.
Когда мы очутились в библиотеке, Гамбертен воскликнул:
– Благодарю вас, Дюпон, вы помешали мне поступить неосторожно! Но сегодня – лучший день моей жизни. Сколько сомнений он рассеет… Но все же меня удивляет одна вещь, – добавил он другим тоном, – в ту ночь, когда мы видели птицу, она временами махала крыльями…
– Вспомните! – сказал я. – Его форма сливалась с тенью леса. Мы приняли за птицу голову игуанодона, шевелящего ушами…
– Уши у ящера! Вот это здорово! Вернее, что это были обрываемые листья, потому что не подлежит никакому сомнению, что мы видели голову. Вы правы!.. Но почему верхушки оставались сначала нетронутыми?.. Признаюсь, что ничего не понимаю…
Меня осенило вдохновение.
– Скажите пожалуйста, Гамбертен, ведь это животное не особенно большого роста в сравнении с остальными его породы?
– Нет! Судя по оставленным им следам, он приблизительно такого же роста, что тот игуанодон, скелет которого находится в оранжерее…
– Следовательно, – продолжал я, – наш сосед… молод?
– Ах, да… черт возьми!..
– Мне кажется, что этим можно было бы объяснить то, что он с каждым разом доставал все выше, так как он с каждым днем становился выше ростом…
– Это, конечно, подходящее объяснение, но оно идет вразрез с моим предположением.
– С каким?
– Я вспомнил о сообщении, что внутри булыжника нашли живых жаб… Ящерицы, к которым принадлежит и разновидность игуанодонов, братья бесхвостых гадов, а эти пресмыкающиеся отличаются исключительной живучестью; так что я предположил, что наш игуанодон мог быть заключен в скале, которая разбилась от недавнего землетрясения… Но в таком случае он должен был выйти на свет Божий совершенно взрослым, следовательно, громадного роста; разве только теснота его темницы или недостаток питания и притока воздуха атрофировали его…
Он подумал, затем добавил:
– Нет, это не то! То, что допустимо для нескольких лет, недопустимо для веков, а тем более для промежутка времени в сто раз большего. Жизнь все-таки имеет свои пределы, как бы они ни были растяжимы в известных случаях. Всякое существо начинает умирать с самого дня своего рождения…
– Следовательно…
– Я положительно теряюсь… В конце концов, эти животные настолько не похожи на нынешних…
– Не говорили ли вы мне, – сказал я вдруг, – что допотопные животные и растения имели кое-что общее между собой, причем общие черты были тем заметнее, чем ближе они приходились к их общему предку?
– Ну да!
– Во вторичную эру эти общие свойства?..
– Должны были быть еще довольно значительны.
– Ну, в таком случае, подождите немного. У меня мелькает надежда, что я что-то открыл. Что, я сам не знаю, но что-то я нашел!
Я выбежал из комнаты.
Через меньший срок, чем нужен для того, чтобы рассказать это, я примчался обратно, потрясая, как знаменем, номером журнала «Пулярда».
– Читайте, – крикнул я, указывая ему на статью: «Египетский прибор для высиживания цыплят».
Гамбертен внимательно прочел статью.
– Эге, – сказал он, окончив чтение, – я тоже вижу какую-то путеводную звездочку. Но давайте рассуждать. И, ради Бога, побольше хладнокровия.
Он поправил пенсне.
– Основываясь, с одной стороны, на истории с египетскими зернами, которые произросли после долгого периода бездеятельности; с другой стороны, на отдаленном сходстве между зерном растительного мира и яйцом животного, некий господин построил прибор, в котором куриные яйца могут лежать около трех месяцев, не теряя своей жизнеспособности.
Посмотрим, каким образом это происходит.
Зерна ржи, найденные в пирамиде, пролежали там четыре тысячи лет, или около того:
1) без света;
2) в постоянном соприкосновении с большим количеством воздуха;
3) в сухой атмосфере, предохраненные от сырости ежегодно разливающегося Нила толстыми стенами пирамид;
4) находясь все время в постоянной температуре, которая была все время ниже температуры окружающей пирамиду местности.
Прибору следует только подражать примеру пирамиды. И, действительно:
1) он темен;
2) воздух в нем постоянно возобновляется, потому что яйцо, пробывшее пятнадцать часов без притока свежего воздуха, гибнет;
3) приспособления, наполненные едкой известью, поглощают атмосферическую сырость;
4) грелки расположены таким образом, что в приборе поддерживается все время температура в 30 градусов, т. е. та именно, которая недостаточно высока, но и недостаточно низка для того, чтобы прекратилась жизнеспособность яйца, но в то же время не достигает той температуры, которая необходима для того, чтобы начался процесс зарождения цыпленка.
Итак, вот при каких условиях находятся зерно в пирамиде и яйцо в приборе для того, чтобы мирно дремать, не умирая, но и не начиная жить.
Что же должно произойти для того, чтобы разбудить их, чтобы началось шествие к настоящей жизни?..
Свет? Он не необходим! Наоборот, зерно, находясь в земле, а яйцо – под курицей, не нуждаются в этом.
Воздух? Не в б о льшем количестве, чем то, что они имеют и без того.
Нужно больше тепла! Яйцо даже требует вполне определенной температуры.
Что же касается влажности, то яйцо, не нуждаясь в ней для развития при нормальных условиях, требует большого количества ее в случае запоздалой высидки, так как зародыш в этом случае ссохся; ну, а зерно постоянно, при всяких условиях требует большого количества влаги для произрастания.
Итак, при соблюдении этих условий, зерно даст ростки, а цыпленок запищит.
Теперь нам остается только применить к нашему случаю эту гениальную, но, должен сознаться, совершенно новую для меня теорию.
Зная, что жизнь колоса ржи, получаемого из зерна, продолжается около года, и что удалось заставить запоздать этот срок на четыре тысячи лет (приблизительный возраст пирамид), мы получим существование, которое запоздало на четыре тысячи раз своей продолжительности.
Для куриного яйца эти цифры сильно понижаются (на пять лет нормального существования – опоздание всего-навсего на три месяца).
Но мы имеем дело с игуанодоном, то есть существом, хотя и несущим яйца, но все же отчасти в некотором роде принадлежащим к растительному миру – существом, находящимся приблизительно на равном расстоянии по времени от нас и от первичной протоплазмы. Таким образом, он наполовину больше принадлежит к растительному миру, чем теперешние животные.
Итак, допустим, приняв во внимание все вышесказанное, что яйцо игуанодона – яйцо постольку же, насколько и зерно, – может пробыть, не портясь, в состоянии бездействия не в четыре тысячи раз больше, а только в две тысячи раз больше своего нормального существования.
Но сколько лет могли прожить ящерицы?
Эти животные втрое больше слона – надо думать, что и жить они могли втрое дольше. Я слышал, что есть слоны, которым не меньше двухсот лет.
С другой стороны, ящерицы принадлежали к породе пресмыкающихся, продолжительность жизни которых просто парадоксальна.
Обратив внимание на оба эти явления, я полагаю – не будет преувеличением, если я скажу, что, будь они только громадного роста, ящерицы должны были бы жить по крайней мере пятьсот лет, что, в сущности, даже не составляет полной тройной жизни слона, но они были также пресмыкающимися, и это, вероятно, удваивало продолжительность их жизни; но я хочу быть скромным и поэтому прибавлю не пять веков, а только два.
Итак, они жили, по крайней мере, семьсот лет.
А мы имеем возможность задержать высиживание их яйца на срок в две тысячи раз больший, чем продолжительность их жизни, что дает нам цифру в миллион четыреста тысяч лет.
– А довольно ли этого? – спросил я, ослепленный цифрой.
– Даже слишком много! Середина вторичной эры, судя по плотности слоев, находится от нас на расстоянии только миллиона трехсот шестидесяти тысяч лет… Теперь я задаю себе вопрос, каким образом яйцо игуанодона могло очутиться в нужных условиях для того, чтобы пролежать такой долгий срок, не портясь, и почему он внезапно вылупился из яйца.
– Прежде всего, – заметил я, – надо было бы знать, какая температура нужна для высиживания яиц его породы?
– Эти животные не высиживали яиц, – сказал строго Гамбертен. – Как большая часть их сородичей, за исключением игуаны, они оставляли свои яйца на открытом воздухе. Впрочем, если бы они даже и высиживали их, это ничего не меняет в наших данных. Это были животные с холодной кровью, и поэтому они применялись к окружающей температуре.
– А она была…
– Повсюду 50 градусов, я говорил вам уже об этом, температура наших тропиков. Так что эти животные с холодною кровью были горячее нас. Если применить к нашей задаче условия вашего прибора, о котором говорится в журнале, то температура сна для яйца игуанодона должна колебаться между 40 и 50 градусами. Нужно допустить, что слой более холодного воздуха окутал это яйцо, как только оно было снесено…
– Черт возьми, да обвал же, – закричал я.
– Возможно… Обвал, как вы сами убедились, оставил ряд полых пространств между громадами скал. Яйцо чудом сохранилось в одной из этих пустот, а это несомненно чудо, потому что достаточно было малейшего толчка, чтобы разбить это яйцо без скорлупы. В глубине подземных галерей, вероятно, поддерживалась однообразная температура, благодаря соседству вулкана; там было темно, а воздух возобновлялся благодаря входному отверстию. Образовался идеальный прибор.
– Да, но почему он вылупился?
– О, это совсем просто! Кипящая лава вызвала недавно маленькое землетрясение. Вы помните, что тогда в пещере появилась влажность, а воздух нагрелся до такой степени, что стало жарче, чем снаружи; затем установилась продолжительная жара, градусов, должно быть, в 50. Сначала яйцо переносило эту температуру, а затем к этому, должно быть, присоединились испарения ручья – и жизнь восстановилась в этом растительном яйце, или, если хотите, животном зерне.