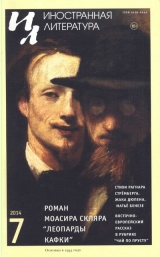
Текст книги "Леопарды Кафки"
Автор книги: Моасир Скляр
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Да, целью операции был ювелирный магазин. И украсть надо было, несомненно, золотые стаканчики. Труднейшая задача. От одной мысли об этом Мышонок содрогался: ведь это было труднее, чем ограбить банк. Или надо было похитить хозяина-ювелира, что соответствовало представлению о революционной справедливости, – как сказал анархист Равашоль, взорвавший бомбу в парижском кафе, невиновных нет, часть вины лежит на каждом (каждый, добавил бы Мышонок, – это леопард, врывающийся в храм), – но было невероятно сложно. Где спрятать похищенного человека? И что делать, если выкуп не заплатят? Сколько времени все это продлится? Нет, украсть жертвенные чаши гораздо разумнее. И опять: ну не гений ли Троцкий! Истолковав смысл шифровки, Мышонок должен был перейти к следующему этапу задания. Надо было найти связного, человека, который подтвердил бы правильность его гипотезы и сообщил бы подробности операции. Кража золотых стаканчиков – задача не для одного, а для группы; он, Мышонок, конечно должен был войти в эту группу, но надеялся играть в ней как можно менее значительную роль. Возможно, ему поручили бы просто следить за обстановкой на улице и предупредить, если появится полиция… Все остальное, без сомнения, было ему не по силам.
Когда ты узнаешь, какова цель операции, кто-то на тебя выйдет, говорил Ёся. Кто-то, но кто? Кафка? Вряд ли. Кафка из своего кабинета едва ли мог следить за тем, где Мышонок бродит. Он не знал, что Мышонок уже нашел ювелирный магазин, что определил цель. Но кто мог следить за ним? Кто знал, что он уже расшифровал записку?
Девушка. Продавщица из ювелирного магазина. Берта.
При этой мысли Мышонок аж вздрогнул. Продавщица из ювелирного магазина – точно! Все, что между ними произошло: беседа, взгляды – все указывало на это. Берта ждала его, несомненно. Именно поэтому она освободила его из лап сторожа, именно поэтому была с ним любезна и говорила так, что показалось – пусть на мгновение, – будто они чуть ли не сообщники. Но могла ли она, продавщица из ювелирного магазина, участвовать в революционном движении?
Естественно, могла. Разве Маркс не был из семьи раввинов, разве он не был женат на богатой? Энгельс, сын фабриканта, разве не управлял отцовским предприятием в Англии? Сам Троцкий был выходцем из зажиточной еврейской семьи. Берта работала на буржуев, одевалась, как одевается буржуазия, но сердцем и умом была с пролетариатом.
Восторг бил таким мощным ключом в душе Мышонка, что он посчитал необходимым остудить свой пыл. Спокойно, Беньямин, спокойно. Не слишком ли ты торопишься, Беньямин? А вдруг ты все это себе напридумывал?
И было отчего напридумывать: девушка ему нравилась. Или, возможно, более чем нравилась. Возможно, он… влюбился в нее? Раньше Мышонок ни разу не влюблялся, он попросту не знал, что это такое, но, честно говоря, стоило ему только вспомнить о девушке, как сердце начинало бешено колотиться. Конечно, хорошо бы иметь такого товарища. Товарища во всех отношениях, и в борьбе, и в работе, и в жизни. Но в первую очередь – товарища в этот решающий момент, в момент выполнения задания. Неужели Берта и вправду тот самый товарищ?
Был только один способ выяснить это: поговорить с нею снова. Но только не в магазине. Где-нибудь, где они могли бы побеседовать без помех и где она посвятила бы его во все детали операции. Можно было бы позвонить, но он не знал телефонного номера магазина, к тому же не хотелось опять иметь дело с дьявольским аппаратом. Самое лучшее – зайти в магазин снова и договориться о встрече. Но успеет ли он до закрытия? Мышонок, нищий, как… ну да, как церковная мышь, часов не имел. Он спустился к портье и спросил, который час. Полшестого, раздраженно отозвался толстяк. Мышонок пожелал узнать, работают ли еще магазины.
– Странно, – сказал портье, – у тебя едва хватает денег на гостиницу, да на еду, а туда же, за покупками собрался. Если бегом побежишь, успеешь.
Мышонок, как угорелый, помчался в центр. Ему повезло: двери магазина были уже закрыты, но сотрудники еще оставались внутри. Он хотел позвонить в колокольчик, но удержался: лучше подождать у дверей банка, пока Берта выйдет. Ожидание показалось ему бесконечным, но вот девушка появилась. Она не заметила его и побежала к трамвайной остановке. Мышонок бросился за ней, догнал, взял за локоть. В первый момент она возмутилась, оттолкнула его: это что еще? Бродяга? Пусти меня! Но тут она увидела, кто это, и с облегчением вздохнула.
– Йозеф, да? Как же вы меня напугали, Йозеф.
Мышонок рассыпался в извинениях. Мне очень надо с вами поговорить, добавил он. Спросил, не согласится ли она выпить с ним кофе. Она посмотрела на часы. Нет, ей нельзя задерживаться.
– У меня больная мама дома. И она будет волноваться, если я не приду вовремя.
Она ненадолго задумалась, потом улыбнулась:
– А почему бы нам не поговорить у меня дома?
Мышонку опять показалось, что этой улыбкой она намекает на то, что они сообщники, а тогда, значит, догадки его – правильны.
Они сели в трамвай и вышли через несколько остановок. Берта жила в старом доме на самом верхнем этаже. Несколько пролетов лестницы Мышонок одолел вприпрыжку, как будто скакал по облакам – в таком он был восторге. Они вошли, девушка попросила, чтобы Мышонок подождал, пока она займется матерью: надо накормить ее, помыть, уложить. Она вошла в спальню, закрыла за собой дверь.
Мышонок ходил по скромной гостиной, рассматривал ветхую мебель. На полках – ничего особенного: безделушки, старые семейные фотографии. Это еще ни о чем не говорило. Было бы неосмотрительно расставлять на видном месте «Коммунистический манифест» и прочие труды Маркса и Энгельса: у какого-нибудь случайного любопытного визитера это могло бы вызвать подозрения. Но ему не понравилось то, что он увидел на противоположной стене, над горкой: старинное распятие слоновой кости. Неприятный сюрприз: революционной литературы нет, а распятие, выходит, есть? Почему? Пережитки не вполне преодоленных религиозных заблуждений прошлого? Но, возможно, дело не в этом, возможно, это просто маскировка, чтобы обмануть тайных агентов полиции. В сомнениях рассматривал он предмет культа, когда дверь открылась и вошла, улыбаясь, Берта: мать уснула, теперь можно поговорить. Она заметила удивление на лице Мышонка.
– Я вижу, что распятие вас заинтересовало. Оно мамино. Она ревностная католичка. Папа-то был евреем, но в синагогу не ходил. – Она улыбнулась. – Что вам предложить? Чай с бисквитами?
Для голодного Мышонка это было очень кстати. Берта пошла на кухню и вернулась через несколько минут с подносом, на котором стоял чайник, чашки и большое блюдо с шоколадными бисквитами.
– Угощайтесь.
Мышонку пришлось крепко взять себя в руки, чтобы сразу не наброситься на блюдо. Он постарался продемонстрировать хорошие манеры, подражая девушке, которая, похоже, была существом утонченным, воспитанным, хотя и бедным.
В первые минуты они говорили на общие темы: о том, как холодно в Праге, о проблемах с общественным транспортом, о чем-то еще. Но вдруг она взглянула ему в глаза и сказала с улыбкой, которая показалась Мышонку полной особого смысла:
– Вы не из Праги.
Он подтвердил: нет, не из Праги. Он из местечка Черновицкого, что в Бессарабии. Рассказал немного о местечке, особо подчеркнув, что оно недалеко от Одессы, города, где учился Троцкий. Он надеялся, что это послужит чем-то вроде пароля, и она наконец скажет: вот и хорошо, теперь я вижу, что вы тот самый товарищ, которого мы ждали, теперь перейдем к нашему плану.
Но не о плане хотела говорить Берта, а о Бессарабии, где, как оказалось, родился и ее отец.
– Он говорил точно так же, как вы. С таким же акцентом. И, как у вас, у него был такой беззащитный вид…
Она смотрела на него с нежностью, глазами, полными слез. И тут Мышонок понял: он все-таки влюблен в нее. Если бы мог, он бы так и сказал: я люблю вас, Берта, я всегда мечтал о такой, как вы, вы любовь всей моей жизни. Если б мог…
Но он не мог. Было не время. Было не время, потому что в первую очередь следовало выполнить задание, и она тоже об этом знала – во всяком случае, он надеялся, что она знает. Так что он набрал в грудь побольше воздуха и перешел прямо к делу:
– Послушайте, Берта, вы ведь знаете, зачем я приехал в Прагу, да?
Мышонок никак не ожидал, что у нее будет такой удивленный взгляд:
– Я? Откуда мне знать? Но давайте, я угадаю, что вы мне сейчас скажете… – она засмеялась. – Ага, готово: вас привел в Прагу неодолимый порыв. Вы приехали, чтобы встретиться со мной…
Мышонок слушал ее с вымученной улыбкой. Конечно, он был очень счастлив, но момент для шуток был самый неподходящий.
– Вы ведь знаете, что у меня задание, Берта? Очень важное задание. Задание, чреватое серьезными последствиями.
Она нахмурилась. Удивление сменилось настороженностью:
– О чем вы, Йозеф? Какое еще задание?
Теперь встревожился он. Значит, она ничего не знает о задании? Как же так? Он сделал еще одну попытку, более робкую:
– Задание, Берта… В ювелирном магазине…
– Ради бога, Йозеф, говорите яснее. Что должно случиться в ювелирном магазине?
Она ничего не знала. Она не знала о задании. Это было ясно по ее удивленно-испуганному выражению лица. И теперь он не знал, что говорить, как выкручиваться.
– Но кто вы такой, в конце концов? – она уже почти кричала. – И что вам надо в магазине?
И тут ей пришло в голову что-то, отчего она вскочила, бледная, с широко раскрытыми глазами:
– Вы вор, Йозеф? Вы хотите обокрасть магазин? Да, Йозеф? Да? Скажите, Йозеф, это правда? Пожалуйста, Йозеф, скажите, это правда? – и, как подкошенная, рухнула снова на диван.
– Раз вы молчите, значит, так и есть, – пробормотала она растерянно. – Вы вор. Хотели разузнать о магазине. Потому и познакомились со мной. Потому и стали заговаривать мне зубы.
– Пожалуйста, – взмолился Мышонок, – не судите так обо мне, вы ошибаетесь, ошибаетесь, все совсем не так, как вы подумали.
Но она уже не хотела ничего обсуждать, а, побледнев от гнева, указывала ему на дверь:
– Вон! Вон отсюда! И больше никогда не подходите ко мне, а то обращусь в полицию!
Опустив голову, Мышонок поплелся прочь. Медленно начал спускаться по ступеням. И вдруг остановился: его охватило бешеное возмущение, нестерпимое желание взбежать вверх по лестнице, выбить одним ударом дверь и крикнуть в лицо Берте: какое ты имеешь право меня выгонять! Я не вор, я революционер, моя задача – экспроприировать богатства, которые твой банк отобрал у бедняков, обратить их на дело преобразования общества.
Но порыв почти сразу иссяк. Он вспомнил о том, какое у нее было лицо, нежное, незабываемое лицо. Я люблю тебя, Берта, простонал он, люблю, пробормотал сквозь рыдания. Открылась какая-то дверь и незнакомая старушка бросила на него подозрительный взгляд. Не дожидаясь, когда она вызовет полицию, Мышонок поспешил выйти из подъезда.
Он оказался на пустынной заснеженной улице. И что теперь? Что делать? Он окончательно растерялся: из абсолютного счастья рухнуть в глубочайшее разочарование – это кого угодно собьет с ног. Еще совсем недавно – революционер с ясной задачей в шаге от славы, и вдруг – запутавшийся недотепа. Только что он был рядом с той, которая могла бы составить счастье всей его жизни, и в следующий миг его вышвырнули на улицу, как шелудивого пса.
Что делать, спрашивал он себя, что делать? Разве что идти, куда глаза глядят. Был канун Рождества, и он видел за запотевшими стеклами семьи, собравшиеся вокруг празднично накрытых столов, отчего чувствовал себя еще более бесприютным.
Но он все шел и шел, пока неожиданно не обнаружил, что забрел в старое гетто. Там стояла та самая синагога, с могилой легендарного Голема во дворе. Там было и древнее кладбище, старые могильные камни, покрытые толстым слоем снега. Все это показалось Мышонку символом его собственного безнадежного положения. Закрытые ворота. Неразгаданные загадки. Лютая смерть, замершая в ожидании. К кому обратиться за помощью? К кому?
Кафка. Найти Кафку, рассказать ему откровенно все как есть: не могу, мол, понять, в чем мое задание, объясните мне, пожалуйста, о чем тут речь, скажите, что я должен делать, и я это сделаю.
Улица Алхимиков была недалеко. Он бросился туда бегом, молясь, чтобы Кафка оказался в своем крошечном домике.
Прибежал, запыхавшись. Дверь и окна были закрыты, но в щели пробивался слабый свет. Да, писатель был дома.
Мышонок постучался, сначала робко.
Никто не ответил.
Мышонок постучал еще раз, сильнее.
Вздох, глубокий вздох услышал он за дверью. Вздох, как будто говорящий: ну чего им от меня надо? Отчего не оставят меня в покое? Почему я не могу тихо сидеть себе и писать свои истории – о леопардах, врывающихся в храмы, о людях, превращающихся в насекомых, – и пусть кто-то считает их абсурдными, но это мои истории, истории, на которые я положил жизнь, что тоже абсурдно, но так уж мне захотелось – что поделаешь? Мало отца-тирана, мало скучной бюрократической службы, мало неудач с невестой – тут еще кого-то принесло!
Вздох смутил Мышонка. Какое право он имел донимать бедного Франца Кафку своими проблемами? Но он тут же осадил сам себя: какого черта, это ведь товарищ по борьбе, хоть и незнакомый товарищ, а товарищи для того и товарищи, чтобы помогать друг другу, к тому же речь идет не о личной услуге, речь о деле, а дело выше всяких мерлехлюндий, выше права интеллигента на частную жизнь – интеллигенты вообще всегда, на взгляд революционера, пока не докажут делом обратного, подозрительны (за редким исключением, как Маркс, Энгельс и Троцкий).
Дверь открылась. Перед Мышонком стоял молодой еще человек, высокого роста (на самом деле для маленького Мышонка все были великанами, но тут рост был действительно выше среднего); с угловатыми чертами лица, с темными волосами и глазами, с большими ушами. И худой. Очень худой. Худоба и пристальный, пронизывающий взгляд произвели особенно сильное впечатление на Мышонка.
– Что вам угодно? – спросил Кафка.
Спросил вежливо, но с некоторым нетерпением, более чем оправданным: через полуоткрытую дверь Мышонок видел стол и пишущую машинку. Он оторвал писателя от работы.
– Я по поводу текста…
– Текста? – Кафка наморщил лоб. – Какого текста?
– Текста, который вы мне прислали…
– А! – теперь он вспомнил. – Это вы мне звонили. – Тут он заметил, что Мышонок все еще на улице, под падающим снегом. – Да вы заходите, заходите. Поговорим в доме.
Беньямин вошел. Внутри дом оказался еще меньше, чем выглядел снаружи. Мебели мало: стол, несколько стульев, лежак, полки, набитые книгами.
– Не обращайте внимания на беспорядок, – сказал Кафка. – Как видите, это рабочий кабинет. Садитесь, пожалуйста. Извините, мне нечем вас угостить… Я здесь не обедаю. Извините за холод: отопление никуда не годится.
– Не беспокойтесь, – ответил Мышонок, – для меня это все не имеет значения. – Он секунду поколебался и добавил: – Дело – прежде всего. Любые жертвы ради дела оправданны.
Он надеялся, что эта фраза послужит зашифрованным посланием. Надеялся, что при этих словах Кафка просияет и воскликнет: да, товарищ, ради дела можно пойти на все, даже на кражу золотых стаканчиков, так давай, давай составим план, обсудим детали. Но хозяин дома не сказал ничего такого: оба сидели молча друг против друга. Кафка все так же пристально смотрел на посетителя, как будто ожидая, что тот скажет, зачем пришел. Молчание становилось тяжелым, напряженным, отчего тоска в душе Мышонка только усиливалась. Почувствовав это, Кафка, который постоянно имел дело с покалеченными на производстве рабочими, решил прийти гостю на помощь. Он задал вопрос:
– Ну, как вам текст?
– Текст? Текст прекрасный… Леопарды в храме… Прекрасный… Леопарды врываются в храм… Действительно чудесный…
– Он годится?
Мышонок не очень понял вопрос. Но ему не хотелось показывать свою растерянность:
– Годится ли? Конечно, годится. Проблема в том, что он…
– Темен, – договорил за него Кафка с легкой улыбкой. – Вы это хотели сказать? Непонятен. Я знаю. Все мои тексты сложны для понимания. Поэтому мне так трудно их публиковать.
Мышонок заерзал на стуле.
– Да… Ну да, это правда. Но я понимаю, что таким он и должен быть… Что текст должен казаться загадочным… В конце концов, учитывая, для чего он написан…
Кафка, казалось, погрузился в собственные мысли.
– Темнота, – проговорил он наконец. – Некоторые считают, что в этом проблема. Для меня в этом – решение проблемы.
– Для меня тоже, – поспешил согласиться Мышонок. – Я думаю, что ясность в этом случае была бы смерти подобна.
Теперь наступила очередь Кафки удивиться:
– Смерти подобна? Ну это, пожалуй, преувеличение…
– Нисколько, – настаивал Мышонок. – Учитывая нынешнюю ситуацию, ясность была бы непростительным риском.
– Вижу, вы радикал, – сказал Кафка с бледной улыбкой.
– Радикал? Да, я радикал. Радикал – это как раз обо мне, – с гордостью заявил Мышонок. Потом понял, что, возможно, переборщил, и поправил себя: – То есть я им стремлюсь быть. Радикалом. Дойти до самых корней. Хочу обличить всех, кто должен быть обличен, хочу разрушить все, что должно быть разрушено.
– Разрушить, – пробормотал Кафка. – Да, возможно, вы и правы. Возможно, творчество – тоже своего рода разрушение.
Мышонок был в таком воодушевлении, что даже не слышал его.
– В этом вопросе я следую идеям Троцкого о перманентной революции. Революция – как образ жизни.
– Троцкий? – Кафка снова нахмурился. – Для вас Троцкий – идеал? Лев Троцкий?
У Мышонка все похолодело внутри. До этого мгновения он был уверен, что Кафка – соратник Троцкого. Но реакция писателя удивила его. Он ошибался? Или за эти дни произошло что-то, что изменило всю ситуацию? Например, раскол в коммунистическом движении? Кто знает, возможно, за это время Троцкий успел создать фракцию, в которую Кафка не вошел и к которой, возможно, он питает смертельную ненависть. У Мышонка с доступом к источникам информации дело обстояло неважно. И не только сейчас. Как прикажете быть в курсе событий, если живешь в заброшенном бессарабском местечке, где народ неделями не читает газет, если вообще их читает? Понятно, когда рядом был Ёся, все обстояло иначе: у друга были таинственные каналы информации, он сообщал товарищам все, что им следовало знать. То же, несомненно, происходило и с Кафкой, у которого был куда лучший доступ к источникам информации: он жил в большом городе, покупал газеты, пользовался телефоном. Мышонку надо было вести себя осмотрительнее. Риск был не только в том, что он мог сморозить какую-нибудь бестактность. Риск был в возможном идеологическом промахе, против чего Ёся его неоднократно предостерегал. Мышонок решил спустить тему на тормозах:
– Я бы сказал, что в некоторых случаях – да. Но только под диалектическим углом зрения. Имея в виду, что революция может быть перманентной, но реально перманентной не является, так ведь? Кстати, «Леопарды в храме», по-моему, произведение, пронизанное диалектикой.
Кафка ненадолго задумался.
– Да. Текст можно рассматривать и так.
Он покосился на часы. Видимо, ему не терпелось закончить разговор и вернуться к работе. Так что он опять перешел к главному:
– Вы так и не ответили на мой вопрос: текст годится?
Вот он – момент истины, подумал Мышонок. Тот момент, когда хочешь не хочешь, а приходится идти на риск. И он был готов. Вернее, он смирился с неизбежным. После катастрофы с Бертой, ему было уже все равно.
– Текст-то годится, товарищ. Это я никуда не гожусь.
Кафка посмотрел на него с изумлением:
– Вы не годитесь? В каком это смысле?
– В том, что я не понял вашего текста. Не понял, о чем там говорится. Даже не догадываюсь.
– Но погодите, – Кафка принялся утешать его. – Мы ведь только что говорили, что смысл тут темен. Вы не обязаны его улавливать. Это зависит от того, отзывается ли в вас что-нибудь при чтении этого текста. Может быть, это просто не ваш текст.
– Но я должен разобраться, о чем там говорится! – в отчаянии воскликнул Мышонок. – Разве вы не понимаете? Я ведь для того и приехал, чтобы прочесть его, чтобы выполнить задание…
– Задание? – Кафка был явно заинтригован. – О чем вы?
– Прошу вас, товарищ, – взмолился Мышонок, – не унижайте меня еще больше, мне и так стыдно. Я обещал товарищу Йозефу, который очень серьезно болен, что возьму на себя его задание. Для этого я и приехал в Прагу, для этого вы и передали мне текст. Беда в том, что я растяпа, идиот. Все, что я до сих пор делал, только больше запутывало ситуацию, ставило ее с ног на голову. Для начала я потерял ваш адрес, с трудом нашел вас. Когда я получил вашу записку, не смог понять, о чем в ней говорится. Или понял неправильно – не знаю. Я вообще ничего не знаю. Думал, что определил место операции, думал даже, что нашел девушку, с которой должен был выйти на связь, но она не была моей связной, а теперь я и насчет места сомневаюсь, я во всем сомневаюсь, мне нужна помощь, товарищ, пожалуйста, помогите мне.
Кафка молча смотрел на него.
– Кто вы? – спросил он наконец.
– Кто я? Разве вы не знаете?
Нет. Кафка не знал. По выражению его лица это было совершенно ясно.
– Я думал, вы работаете в редакции журнала, который издается на идише здесь, в Праге. Я им обещал текст. Теперь вижу, что все не так.
Внезапно в сознании Мышонка вспыхнул свет: он понял, что произошло. Кафку обманул его акцент, акцент русского еврея. Он перепутал его с сотрудником еврейского журнала, одного из тех журналов, с которыми Кафка, живо интересовавшийся иудаизмом Восточной Европы, сотрудничал. Потому просьба о тексте не показалась ему странной. Отсюда и недоразумение.
И что теперь делать? Рассказать ему все?
Нет, Мышонок не мог все рассказать. В конце концов, неизвестно, насколько Кафка заслуживает доверия. Лучше уж выдумать что-нибудь, тем более за последнее время он в этом весьма поднаторел.
Он и выдумал. Да, он работает в журнале, который издается на идише, но не в Праге, а в России. В Прагу он приехал как турист.
– Мой друг Йозеф, редактор журнала, попросил меня, чтобы я, пользуясь случаем, познакомился с одним писателем… Имени я не запомнил… Чтобы встретился с ним и попросил чего-нибудь для журнала. Я решил, что это вы. Но ошибся.
Он вынул из кармана листок с «Леопардами в храме» и протянул его Кафке:
– Вот. Извините за беспокойство.
Кафка пристально смотрел на него. И вдруг закашлялся. Сухим слабым кашлем, который он силился сдержать, но никак не мог, и это настораживало. Мышонок вздрогнул. Ему такой кашель был знаком: это наверняка туберкулез, вечная угроза, наряду с нищетой и погромами, внушавшая ужас всем в еврейских местечках России. Кафка не жил в местечке, но с виду был явно чахоточным: эта худоба, эта бледность, слегка порозовевшие скулы. Что уж говорить про холод в ледяном домике, совсем не подходящий для туберкулезного больного. Глубокая печаль охватила Мышонка, такая же печаль, которая охватила бы его мать, если бы с ним случилось подобное: ты болен, Кафка, очень болен, этот кашель – не шутка, не выдумка, это чахотка, она убьет тебя, как убила уже столько народу, не думай, что тебя спасет степень доктора права, что ты выкрутишься, потому что писатель, эта болезнь не щадит никого, ты должен беречься, больше есть: посмотри, какой ты тощий, ты должен переехать из этого проклятого места, из этой холодной и сырой конуры, незачем сидеть тут и писать, если ты платишь за это жизнью, беги отсюда, пока не поздно, слушай, что я тебе говорю, я ведь тебе добра желаю.
Однако он ничего не сказал. Просто смотрел на писателя молча. В конце концов приступ кашля прошел. Кафка вытащил из кармана платок, вытер пот со лба.
– Извините. Что-то я в последнее время кашляю. Это психологическое, знаете ли, – он грустно улыбнулся. – Возможно, надо проконсультироваться у доктора Фрейда.
– Вот ваш текст, – повторил Мышонок.
– Оставьте его себе.
Взгляд и тон потрясли Мышонка. Как будто Кафка в этот самый миг решил сделать его хранителем чего-то, о чем Мышонок имел очень смутное представление, но чего принимать не хотел.
– Но я не должен…
– Возьмите, – тон на этот раз был таким властным и решительным, что Мышонок испугался. – Возьмите текст себе.
– У вас есть копия?
– Не беспокойтесь об этом. Есть. Есть у меня копия. Возьмите текст себе.
Он встал, открыл дверь:
– Ну а теперь, извините, мне надо работать. На литературу остается мало времени… Я надеюсь, вы понимаете.
– Я понимаю, – пробормотал Беньямин и вышел.
Дверь за ним закрылась. Он подумал, что надо бы вернуться, надо бы сказать Кафке, что текст, хоть он его и не понял, прекрасен. Но, взглянув на закрытую дверь, передумал.
Внезапно почувствовав себя страшно усталым, Мышонок решил вернуться в гостиницу. Он хотел добраться до кровати, все равно до какой. Хотел провалиться в сон без сновидений, чтобы забыть этот злополучный день. Но отдохнуть ему было не суждено.
Подходя к «Терминусу», он заметил полицейскую машину через дорогу от двери. Из осторожности не вошел, а заглянул в вестибюль через стекло.
Внутри было двое полицейских. Похоже, они расспрашивали о чем-то портье, а тот показывал им книгу записи постояльцев.
У Мышонка не было сомнений: пришли за ним. Но кто мог донести? Возможно, сам портье – зловредный тип, возможно (и сердце его от этой мысли сжалось), возможно, Берта.
Надо было срочно бежать. Он не мог даже зайти в гостиницу. Да это было и не нужно. Деньги, документы – с собой. Да и билет на поезд, который он предусмотрительно (как оказалось) решил не оставлять в номере. Чемодан придется бросить, ну ничего. На новую одежду копить и копить, но это не самое страшное. Недолго думая, он бросился бегом на железнодорожную станцию.
Ему повезло: через час отправлялся поезд в Румынию. На этот поезд он и сел. Всю дорогу проспал, проснулся только перед самым прибытием. Тут уж он не забыл проверить, все ли в карманах на месте. Все было цело: деньги, документы. Ах, да, и текст Франца Кафки «Леопарды в храме».
Если не считать того, что по дороге то и дело попадались колонны солдат (война была в самом разгаре), остаток пути обошелся без происшествий. Тот же лодочник переправил его обратно в Россию, на этот раз без комментариев. Когда Мышонок наконец добрался до дома, смеркалось. Он вошел, и все бросились обнимать его. Этот сын меня в могилу загонит, кричала, смеясь и плача, мать, он меня доконает, злодей несчастный.
В конце концов все успокоились, уселись за стол, и Мышонок с непринужденностью, которая его самого изумила, выдал заранее приготовленную историю о том, как искал в другом городе работу. Отец, братья и сестры поверили или притворились, что верят. Как в притче про блудного сына, причина, по которой Мышонок покинул дом, не имела значения. Главное – что он вернулся. Под конец Мышонок с трудом, но вытолкнул застрявший у него в горле вопрос: как там Ёся?
Горестное молчание.
– Ёся умер, – сказал отец. – В тот же день, что ты уехал. Жар усилился, у него случилась судорога – и все.
Мышонок выслушал новость молча, опустив голову. На самом деле, он ожидал такой развязки. Как будто Ёся, благородный Ёся, пожалел его, ушел, чтобы не выслушивать историю его позора. Он провалил задание. Полностью провалил. Ничего не нашел, ничего не сделал, потерял все, даже собственную одежду. Единственное, что осталось от этой поездки, – текст Кафки в кармане и стыд, который будет камнем лежать у него на сердце всю жизнь.
Со смертью Ёси группа юных революционеров распалась. Мать уговорила Мышонка стать подмастерьем у отца. Поначалу работа вызывала у него отвращение, он считал ее слишком заурядной. Но постепенно вошел во вкус и начал находить удовольствие в кройке, наметывании, пришивании пуговиц. В этом все-таки была очевидная логика, ничего загадочного, ничего пугающего. Ах, если бы можно было сшить собственную жизнь, как шьют, скажем, жилетку. Но жизнь сложнее жилетки, а политика куда сложнее жизни. Мышонок решил на время отложить политику и заняться жилетками.
Но революция назревала. Война до предела обострила проблемы России, свирепствовал голод, усугублявшийся суровой зимой. В марте 1917 года царь Николай отрекся от престола. Власть перешла к Временному правительству во главе с Александром Керенским, но оно просуществовало недолго. В апреле Ленин вернулся из изгнания. В октябре большевики взяли власть.
В Черновицкое все эти вести пришли с большим опозданием и вызвали растерянность, если не сказать испуг. Царь был воплощением гнета, но гнета знакомого. Чего же было ждать теперь, когда, казалось, хаос захлестнул Россию?
Многие, тем не менее, были полны надежд, и в первую очередь – Мышонок. Он снова с энтузиазмом взялся за «Коммунистический манифест» и, читая, вспоминал беднягу Ёсю, чья мечта на глазах становилась реальностью: как сказал Ленин, выступая в Зимнем дворце, новое общество создавалось на руинах старого строя. Вернувшийся из эмиграции Троцкий занял в большевистском правительстве важный пост: он стал народным комиссаром по иностранным делам. Когда Мышонок узнал, что его кумир приехал в Одессу, он отправился туда, заняв у соседей телегу с лошадью, чтобы увидеть его. Но не застал.
Новое правительство заключило мирный договор с Германией, но тем временем началась Гражданская война, красные (большевики) сражались против белых, уничтожались целые города и поселки. Черновицкое пострадало не так сильно, но напуганный отец Мышонка решил увезти семью в Бразилию, тем более что там уже обосновались родственники.
Мышонок ехать не пожелал. Мое место здесь, повторял он, я хочу участвовать в революции, в построении нового общества. Таков был его долг перед Ёсей, во второй раз он не имеет права сплоховать, теперь-то он выполнит задание. С матерью случился нервный припадок, она кричала, что покончит с собой, если сын с ними не поедет. Мышонку пришлось уступить. В один прекрасный вечер семья покинула местечко, забрав с собой минимум вещей. Они переправились через реку (их вез тот же лодочник, но на этот раз он помалкивал), в Румынии сели на поезд до Гамбурга. Оттуда на старом грузовом судне отплыли в Бразилию.
Поселились Кантаровичи в Порту-Алегри. Мой дед, Исаак Кантарович, открыл маленькую швейную фабрику. Он предложил брату присоединиться, но Беньямин на это не пошел: он не мог позволить себе присваивать прибавочную стоимость, эксплуатировать наемных работников. Нашелся в городе один портной-троцкист по имени Леополду Рибейру, которому понравилось, как работает Мышонок, и он нанял его в подручные, а потом сделал компаньоном. Многие годы они ловили каждую весточку о Льве Троцком, читали и обсуждали его книги и статьи. Мышонку этого хватало: политика была для него миром идей, миром печатного слова. Леополду стремился к большему. Он жаждал действия, революционного действия, мечтал участвовать в забастовках, строить баррикады, сражаться, штурмовать правительственные здания. Когда вспыхнула гражданская война в Испании, он решил, что его час пробил. Добровольцы со всего мира, в том числе и из родного бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, вступали в интербригады, чтобы воевать за республику. Леополду решил последовать их примеру. Жене и дочери, которых его идея повергла в панику, он объяснил, что это его долг, что жизнь бессмысленна, если не посвятить ее делу революции. Он уже купил билет, но за два дня до отъезда попал в больницу с аппендицитом, перешедшим в перитонит. В больнице он пролежал месяца два и, когда вышел, был слишком слаб для путешествия. К тому же скоро стало ясно, что у республиканцев шансов нет, так что он ограничился сбором средств для интербригад и распространением листовки, которую сам сочинил и озаглавил республиканским лозунгом «Но пасаран!»








