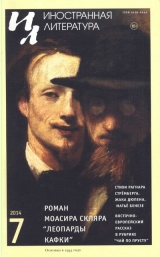
Текст книги "Леопарды Кафки"
Автор книги: Моасир Скляр
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
– Ну? – спросил старик. – Вы понимаете, что тут к чему?
– Нет, – ответил Мышонок, – не понимаю. А вы?
– Я? Да кто я такой? Если бы я был таким знатоком каббалы, как раввин Иегуда Лев, может, и сумел бы помочь: чтобы разъяснить что-то темное, нужен каббалист, они в этом мастера. Но я-то простой служка. Скажу без ложной скромности, человек я, конечно, образованный, полиглот, но признаю, что не все мне по силам. Вам надо поискать того, кто может объяснить, что здесь написано.
– Кого?
– Не знаю, – сказал старик и добавил в шутку: – Разве что Фрейд мог бы что-нибудь растолковать. Он толкует сны, может, и это смог бы расшифровать: очень уж оно похоже на запись ночного кошмара.
Он засмеялся:
– Только вот Фрейд живет далеко, в Вене… Если серьезно, не представляю, кто бы мог вам помочь.
– Ну ладно, – вздохнул Мышонок. – Все равно спасибо вам за помощь.
Он протянул старику несколько монет.
– Нет, вы ничего мне не должны. Я просто хотел помочь.
Мышонок с благодарностью попрощался.
– Приходите еще, – сказал старик. – Только без этих головоломок.
Мышонок вернулся в гостиницу. Портье глянул на него насмешливо.
– Что-то ты выглядишь озабоченным. Похоже, не получилось у тебя уладить дела… – он нахмурился. – Не забудь: у тебя шесть дней. Время идет.
Мышонок поднялся по лестнице, вошел в номер и запер за собой дверь. Он твердо решил не поддаваться унынию. В конце концов, несколько этапов уже пройдены: добрался до Праги, получил шифровку. Правда, у него не было кода, чтобы прочитать ее. Ничего, он сам вычислит код.
Он вытащил из чемодана тетрадку и карандаш и записал на идише текст так, как ему перевел его смотритель синагоги. Потом взял текст Кафки и сравнивал оба до тех пор, пока не убедился, что понимает каждое немецкое слово.
(А понимал ли? Трудно сказать. Путаный человек этот Кафка. Если бы можно было, Мышонок позвонил бы ему по телефону и пожаловался: «Не понимаю, что вы написали, товарищ Кафка. Извините, но совсем ничего не понимаю. Может быть, ваш текст – новое слово в литературе, слово, до которого большая часть читателей еще не доросла. Но позвольте спросить, товарищ Кафка, то, до чего публика не доросла, – это и есть революционное искусство? Возьмем меня. Я не интеллектуал, я простой человек, бедный еврей из местечка, верящий в революцию как в возможность изменить свою жизнь и жизнь своих близких. Разве я не имею права на то, чтобы мне что-то сказали, чтобы до меня донесли прогрессивные идеи? Мы, местечковые евреи – тоже люди, товарищ, нам тоже нужны книги. Займитесь самокритикой и подумайте в следующий раз о нас, прежде чем писать что-то вроде этих „Леопардов в храме“»).
Не потеряй он сумку, он приложил бы листок с ключом к Leoparden in Tempel и расшифровал послание. Отверстия на листке совпали бы с какими-то словами из текста Кафки. Вместе со словами, написанными на листке, эти слова составили бы правильный текст. Но что же делать, если ключа нет?
Можно для начала определить ключевые слова, слова, которые имели бы смысл при описании какого-то революционного задания. Глаголы явно не годятся: «врываются», например, ни о чем не говорит, не указывает никакого пути. Куда врываются? Когда? Как? Зачем? Мышонку нравилось слово, казалось таким дерзким, революционным, но приходилось признать, что само по себе оно не имело смысла. Ни прогрессивное «врываться», ни реакционное «повторяться» ни о чем конкретном не говорили. Лучше сосредоточиться на существительных, с прилагательными и без. В конце концов, все конкретное может быть названо.
После долгих раздумий он подчеркнул «леопарды», «храм», «жертвенные чаши» и «обряд».
Итак, леопарды.
Мышонок никогда не видел леопарда. Ни тигра, ни льва, ни пантеры – ни одного из этих грозных зверей. В местечке много говорили о волках, приезжие их боялись, но даже волка Мышонок не видел ни разу. Его представления о дикой природе ограничивались иллюстрациями в старой детской книжке на русском языке под названием «Путешествие по Африке». На одной картинке, которую он хорошо помнил, были изображены некоторые дикие представители семейства кошачьих. Но который из них был леопард? Понятно, не тот, что с гривой: тот, что с гривой, – лев. И не черный. Черный – это пантера.
Но определить внешний вид леопарда – не самое главное. Главное – понять, как леопарды могут оказаться целью некого действия во благо революции. У Мышонка на этот вопрос ответа не было. Надо было напасть на леопардов? Где? В зоопарке? А есть ли зоопарк в Праге? Да и зачем на них нападать? Что имел Троцкий против леопардов?
Может быть, речь шла о каком-то символическом действии. Леопард – дикий зверь. Капиталисты – настоящие звери, когда речь идет о наживе и об эксплуатации рабочего класса. Убийство леопарда в зоопарке могло показать капиталистам Праги, что их дни сочтены. Но, рассудил Мышонок, рабочие тоже борются, как звери, за свои права, когда объявляют забастовку. Как отличить звериную ярость одних от звериной ярости других? Надо оставить около мертвого леопарда записку, в которой бы говорилось, что животное умерщвлено, дабы служить примером власть имущим?
Но, может быть, речь не о настоящих леопардах? «Леопарды в храме» вполне могло быть кодовым названием – необычным названием, но разве необычное не есть революционное? – какой-нибудь пражской группы троцкистов, группы, которая должна была оказать ему поддержку при выполнении задания. В конце концов, Кафка ведь пишет, что они захватили храм, а не это ли предстояло совершить революционерам? Именно этого требовал от них неумолимый ход истории. Но то, что за этим следовало, несколько расшатывало, да нет, разрушало до основания такое стройное, казалось бы, логическое построение. Потому что леопарды захватывали храм не для того, чтобы снести его, не для того, чтобы прогнать оттуда торговцев, наживавшихся на людской доверчивости, попов, пасторов и раввинов. Леопарды бросались пить что-то из жертвенных чаш. Зачем они это делали? Речь не шла об апологии алкоголизма, потому что Кафка не уточнил, что именно было в чашах. Тогда в чем смысл? Может быть, леопарды были специально выдрессированы для защиты церковников и власти? И тогда не обозначало ли это название какую-нибудь правую группировку?
Если считать, что леопарды – это революционеры, выявляется, кстати, и еще одна несообразность: последняя фраза. Нашествие кошачьих, утверждал Кафка, становилось предсказуемым. Может ли революционер вести себя предсказуемо? Разве неожиданность – не самое важное в революционной борьбе, ведь именно она и позволяет внезапным штурмом захватить оплот власти? Что ж, выходит, леопарды обюрократились – подчеркнем: как и сам Кафка в своем казенном учреждении? Набеги хищников стали привычными и превратились в часть ритуала. Означает ли это принятие буржуазных ценностей? Или в трактовке Кафки звери приходили к власти в составе коалиционного правительства? Вот разве что так… Хм, коалиция… Коалиция – опасная вещь, и это еще слабо сказано. Коалиционное правительство, учил Ёся, возможно только в том случае, если революционная партия ни на йоту не поступается своими принципами, да и тогда коалиция может иметь только временный, переходный характер и создаваться исключительно для противостояния слишком опасному врагу. Но как только атака сильного противника будет отбита, революционерам следует избавиться от временных попутчиков и даже, если понадобится, швырнуть их (в переносном или не совсем в переносном смысле) за борт повстанческого корабля.
Таким образом, эти леопарды – звери как минимум спорные. Как прийти к какому-либо выводу относительно их природы? Мышонок попытался подключить воображение, мысленно заставив их предстать перед Судом Народа, судом, где он был одновременно и обвинителем, и защитником, и судьей. Аргументы сталкивались с контраргументами в настоящем диалектическом поединке. Внезапно явилась истина, и он в роли судьи вынес приговор: текст Кафки обличает леопардов как жестоких грабителей, разрушителей традиционных ценностей. Что ж это за грабители? Буржуазия, разумеется. В «Манифесте» об этом сказано абсолютно четко: буржуазия разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения, она потопила священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности в ледяной воде эгоистического расчета (вроде того расчета, который привел к предсказуемости леопардов). Буржуазия в своем творчестве превзошла египетские пирамиды, римские водопроводы и готические соборы – не говоря уж о прочих храмах. Для буржуазии нет ничего святого. Она весь мир лишила священного ореола. Одним словом, вывод таков: текст – метафора, основанная на «Коммунистическом манифесте», и Мышонку не следует искать группу под кодовым названием «Леопарды». Но и убивать настоящих леопардов не надо. Если хищники и должны были фигурировать в окончательном расшифрованном послании, то разве что в качестве некого ориентира. Ориентира для поиска чего? Это он узнает потом. А пока что можно перейти к следующему слову.
Храм. Тут он почувствовал более твердую почву под ногами. Любой храм, католический, протестантский, буддистский, иудейский – оплот религии. А религия – по словам Маркса – опиум для народа. Так что атака на храм имела смысл. Но почему на храм в Праге? Прага не такой крупный религиозный центр, как, скажем, Рим или Иерусалим. Возможно, среди церквей города есть какая-нибудь особо важная. Которая? И в чем ее значение? Это следовало выяснить. Как и значение жертвенных чаш, атрибута языческих храмов. Возможно, если речь идет о католическом храме, аналогом этих чаш могут быть чаши, используемые во время службы. Мышонок знал, что эти золотые и серебряные чаши, украшенные драгоценными камнями, стоят огромных денег – денег, необходимых для революционной борьбы. Состояло ли задание в экспроприации (если речь идет о революции, термин «кража» не подходит) этих чаш? Не исключено. Символический жест и вместе с тем материальный выигрыш. Смысл в этом был.
Оставалось еще слово «обряд». Не было ли целью операции помешать какому-то обряду? Но какому обряду? И где должен был проходить этот обряд? Туманно, слишком туманно. Но можно было исходить из того, что местом проведения обряда должен быть тот самый храм, о котором говорилось в тексте. Это облегчило бы поиски.
Храм, стало быть. Для практических целей – просто церковь. Другой тип храма не подходил для революционных действий. Что делать в Староновой синагоге, к примеру? Похитить старика-смотрителя? Захватить предполагаемую могилу Голема? Глупости. Если цель операции – храм, то это должна быть церковь. Но какая церковь? Надо было провести расследование в этой области, может быть, спросить в туристических конторах или попросить о помощи верующих: диалектика подсказывает, что они сами выроют себе могилу, где их и похоронят.
Он почувствовал, что проголодался: шел второй час дня, а у него с утра маковой росинки во рту не было. Он решил спуститься вниз и перекусить.
На улице обнаружился газетный киоск. Одна из газет, «Право лиду», привлекла его внимание: на первой полосе был рисунок, изображавший рабочую демонстрацию, рабочие шагали, подняв сжатые кулаки. Он спросил киоскера, что это за газета. Тот ответил: орган социалистической партии.
Соцпартия. Это натолкнуло Мышонка на одну мысль. Социал-демократов он терпеть не мог: реформисты, приспособленцы – так презрительно называл их Ёся. Но они, возможно, точно так же терпеть не могли правых. Вдруг у них удастся что-нибудь узнать о храме, где должна проводиться операция.
Он спросил у продавца, где редакция газеты. Оказалось, недалеко. Забыв о голоде, Мышонок направился прямо туда.
В маленьком помещении редакции было пусто. Только один-единственный журналист ожесточенно колотил по клавишам пишущей машинки. Мышонок подошел к его столу.
– Что вам угодно? – спросил журналист, не отрывая глаз от листа бумаги.
– Дело вот в чем… – начал Мышонок.
– Конкретнее, – потребовал журналист. – Ближе к сути. Тут газета, а не исповедальня и не колонка советов для нервных барышень. Время не казенное. Выкладывайте, что вас привело сюда.
Мышонок сказал, что он иностранец, что тоже сторонник социалистических идей (он воздержался от термина «коммунистических») и, проходя мимо, решил зайти, чтобы познакомиться с сотрудниками газеты и попросить кое-какую информацию.
– Какую информацию? – бесстрастно проговорил журналист.
Мышонок, который все еще стоял, будто на допросе, в замешательстве переступил с ноги на ногу:
– Информацию о Праге…
– Догадываюсь. Какую именно информацию о Праге?
– О некоторых местах в Праге…
– О каких местах в Праге?
– О церквах, например… Вообще о храмах…
– О церквах? Вообще о храмах? Что-то я вас не понимаю. Вы разве не сказали, что вы левых взглядов? Те, кто придерживается левых взглядов, насколько мне известно, ничего общего с церквами и храмами не имеют. Ну ладно. Что конкретно вы ищете?
– Мне говорили, – голос Мышонка от волнения стал совсем тонким, – что здесь, в Праге, есть очень богатая, роскошная церковь… Что чаши… Те, что священники используют во время мессы, вы знаете… Очень ценные чаши… Кажется, золотые…
Журналист теперь смотрел на него с явным недоверием. И Мышонок легко мог представить себе, почему. Незнакомец является в редакцию левой газеты и начинает задавать странные вопросы. Журналист имел полное право заподозрить что угодно. Он попытался исправить положение: товарищ, вы можете доверять мне, я на вашей стороне, я тоже стремлюсь к великому идеалу, желаю переделать несправедливый мир, в котором мы живем, построить новое общество, я даже могу прямо сейчас оформить подписку на вашу газету, ненадолго, потому что денег у меня немного, но, скажем, на полгода… Журналист, однако, больше разговаривать не хотел.
– Послушайте, мне все равно, левый вы или правый. Если вам нужно что-то узнать о церквах, туда и идите. Я-то при чем?
– Но…
Журналист вскочил и зарычал:
– Хватит! У меня работы невпроворот, а я с тобой время теряю. Проваливай, или я вышвырну тебя отсюда.
Мышонок вышел из редакции буквально раздавленным. Такой шанс на помощь упущен! Причем по собственной неловкости и глупости. И что теперь делать? К кому обратиться? К самому Кафке? К этому загадочному Кафке? Бесполезно. Кафка уже выполнил свою миссию, отправил текст в гостиницу, причем незамедлительно. Чего же еще у него просить? Бедному еврею из Восточной Европы, бедному еврейчику, творящему одну глупость за другой, просить у Кафки нечего. Идиот, стонал Мышонок, идиот, идиот – и больше ничего, бедный Ёся, нашел кому перепоручить задание, только в бреду могла прийти ему в голову такая нелепая идея.
Так он брел куда-то, как вдруг неподалеку от замка, что в Градчанах, набрел на старинную церковь. Вспыхнула надежда: вдруг это храм, о котором говорилось в шифровке? Зашел.
Ни разу до этого Мышонок не бывал в церкви. Впечатление она произвела на него сильнейшее. Будто из реального мира он разом перенесся в иной, странный, чуждый, подавляющий. Величественная архитектура, алтари, горящие свечи, статуи святых – все пугало его, все внушало трепет. Нет, это не то что маленькая скромная синагога в Черновицком, тем более что она и храмом-то не была, а просто ветхим и старым деревянным домишкой, где евреи собирались, чтобы помолиться, поплясать, поругаться – словом, что-то сугубо неофициальное. К тому же там всегда было шумно. А эта церковь, конечно, и была тем самым храмом. Здесь повсюду ощущалось присутствие невидимого и могущественного существа. Мистицизм пронизывал воздух, которым, казалось, становилось трудно дышать. Не то это было место, где можно действовать в одиночку. Будь рядом Ёся… Или если уж Ёси нет, так хоть «Коммунистический манифест» – и то защита… Но Мышонок был один, беспомощный, растерянный. Пришлось бороться с непреодолимым желанием выбежать на улицу, оказаться, пусть и в незнакомом городе, но среди людей, а не среди незримых и могущественных духовных сущностей.
Однако он не позволил архаичным инстинктам взять над собой верх. Евреи боятся церквей, но он здесь не в качестве еврея, он здесь – политический активист. С большим трудом взяв себя в руки, он с высоко поднятой головой двинулся вперед, к главному алтарю. Ему надо увидеть чаши, надо оценить их – не взглядом революционера, а взглядом ювелира: бывают моменты, когда, в соответствии с законами диалектики, надо совместить революционный взгляд на вещи с коммерческим – и решить, могут ли эти чаши быть целью его революционной миссии.
Он остановился перед алтарем. Самое неприятное, самое печальное, что там на огромном кресте висел Христос, Христос, которого предки Мышонка помогли когда-то к этому кресту пригвоздить. Это был явно не акт революционного насилия: Христос не толстый буржуй, расплачивающийся за то, что всю жизнь эксплуатировал трудовой народ. Нет, Мышонок видел перед собой фигуру тощую, изможденную, израненную, истекающую кровью. Абсурдная, бессмысленная жертва, жертва, которая не взывает к небесам, даже не жертва, а жалоба, обвинение, направленное против Беньямина Кантаровича. И что ж ему теперь делать? Пасть ниц и просить прощения, молить о прощении?
Нет, он не падет ниц. «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов…» Он не считал, что «мир голодных» – это про него, хотя в желудке даже и сейчас было пусто, но он из тех, из «проклятьем заклейменных», или, по крайней мере, солидарен с заклейменными проклятьем жертвами несправедливого мироустройства, и одна из этих жертв – замученный Иисус. Так что он, Мышонок, может смотреть ему в лицо без страха. Христос даже может считать его союзником: я на твоей стороне, Мышонок, я революционер, как и ты, я умер за революцию, только вот меня не поняли, понастроили в мою честь гигантских храмов, но мое место не в храмах, мое место на улицах, в полях, на фабриках и заводах; мое место – с массами, я хочу раствориться в массе, хочу быть всего лишь одним из многих, как ты, товарищ Мышонок.
Только Христос такого бы не сказал. Во всяком случае, этот Христос, выточенный из слоновой кости, из бивней слона, убитого в Африке. От этого Христа не дождешься ничего, кроме презрения, отвращения: «Вон отсюда, вонючий жиденыш, вон отсюда, пошлый коммунистишка, здесь тебе делать нечего, марш обратно в местечко, к остальным тварям. Там и сидите, дрожа, вцепившись друг в друга от страха перед погромом, пусть с вами покончат, а я буду отмщен». Но деваться было некуда: Мышонок должен был выстоять против него, против Христа и против церкви. Не с верующими он отождествлял себя, не с кающимися, но с леопардами, которые врывались в храм как победители и в конце концов заставляли с собой считаться, становились частью ритуала.
Открылась боковая дверь и священник – глубокий старик с длинной седой бородой, в очках с толстыми стеклами – вошел в церковь. С его приходом атмосфера стала не такой душной и гнетущей. Мышонок внезапно приободрился. Это был священник, но, как бы то ни было, человек, с ним можно было поговорить, хотя и на ломаном немецком, а не на родном идише. Можно было продвинуться хоть ненамного к решению задачи, расспросив его о чашах.
Священник подошел к алтарю и стал поправлять какие-то вещи, которые там стояли. Мышонок глубоко вздохнул, сделал несколько шагов в его сторону:
– Патер…
Священник обернулся:
– Да, сын мой, – отозвался он приветливо, по-отечески. Настолько по-отечески, что Мышонок растрогался.
– Патер, – повторил он дрожащим голосом, – я…
Голос его прервался. Он чувствовал себя идиотом, ему казалось, что он вот-вот упадет. Он покачнулся, патеру пришлось поддержать его, и вдруг разрыдался. Он громко всхлипывал, эхо его рыданий разносилось по всему пустому зданию, привлекая внимание тех немногих прихожан, что пришли помолиться.
Священник взял его под руку:
– Идем, сын мой, идем.
Он отвел его к исповедальне, поставил на колени. Сам сел на скамью исповедника, открыл окошко:
– Итак, сын мой, я слушаю тебя. Расскажи, чем ты опечален. Говори о своих грехах. Исповедуйся.
Придя в себя, Мышонок осознал всю нелепость ситуации. Он не знал, что сказать. Может, стоило признаться в своих ошибках («Патер, я совершил великую глупость: забыл в поезде сумку с одной важной запиской»), тогда он вышел бы отсюда с чувством облегчения, с чистой душой. Но он не христианин, он еврей левых убеждений, революционер. Не беззащитный слон, а леопард, готовый к схватке, схватке, которая преобразит мир, без всякого Страшного суда, который еще неизвестно, придет ли. Он перевел дух и сказал со всей твердостью, на какую был в этот миг способен:
– Извините, патер, но я пришел не исповедаться.
– Вот как? – удивился святой отец. – А для чего же?
– Просто взглянуть на церковь. Я иностранец, в Праге в первый раз, да вы и сами это поняли по моему акценту. Я много слышал об этом храме, поверьте, я не мог упустить возможность посетить его, – внезапно он почувствовал легкость и свободу, врать оказалось чрезвычайно просто. – Хочу вас поздравить: ваша церковь необыкновенно красива.
– Это правда, – священник не очень понял смысл этих восхвалений, но старался быть вежливым. – Церковь – одна из красивейших в Праге. И одна из самых старинных. Десятый век…
– Чаши, – продолжал Мышонок, стараясь сохранить безразличный тон, – должно быть, прекрасны…
– Чаши? – патер не понял. – Какие чаши?
– Чаши, которые вы используете, когда служите мессу… Вы не используете чаши во время мессы?
Священник начал проявлять нетерпение:
– Послушай, сын мой, тут есть желающие исповедаться, они ждут. Я бы с удовольствием продолжал беседовать с тобой о чашах и обо всем на свете, но лучше в следующий раз. А пока прошу тебя удалиться.
– Но, патер…
– Будь так любезен, сын мой.
– Патер, я…
– Будь добр, пожалуйста.
Настаивать было бесполезно. Мышонок поблагодарил за то, что ему уделили время, попросил прощения за беспокойство и отправился восвояси.
Быстро темнело. Холод был страшный – в тот год Европа переживала одну из самых суровых зим, – а Мышонок был слишком легко одет. Несмотря на это, а может быть, именно поэтому он упорно шел вперед. Он шагал среди толпы по Грабен, главной улице Праги, и злобно разглядывал упитанных богато одетых мужчин, женщин в мехах: буржуазия, сборище паразитов, пиявки. Буржуазия, однако, знала, куда идет: кто заходил в банк, кто в магазин, кто в кафе, а он вынужден был бродить и искать, сам не зная чего.
Так он и шел куда попало, как вдруг ему бросилось в глаза солидное здание с колоннами и тяжелыми, обитыми железом дверями: банк. В голове Мышонка слово «банк» немедленно ассоциировалось с Ротшильдами, знаменитой еврейской семьей финансистов, знаменитой настолько, что их фамилия стала синонимом богатства. Ах, был бы я Ротшильд, вздыхал отец Мышонка, когда мать жаловалась, что нет денег. Ротшильды не были похожи на средневековых ростовщиков-евреев, презренных и гонимых. Нет, они были банкиры, их уважали, даже пожаловали дворянским титулом.
Лишняя причина для Ёси их ненавидеть. Евреи, говорил он, никогда не сбросят путы капитализма, пока верят, что могут стать такими же богатыми, как Ротшильды. Марксизм – одна из форм борьбы с этой иллюзией, способ заменить ее реальной революционной перспективой.
Задание могло заключаться в ограблении банка. Этого банка, например. Почему бы и нет? Риск, конечно, огромен, но разве Троцкий не хотел, чтобы Ёся, подвергшись риску, показал, на что способен? Однако в записке не было ни малейшего указания на этот или на любой другой банк. У банков нет ничего общего ни с леопардами, ни с храмами. Они, конечно, храмы мамоны, но это в переносном смысле. Для очистки совести он решил все же заглянуть в банк: вдруг там обнаружится что-то связанное с содержанием записки. Входить было даже и не надо: из вестибюля, отделенного от царства капитала стеклянной дверью, все было прекрасно видно. Он взбежал по мраморным ступеням, зашел в вестибюль и заглянул внутрь. В роскошно обставленном помещении стояли столы, мягкие кресла, были окошечки, где обслуживали клиентов. Ничего особенного, но хоть одно утешение: в вестибюле работало отопление, и он чуть-чуть согрелся. Так что сразу уходить оттуда не хотелось, и он стоял теперь спиной к роскошному залу, глядя на улицу, на модные магазины напротив.
И тут он наконец увидел то, что искал.
Леопарды.
Их было два. Может, это были и не леопарды, может, тигры или пантеры: для того, кто не знаком с таксономией семейства кошачьих, задача их идентификации не так уж проста. Но у Мышонка не было сомнений: это леопарды, да, самые настоящие леопарды, и он наконец нашел их.
Вон они, на витрине изысканного ювелирного магазина: два величественных, грозных леопарда (два чучела леопардов), освещенные множеством ламп, со сверкающими оскаленными клыками и пристальным стеклянным взглядом. Декоратор воспроизвел руины древнего храма в гуще девственной сельвы. Полускрытые тропическими зарослями, леопарды как бы сторожили ритуальные предметы: маски, статуэтки богов, барабаны, маракасы. Посередине – три золотых вазы, украшенные драгоценными камнями. Леопарды, храм, жертвенные чаши – все было тут.
Взволнованный своим открытием, Мышонок помчался на ту сторону улицы и, не задумываясь, влетел в роскошный магазин.
Это вызвало удивление. Удивление и настороженность. В старой, мятой и грязной одежде, лохматый, с полубезумным взглядом, Мышонок в лучшем случае напоминал наглого нищего, а в худшем – заплутавшего сумасшедшего. Воцарилась гробовая тишина, когда он, сжав фуражку в руке, остановился, озираясь, посреди магазина, не зная, что делать дальше.
– Вам здесь что-то надо, сударь?
Он обернулся. Один из двух швейцаров, крупный мужчина с огромными усами, недоверчиво на него уставился. Смутившись, Мышонок забормотал, что ему ничего не надо, что он просто зашел узнать… Швейцар перебил его:
– Выйдите отсюда немедленно.
И, прежде чем Мышонок успел возразить, схватил его за локоть и потащил к выходу. Мышонок вырвался и прямо посмотрел ему в глаза:
– Я всего лишь хочу задать вопрос. Я не собираюсь никого беспокоить, никому причинять неудобств. Но не выйду отсюда, пока его не задам.
Итак скандала избежать не удалось. Хуже всего, что сцена привлекла внимание посетителей и продавцов, и они, застыв, ждали дальнейших событий. Задетый за живое швейцар расправил грудь и приготовился действовать, причем действовать, без сомнения, жестко.
– Оставьте его, Карел.
Молодая девушка вышла из-за прилавка и направилась к ним. Элегантно одетая, как и все остальные продавцы, тоненькая, маленькая, она не была красавицей: нос и рот великоваты, глаза – с косинкой. Но ее улыбка согрела сердце Мышонка. Она была первой, кто так улыбнулся ему, с самого его приезда. Она была первой, кто не смотрел на него с недоумением, первой, кто смотрел с симпатией.
– Вы хотели задать вопрос, – сказала девушка. – Можете задать его мне.
Мышонок, не спускавший с нее зачарованного взгляда, пришел в себя:
– А, да. Золотые стаканчики, которые на витрине… Что это за стаканчики?
– Стаканчики не продаются. Они – часть небольшой выставки. Знаете, иногда мы используем для этого витрину. В этом месяце тема выставки – религиозная церемония. Предметы, которые вы видите, все очень старинные, двенадцатого века примерно. Они из древнего храма на юге Африки. А сейчас принадлежат одному русскому коллекционеру, графу Иванову. Он нам их одолжил.
Значит, все было правильно. Еще одна деталь головоломки встала на место, причем важнейшая деталь, даже решающая. Стаканчики принадлежали русскому графу. К материальной ценности предметов добавлялась ценность символическая: кража их стала бы наказанием русскому дворянству, демонстрацией того, что длинные руки революции могут достать угнетателей в любой части Европы.
– Вы хотели бы узнать еще что-нибудь? – спросила девушка, бросая на Мышонка взгляд, который показался ему очень многозначительным. Почти заговорщическим. Как будто девушка и вправду ждала его прихода.
– Мне бы хотелось знать, как вас зовут, – Мышонок чуть сквозь землю не провалился от собственной наглости. Но девушку вопрос не удивил, что само по себе было удивительно.
– Берта. Меня зовут Берта, – сказала она. – А вы…
– Йозеф.
– Очень приятно, Йозеф, – после паузы она добавила, подчеркивая каждое слово: – Я к вашим услугам. Если вам понадобится помощь, вы знаете, где меня найти. Я здесь целый день. Можете приходить.
Она засмеялась:
– Не бойтесь леопардов. И сторожей тоже.
– Большое спасибо, – ответил Мышонок дрожащим от волнения голосом.
Девушка протянула ему руку, маленькую мягкую и горячую руку, которую он нежно, почти подобострастно пожал, попрощался и вышел.
Он шел к себе в гостиницу, испытывая чувство воодушевления – впервые с самого приезда, – даже радости. Портье удивился:
– Приятель, тебя не узнать. Прямо другой человек. Что случилось? Провернул удачную сделку?
– Да, – ответил Мышонок с торжествующей улыбкой. – Удачную сделку провернул. Или что-то в этом роде.
Он взбежал через две ступени, вошел в номер, задвинул засов. Он ходил из стороны в сторону, страшно взволнованный. Ему казалось очевидным: несмотря на все препятствия, на все проблемы, он пришел к цели. Как леопарды, которые врываются в храм, он готов был к решительному броску. Сомнений быть не могло: все ключевые слова указывали на ювелирный магазин: леопарды, храм, чаша, даже ритуал. Легко было мысленно восстановить послание, которое он прочитал бы, если бы приложил листок с вырезанными фрагментами к тексту Кафки: Ищите ювелирный магазин в центре Праги, где на витрине выставлены два леопарда и старинные предметы из храма, в том числе три жертвенные чаши, которые использовались во время ритуала. Ювелирный магазин – высший символ капиталистической роскоши. Большой ювелирный магазин, выставляющий в витрине жертвенные чаши из коллекции русского дворянина. И последнее, но лишь по порядку, а не по значению: ювелирный магазин, стоящий как раз напротив банка. Нет более жестокого грабителя, поучал Ёся, чем финансовый капитал: ловкий и коварный, как кошка, он готов атаковать где угодно и когда угодно. Банк напротив ювелирного магазина великолепнейшее сочетание: клиенты снимают деньги со счетов, чтобы потратить их на драгоценности.
Судя по названию магазина, «Перлштикер и брат», владели им без сомнения евреи. Что тоже было частью пропагандистского послания Троцкого, ориентированного на бессознательное восприятие. Как и Ёся, он хотел оспорить традиционно сложившийся образ еврея, образ удачливого еврея. Вы должны поменять свои идеалы, как бы говорил Троцкий. Вы не будете приобретать драгоценности, не будете вкладывать средства в ценные бумаги, вы приобретете радикальные идеи, вы вложите силы в революцию. Выбирайте: богатство или марксизм. Буржуазные или революционные ценности. Отлично. Мышонку оставалось только признать: Троцкий и вправду гений. Гений, которому суждено с триумфом вернуться в Россию и взять власть – и это чистейшая правда.








