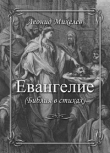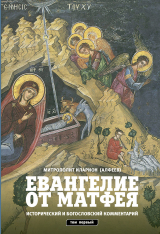
Текст книги "Евангелие от Матфея. Исторический и богословский комментарий. Том 1"
Автор книги: Митрополит Иларион (Алфеев)
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
2. Рождество
18Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.
19Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.
20Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; 21родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
22А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: 23се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.
24Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, 25и не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.
Словом «рождество» в данном случае переведен уже известный нам греческий термин γένεσις («рождение», «происхождение»), встречающийся в первом же стихе Евангелия от Матфея.
«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына»
Как понимать действие Святого Духа в рождении Иисуса и в чем смысл рождения Иисуса от Девы без участия мужа? Для евангелистов, пишущих об этом, смысл очевиден: Иисус родился сверхъестественным образом потому, что Он был не только Сыном Давида и Сыном Авраама, не только Сыном Человеческим, но и Сыном Божиим. Как Сын Человеческий Он рождается от Марии – представительницы человеческого рода. Но как Сын Божий Он рождается от Самого Бога по действию Святого Духа.
При этом Иисус никогда и нигде в Новом Завете не называется Сыном Святого Духа: Он Сын Бога Отца; Святой Дух лишь принимает участие в Его рождении, сходя на Марию, но не является Его родителем. Максим Исповедник ссылается на мнение «некоторых мужей», согласно которым, от Святого Духа, «словно от семени мужа», Иисус получил душу, «плоть же была образована из девственных кровей»[29]29
Максим Исповедник. Вопросы и недоумения 50 (PG 90, 797). Рус. пер.: С. 107.
[Закрыть]. Современные исследователи толкуют рождение от Девы более обобщенно: «Не следует понимать девственное рождение как высказывание о биологическом процессе зачатия: оно указывает на существо личности Иисуса в Его уникальном отношении к Богу как Сына Божия»[30]30
Покорны П., Геккель У. Введение в Новый Завет. С. 443.
[Закрыть].
В последующей церковной традиции сложилось устойчивое представление о том, что Иисус родился от Девы без участия мужа потому, что сам акт зачатия сопряжен с грехом, тогда как Сын Божий был свободен от греха. Из евангельского повествования это не явствует: здесь говорится о том, что Сын Девы «спасет людей Своих от грехов их», но не говорится о греховности самого акта зачатия ребенка от мужчины и женщины. Между тем, представление о том, что акт зачатия сопряжен с грехом, присутствует уже в Ветхом Завете; оно выражено, в частности, в известных словах псалма: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50:7). Речь идет не о греховности полового общения между мужчиной и женщиной: подобная идея скорее противоречит Библии, чем вытекает из нее. Речь идет о той греховной наследственности, которая передается через акт зачатия от одного человека к другому, от отца к сыну.
Эта тема присутствует в Новом Завете у апостола Павла, который проводит параллель между Адамом и Христом: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут… Первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий… Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба» (1 Кор. 15:22, 45, 47). Именно Павел развивает учение о том, что «как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12). Более чем вероятно, что евангелист Лука, будучи спутником Павла, был знаком и с Павловыми Посланиями, написанными до его Евангелия, и с их идеями, которые Павел мог высказывать в устной форме. Возможно, решение продлить родословную Иисуса до Адама и Бога было принято Лукой под влиянием учения Павла о параллелизме между первым Адамом и вторым Адамом – Христом.
Пророчество Исаии, которое приводится в Евангелии от Матфея, взято из греческого перевода Семидесяти, где действительно употреблено слово «Дева» (παρθένος). В дошедшем до нас еврейском тексте Библии здесь стоит слово naby ‘alma, означающее «молодая женщина». Уже во II в. на это расхождение обратили внимание церковные писатели: полемизируя с Трифоном-иудеем, который относил пророчество Исаии к царю Езекии, а не к Иисусу, Иустин настаивает на правильности чтения Семидесяти, где говорится о рождении Иисуса от Девы[31]31
Иустин Философ. Диалог с Трифоном 43 (PG 6, 568–569). Рус. пер.: С. 200.
[Закрыть]. Иустин даже выдвигает теорию сознательной порчи иудеями текста Священного Писания. Однако гипотеза о том, что текст Септуагинты в указанном случае содержит оригинальное чтение, тогда как евреи в эпоху после Иисуса Христа сознательно испортили текст, дабы максимально отдалить его от христианского понимания, заменив слово П51ЛП botula (дева) словом naby ‘alma, не имеет текстуальных подтверждений.
Вне зависимости от изначального чтения пророчества Исаии, для нас очевидно, что учение о рождении Иисуса от Девы было интегральной частью христианской керигмы (проповеди) с самого начала – по крайней мере, с того момента, до которого мы можем проследить истоки этой керигмы, то есть с появления новозаветных Писаний. Матфей и Лука придали этому учению литературную форму, а Иоанн и Павел вставили его в богословскую раму. Правда, ни в корпусе писаний Иоанна, ни в Посланиях Павла не говорится прямо о рождении Иисуса от Девы. Однако оба апостола, как и Матфей и Лука, уверены в том, что Иисус есть Сын Божий и что Его пришествие в мир имело необычный, сверхъестественный характер. Представление о девственном рождении Иисуса прекрасно вписывается в это богословское видение.
«И он нарек Ему имя: Иисус»
Имя «Иисус» (ישׁוע yēšûa‘ как сокращенный вариант יהושׁוע yəhôšûa‘) в переводе с еврейского буквально означает «Господь есть спасение»[32]32
Koehler L., Baumgartner W. Hebraisches und Aramaisches Lexikon zum Alten Testament. Bd. 2. S. 379. Имя У1^1П' yshosua‘ представляет собой сочетание теофорного элемента ITT yaho– с образованием от корня У1^ sw‘ («помогать», «спасать») (Ibid. Bd. 4. S. 1339–1340). См. также: Ibid. Bd. 2. S. 425–426.
[Закрыть]. Кроме того, оно созвучно и самому еврейскому слову ועה yəšû‘ā «спасение»[33]33
Koehler L., Baumgartner W. Hebraisches und Aramaisches Lexikon zum Alten Testament. Bd. 2. S. 426.
[Закрыть]: у Матфея слова «ибо Он спасет людей Своих от грехов их» являются прямым толкованием значения этого имени. У обоих евангелистов имя Иисус воспринимается как «нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве» (Лк. 2:21). Однако у Матфея Ангел возвещает это имя Иосифу во сне, тогда как у Луки Ангел возвещает его Марии наяву. Отметим, что в Евангелии от Матфея имя «Иисус» встречается около 150 раз – примерно столько же, сколько в Евангелиях от Марка и Луки вместе взятых[34]34
Burridge R. A. Four Gospels, One Jesus. P. 70.
[Закрыть].
Не всякому современному читателю понятно, почему пророчество о наречении имени «Еммануил» (Эммануил) исполняется в наречении имени «Иисус». Это становится понятным в контексте библейского понимания имени. В Ветхом Завете имя воспринималось не просто как условное обозначение того или иного лица или предмета или как совокупность звуков и букв, позволяющих отличить одного человека от другого. На языке Библии имя указывает на основные характеристики своего носителя, являет его глубинную сущность[35]35
Cullman O. Prayer in the New Testament. P. 44.
[Закрыть]. Бог в Ветхом Завете называется многими именами, при этом одно – יהוה Yahwē (Яхве, Иегова, Господь) – воспринимается как Его собственное имя[36]36
Подробнее см. в: Иларион (Алфеев), митр. Священная тайна Церкви. С. 24–39. См. также: Иларион (Алфеев), митр. Православие. Т. 1. С. 379–384.
[Закрыть]. Оно фактически отождествляется с Самим Богом и представляет собой святыню, окруженную особым почитанием. В послепленный период евреи даже перестают произносить это имя вслух в знак особого почтения к нему.
Ветхозаветное богословие имени в полной мере отражено в Новом Завете. Описанные в Евангелиях от Матфея и Луки явления Ангела Захарии, Марии и Иосифу имеют прямое отношение к богословию имени. Во всех трех случаях благовестие состоит из двух частей: Ангел сначала говорит о рождении сына, а затем о том, каким именем он должен быть наречен. Захарии Ангел говорит: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь имя ему: Иоанн» (Лк. 1:13). К Марии Ангел приходит шесть месяцев спустя с аналогичной вестью: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус». Наконец, Иосифу Ангел является во сне со словами: «…родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус».
Наречение Ангелом имени Иисусу имеет особое значение. В самом имени «Иисус» присутствует священное имя Яхве (Господь), которое теперь приобретает дополнительный обертон: подчеркивается не величие, не могущество и не слава Яхве, но Его спасительная сила. Можно сказать, что новозаветное благовестие начинается с появления нового имени Божия, которое генетически связано со священным именем Яхве, однако указывает на наступление новой эры во взаимоотношениях между Богом и человечеством. Отныне Бог для людей – не «Ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода» (Исх. 20:5), а Тот, Кто «спасет людей Своих от грехов их».
Имя «Эммануил», буквально означающее «с нами Бог», не созвучно имени Иисус, но семантически связано с ним: в обоих именах присутствует упоминание о Боге. Можно сказать, что два имени – разные по форме, но похожие по содержанию. Именно поэтому наличие обоих имен в одном и том же повествовании не вызывало вопросов ни у евангелиста Матфея, писавшего для тех, кто еще знал еврейский язык, ни у его первоначальных читателей.
К сказанному следует добавить, что во времена Иисуса многие евреи имели по два имени, из которых второе представляло собой скорее прозвище, чем имя собственное. Таким вторым именем в Евангелиях стало для Иисуса прозвище «Христос» (Помазанник), с каким Он вошел в историю.
Имя «Эммануил», однако, тоже сохранилось в церковной традиции, в частности, в некоторых литургических гимнах, а также в иконографии. «Спасом Эммануилом» называется такой иконографический тип, когда Иисус изображается в виде отрока с длинными волосами. Этот тип, присутствующий на фресках римских катакомб и мозаиках Равенны, получил достаточно широкое распространение в Византии и на Руси.
«Но когда он помыслил это»
В Евангелии от Луки рассказывается о том, как Марии явился Ангел Гавриил, о Ее смущении при виде его (Лк. 1:26–29), о Ее диалоге с ним (Лк. 1:30–38), о Ее пребываии у Елисаветы (Лк. 1:39–56). Из какого источника Лука мог почерпнуть сведения об этих событиях? Ответ напрашивается сам собой: о беседе с Ангелом ученикам Иисуса могла сообщить много лет спустя Сама Дева Мария. Такая гипотеза не кажется неправдоподобной, если учесть, что после воскресения Иисуса апостолы «единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса» (Деян. 1:12). Потрясенные смертью Иисуса и еще находясь под впечатлением от Его воскресения, они могли расспрашивать Марию о Его рождении и ранних годах жизни. Какие-то из этих рассказов впоследствии (а может быть, прямо в момент произнесения) были записаны.
Если в рассказе Луки о рождении Иисуса центральное место отведено Деве Марии, то совсем иную картину мы наблюдаем в повествовании Матфея. Здесь центральной фигурой является не Мария, а Иосиф. Мы узнаем из этого Евангелия не только о поступках, но и о мыслях Иосифа (Мф. 1:20), о том, как он получал откровение во сне (Мф. 1:22) и как ему трижды являлся Ангел (Мф. 1:20; 2:13, 19). Иосиф представлен как источник принятия решений: именно он после явления Ангела во сне берет Марию и Младенца и отправляется с ними в Египет; он же принимает решение сначала о возвращении в землю Израилеву, а затем о поселении в Галилее. Все это говорит о том, что наиболее вероятным источником информации для Матфея является Иосиф.
Каким образом эта информация была получена Матфеем? К моменту выхода Иисуса на проповедь Иосифа, по-видимому, уже не было в живых, поэтому прямое соприкосновение между ним и Матфеем практически исключено. Но были в живых «братья Иисуса», которые после Его смерти и воскресения играли заметную роль в жизни христианской общины. Не мог ли, например, Иаков, брат Господень, передать Матфею и другим ученикам то, что когда-то слышал от Иосифа о рождении Иисуса? Такую версию никак нельзя исключить, тем более, что именно с Иаковом церковное предание связывает появление памятника, в котором говорится о рождении и детских годах Марии и о рождении от Нее Иисуса. Значительная часть «Протоевангелия Иакова» тематически перекликается с первыми главами Евангелий от Луки и Матфея[37]37
См.: Vorster W. S. Speaking of Jesus. P 243–264.
[Закрыть].
«Протоевангелие Иакова» относится к числу апокрифов, не вошедших в канон Нового Завета. Появилось оно предположительно около середины II в., и апостол Иаков, как считают ученые, не мог быть его автором. Тем не менее, изложенное в нем предание вполне могло в каких-то своих частях восходить к «брату Господню», а через него – к Иосифу. Несмотря на откровенно апокрифический характер, памятник ценен тем, что представляет собой первую попытку синхронизации двух различных евангельских повествований о рождении Иисуса. При этом памятник во многих моментах дополняет повествования Матфея и Луки различными подробностями. Вот, например, как описывается реакция Иосифа, когда он увидел, что Мария беременна:
Шел уже шестой месяц, и тогда Иосиф вернулся после плотничьих работ и, войдя в дом, увидел Ее беременною. И ударил себя по лицу, и упал ниц, и плакал горько, говоря: как теперь буду я обращаться к Господу Богу моему, как буду молиться о Девице этой, ибо я привел Ее из храма девою и не сумел соблюсти?.. И встал Иосиф, и позвал Марию, и сказал: Ты, бывшая на попечении Божием, что же ты сделала и забыла Господа Бога Своего? Зачем осквернила Свою душу, Ты, которая выросла в Святая святых и пищу принимала от Ангела? Она тогда заплакала горько и сказала: чиста Я и не знаю мужа. И сказал ей Иосиф: Откуда же плод в чреве Твоем? Она ответила: Жив Господь Бог мой, не знаю Я, откуда[38]38
Протоевангелие Иакова 13. С. 21.
[Закрыть].
Эта история не вошла в новозаветный канон, но она стала фактически частью церковного предания через богослужение. В православном богослужении в канун Рождества мы находим такой текст, составленный как бы от лица Иосифа:
Марие, что дело сие, еже в Тебе зрю? Недоумею и удивляюся, и умом ужасаюся: отай бо от мене буди вскоре, Марие, что дело сие, еже в Тебе вижу? За честь, срамоту: за веселие, скорбь: вместо еже хвалитися, укоризну ми принесла еси. Ктому не терплю уже поношений человеческих: ибо от иерей из церкве Господни яко непорочну Тя приях, и что видимое?[39]39
Минея. Навечерие Рождества Христова. 1-й час. Тропарь. Рус. пер: Мария, что это, я вижу, произошло с Тобой? Недоумеваю и удивляюсь и ужасаюсь мысленно. Скройся от меня скорее. Что это, я вижу, произошло с Тобой? За честь, (которую я тебе оказывал), Ты опозорила меня, за веселье принесла мне скорбь, а вместо похвалы – укор. Больше я не смогу терпеть поношение от людей, ибо я взял Тебя от священников из храма Господнего как непорочную, и что я вижу?»
[Закрыть]
Богослужебные тексты Православной Церкви – не просто комментарий к Евангелию: нередко они повествуют о том, о чем Евангелие умолчало. В рассказе Матфея о рождении Иисуса от Девы многое осталось за кадром. Евангелист умолчал, в частности, о личной драме Иосифа: можно только догадываться о его переживаниях, сомнениях, о том, что он мог говорить своей Невесте, когда обнаружил, что Она «имеет во чреве». «Протоевангелие Иакова», а вслед за ними и богослужебные тексты пытаются в поэтической форме восстановить диалог между Иосифом и Марией. Можно относиться к текстам подобного рода как к поэтическому вымыслу, церковной риторике, а можно увидеть в них нечто большее – стремление проникнуть в чувства и переживания тех людей, чьими руками творилась священная история.
«Се, Ангел Господень явился ему во сне»
В начальных главах Евангелий от Матфея и Луки, описывающих события, связанные с рождением Иисуса, большую роль играют Ангелы. О явлениях Ангелов людям многократно повествуется в Ветхом Завете. Ангелы воспринимались не только как посланники Божии, вестники Божественной воли, но и как участники человеческой истории. Ангелы служат связующим звеном между миром людей и горним миром, в котором пребывает Бог. Участие Ангелов в событиях, связанных с рождением Иисуса, подчеркивает Его Божественное происхождение. С первых же глав двух евангельских повествований Иисус предстает как обетованный Мессия, рождение Которого приветствует ангельское воинство.
Отметим также, что в Евангелии от Матфея Иосиф четырежды получает откровение во сне (Мф. 1:20–23; 2:13, 19, 22). Откровения во сне также получают волхвы (Мф. 2:12) и жена Пилата (Мф. 27:19). Итого Матфеем описано шесть случаев откровений во сне, что отличает Матфея от трех других евангелистов, у которых подобные откровения вообще не упоминаются. Ученые усматривают в этом влияние ветхозаветной традиции, в которой снам придается большое значение[40]40
Soares Prabhu G. M. The Formula Quotations in the Infancy Narrative of Matthew. P. 185–187, 223–225.
[Закрыть].
Глава 2

1. Поклонение волхвов
1Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: 2где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.
3Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. 4И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? 5Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: 6и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля.
7Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды 8и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. 9Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. 10Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, 11и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.
12И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.
Рассказ евангелиста Матфея об обстоятельствах, связанных с рождением Иисуса, интересен не только с исторической, но и прежде всего с богословской точки зрения. Этот рассказ подчеркивает особый характер рождения Иисуса от Девы как события, выходящего за рамки обычной человеческой истории. И родословие Иисуса, и явления Ангелов, и сны Иосифа, и другие детали повествования иллюстрируют главную весть: Бог вмешался в человеческую историю, послав на землю Мессию, в пришествии Которого нашли свое исполнение надежды и чаяния богоизбранного народа.
«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском»
Иисус, согласно Матфею, родился в Вифлееме. В Евангелии от Луки местом рождения Иисуса тоже называется Вифлеем. Однако объясняют это евангелисты по-разному.
Матфей не упоминает, откуда родом были Мария и Иосиф. Он утверждает, что Иисус «родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода» (Мф. 2:1). Именно в Вифлееме, «войдя в дом», находят Марию с Младенцем волхвы, пришедшие с востока (Мф. 2:11), и именно Вифлеем и его окрестности становятся местом кровавой драмы – избиения младенцев по приказу Ирода (Мф. 2:16). Далее следует история бегства Иосифа и Марии в Египет и возвращения в Иудею, после чего Иосиф, «получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет» (Мф. 2:22–23).
Вся эта история, как мы можем предположить, продолжалась не менее трех лет, учитывая возраст убитых Иродом младенцев, к которому надо прибавить время на путешествие Святого Семейства в Египет и обратно. Из рассказа следует, что Матфей считал Вифлеем родным городом Иосифа, так как там находился его дом. Переселение в Назарет представлено как вынужденная мера.
Лука рисует иную картину. Он начинает свое повествование с рассказа о родителях Иоанна Предтечи: Захарии, священнике «из Авиевой чреды», и его жене Елисавете «из рода Ааронова» (Лк. 1:5). Их дом находился «в нагорной стране, в городе Иудином» (Лк. 1:39). Именно туда пришла Дева Мария, чтобы приветствовать Елисавету. Под городом Иудиным мог пониматься любой город, исторически принадлежащий колену Иудину, однако не позднее VI в. установилась традиция отождествления «города Иудина» с селением Айн-Карем, находящимся на юго-западе от Иерусалима (ныне в черте города)[41]41
См.: Marshall I. H. The Gospel of Luke. P. 80.
[Закрыть].
При этом сама Мария, согласно Луке, жила в «городе Галилейском, называемом Назарет» (Лк. 1:26). Об Иосифе тоже говорится, что он был «из Галилеи, из города Назарета». В Вифлееме оба они, Иосиф и Мария, оказались из-за переписи: Иосиф пришел «в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». Рождение Младенца произошло в Вифлееме, но не в доме, а в хлеву: на это указывают слова «и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Лк. 2:4–7). Слово «ясли» (φάτνη) указывает не на детскую колыбель, а на кормушку для скота, в которую был положен родившийся Младенец за неимением другого, более достойного места. В рассказе о поклонении Младенцу пастухов дважды упоминается Младенец, «лежащий в яслях» (Лк. 2:12, 16). Таким образом, согласно Луке, у Иосифа не было дома в Вифлееме, и даже места в гостинице для Иосифа и Марии не нашлось.
Далее следуют повествования об обрезании Иисуса и наречении Ему имени, а затем о принесении Его в храм. Повествования завершаются словами: «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет» (Лк. 2:39). Таким образом, у Луки промежуток между рождением Иисуса и возвращением Святого Семейства в свой родной город Назарет немногим превышает сорок дней (да и вряд ли можно было дольше прожить в хлеву).
Чье повествование в большей степени соответствует действительности и кто дает более точную информацию о том, где находился родной дом Иосифа: Матфей или Лука? Исследователи отвечают по-разному. Нельзя исключить, что Лука в данном случае более точен, потому что приводимая им геолокация событий, связанных с рождением Иисуса, более детально проработана.
Говоря о разногласиях между Матфеем и Лукой в описании событий, связанных с историей рождения Иисуса, Блаженный Августин пишет:
Относительно города Вифлеема Матфей и Лука согласны. Но каким образом и по какой причине в него пришли Иосиф и Мария, Лука повествует, а Матфей опускает… Каждый евангелист так составляет свою речь, чтобы ряд повествования не казался с каким-либо пропуском: умалчивая о том, о чем не желает говорить, так соединяет повествуемое с тем, о чем говорил, что то и другое кажется следующим друг за другом непосредственно. Но так как один говорит о том, о чем другой умолчал, то тщательно рассмотренный порядок показывает, где именно произошло это умолчание. И таким образом становится понятным, что там, где Матфей говорил о волхвах, получивших повеление во сне не возвращаться к Ироду и другим путем возвратившихся в свою страну, там он пропустил то, что Лука сообщил бывшее с Господом в храме и слова Симеона и Анны; и с другой стороны, там, где Лука опустил повествование об отправлении в Египет, о котором рассказывает Матфей, он ввел как будто непосредственно бывшее затем возвращение в Назарет[42]42
Августин. О согласии евангелистов 2, 5, 15–16 (PL 34, 1078–1079). Рус. пер.: Ч. 10. С. 66–68.
[Закрыть].
Августин, таким образом, считает два повествования о Рождестве Христовом не взаимоисключающими, а взаимодополняющими. По его мнению, Матфей лишь опускает ту историю прихода Марии с Иосифом в Вифлеем, которую излагает Лука, а Лука, в свою очередь, опускает целую серию событий, описанных Матфеем. Тем не менее, как мы видели, при всем желании невозможно полностью гармонизировать повествования двух евангелистов.
В чем причина расхождений между ними? Думается, в том, как каждый из евангелистов осмысливает описываемые события с богословской точки зрения. Мы не должны забывать о том, что Евангелия – не просто жизнеописания или исторические хроники. Каждое Евангелие – это, прежде всего, богословский трактат, в котором жизнь Иисуса помещается в определенный богословский контекст.
Евангелие – это своего рода словесная икона, в чем-то подобная византийским и древнерусским иконам «с клеймами». Особенностью таких икон является то, что в их центре размещено основное изображение, а по краям, в виде рамы, располагаются многочисленные окна (клейма) с различными побочными сюжетами. Если бы две иконы Рождества Христова создавались на основе двух евангельских повествований, то центральная композиция была бы одинаковой, а вот ряды клейм могли бы существенно различаться – как по содержанию, так и по количеству.
Лука, как представляется, знает гораздо больше деталей, касающихся истории рождения Иисуса. Эту историю он вправляет в другую историю – рассказ об обстоятельствах рождения Иоанна Крестителя. Две истории не только развиваются параллельно, но и содержат множество сходных элементов. Один и тот же Ангел, Гавриил, сначала является Захарии, отцу Предтечи, а затем Марии, Матери Иисуса. Захария, увидев Ангела, смутился (Лк. 1:12); Мария, увидев Ангела, также смутилась (Лк. 1:29). И к Захарии, и к Марии Ангел обращает слова: «Не бойся» (Лк. 1:13, 30). В обоих случаях Ангел говорит не только о рождении ребенка, но и о том, каким именем он должен быть наречен (Лк. 1:13, 31). Об Иоанне Ангел говорит: «Ибо он будет велик перед Господом» (Лк. 1:15); об Иисусе: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего» (Лк. 1:32). Захария спрашивает Ангела: «По чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных» (Лк. 1:18). Мария задает Ангелу вопрос: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?» (Лк. 1:34). Елисавете наступает время родить, она рождает сына, на восьмой день его обрезывают и нарекают ему имя (Лк. 1:57–65). Марии наступает время родить, Она рождает Сына Своего Первенца (Лк. 2:6–7), Которого по прошествии восьми дней обрезывают и дают Ему имя (Лк. 2:21). Об Иоанне евангелист говорит: «Младенец же возрастал, и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю» (Лк. 1:80). А история рождения Иисуса завершается словами: «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк. 2:52).
Наряду с очевидным и сознательным параллелизмом двух историй[43]43
См.: BoxallI. Luke’s Nativity Story. P 30–31.
[Закрыть], во многих деталях повествования Луки прослеживается мысль о том, что Иисус выше Иоанна. Иоанн чудесным образом рождается от двух бесплодных родителей, но Иисус рождается сверхъестественным образом от Девы и Духа Святого. Елисавета, мать Иоанна, приветствует Марию, Мать Иисуса, как старшую, хотя Мария значительно младше Своей родственницы по возрасту. При этом она называет Ее Матерью своего Господа (Лк. 1:43).
Рождение Иоанна становится семейным торжеством, и со словами благословения к новорожденному младенцу обращается его отец Захария: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их…» (Лк. 1:76–77). Иисуса же на сороковой день по рождении благословляет пророк и старец Симеон, говоря: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2:29–32). Если в первом случае все действие происходит в доме Захарии, на глазах у родственников и друзей семьи, то во втором – событие совершается в храме Иерусалимском, вероятно, на глазах у множества посторонних людей. Если в благословении Захарии речь идет о народе Израильском, то в благословении Симеона – не только о нем, но также о язычниках и всех народах. К Симеону затем присоединилась Анна, которая «славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2:38). Термины «спасение» и «избавление», имеющие в христианском богословии особое значение, применены только к Иисусу, но не к Иоанну.
Для Луки история рождения Иоанна Крестителя является той рамой, в которую вправлено повествование о рождении Иисуса. Матфей ту же историю вправляет в иную раму: ветхозаветных пророчеств, касающихся судьбы Израильского народа. Цитатами из Ветхого Завета сопровождаются и завершаются все основные эпизоды истории рождения Иисуса. При этом употребляются следующие формулы: «да сбудется сказанное Господом через пророка» (Мф. 1:22); «ибо так написано через пророка» (Мф. 2:5); «да сбудется реченное Господом через пророка» (Мф. 2:15); «тогда сбылось реченное через пророка» (Мф. 2:17); «да сбудется реченное через пророков» (Мф. 2:23). При помощи этих многократно повторяемых формул, у которых нет прямых аналогов ни в Ветхом Завете, ни в послебиблейской еврейской литературе[44]44
См.: Soares Prabhu G. M The Formula Quotations in the Infancy Narrative of Matthews P. 46.
[Закрыть], Матфей подчеркивает, что Иисус пришел во исполнение пророчеств: те или иные события Его жизни происходят, «да сбудется» сказанное в Ветхом Завете. Вся история рождения Иисуса изложена Матфеем так, чтобы подчеркнуть, что события развивались как бы по заранее написанному сценарию.
Соответственно, Вифлеем стал местом рождения Мессии не потому, что Мария с Иосифом пришли туда для участия в переписи, а во исполнение пророчества: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля» (Мф. 2:6). Матфей приводит лишь начало текста, который должен был быть известен его читателям. Полный текст звучит так:
И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою во Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных. Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить… И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до края земли (Мих. 5:2–4).
Из дальнейших повествований евангелистов о земном служении Иисуса явствует, что в народе Он был известен как «пророк из Назарета Галилейского» (Мф. 21:33). Похоже, факт рождения Иисуса в Вифлееме не был известен никому из тех, кто сомневался в Его мессианском достоинстве на том основании, что «из Галилеи не приходит пророк» (Ин. 7:52). О рождении Иисуса в Вифлееме Иудейском (а не в Галилее) мы узнаем из обоих Евангелий, но нигде в Евангелиях не говорится о том, чтобы Сам Иисус или Его ученики упоминали этот факт в полемике с иудеями. Иоанн приводит вопрос иудеев: «Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» (Ин. 7:42). Но он не фиксирует никакого ответа ни со стороны Иисуса, ни со стороны Его учеников. Галилейское происхождение Иисуса было одним из факторов, способствовавших тому, что иудеи не признавали Его за Мессию: они не могли поверить, что какой-то Галилеянин (Мф. 26:69; Лк. 23:6) мог быть тем самым Мессией, которого предсказывали пророки и который, конечно же, должен был родиться в пределах Иудейских, в городе Давидовом[45]45
О том, как галилейское происхождение Иисуса соотносилось с бытовавшими в Его время мессианскими ожиданиями, см., в частности: Freyne S. Galilee and Gospel. P. 230–270.
[Закрыть].
Матфей ставил перед собой задачу ответить на эти недоумения и представить Иисуса прежде всего как Того, о Ком писали и говорили пророки. Вот почему для него было важно с самого начала показать, что Вифлеем был не просто местом, где Он родился в силу стечения обстоятельств, но городом, в котором находился дом Иосифа, Его законного отца.