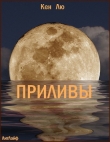Текст книги "Страна приливов"
Автор книги: Митч Каллин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Спящий и мертвый
друг с другом схожи.
Эпос о Гильгамеше
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1
В мой первый вечер в деревне я вприпрыжку спустилась с крыльца фермерского дома – внутри остался отец, и включенное радио, и мой маленький неразобранный чемодан со светящимися цветочными наклейками – и пустилась на поиски перевернутого школьного автобуса, который я заметила из окна второго этажа. По обе стороны узкой извилистой тропинки – наверное, коровы протоптали – стояла джонсонова трава выше моего роста, поэтому я шла, вытянув перед собой руки, чтобы чувствовать упругие стебли и щекотные колосья.
– Ты гнешься, потому и не ломаешься, – шепотом запела я строчку из песни, которую написал обо мне отец, и зажмурилась от удовольствия, чувствуя, как колосья хлопают меня по ладоням. – Ты гнешься, потому и не ломаешься, ты только отдаешь, но не умеешь брать, Джелиза-Роза, и я не знаю, что могу для тебя сделать.
И так я шла и шла по коровьей тропе, сворачивая то влево, то вправо, то опять влево, пока не оказалась на лугу, сплошь заросшем лисохвостами и отцветающими колокольчиками поздней весны. Ветерок шелестел во влажной траве, и небо уже начинало тускнеть. Но невысокие колокольчики еще излучали свет, и поэтому я осторожно переступала через них, направляясь к центру луга.
За моей спиной качалась джонсонова трава.
Передо мной грудой ржавого металла лежал перевернутый автобус – покореженный корпус в лохмотьях краски, стекла почти все выбиты, а те, что остались, почернели от копоти. Колокольчики были повсюду, прорастали даже сквозь смятую крышу автобуса, хотя там они были чахлыми и понурыми, как нелюбимые дети. В воздухе так сильно пахло люпинами, что я даже остановилась, не дойдя до автобуса, и поднесла к носу пальцы, чтобы заглушить цветочный аромат знакомой кислой вонью нестираного платья.
Распахнутая настежь автобусная дверь зияла зловещим провалом. Вглядевшись, я различила за ней оплавленное рулевое колесо, полопавшуюся обивку водительского сиденья, сквозь которую торчали пружины и клочья чего-то мягкого. Запах дыма, горелой пластмассы и ржавого железа заполнил мои ноздри. Мне уже исполнилось одиннадцать, но за всю жизнь я ни разу не бывала внутри школьного автобуса. Я и в школе ни разу не была. Так что я протиснулась в перевернутую дверь, глянув на ступеньки над головой, и с восторгом прислушалась, как хрустят под моими кроссовками осколки битого стекла.
Выглянув в перевернутое вверх тормашками окно, я помахала рукой джонсоновой траве, будто мои родители махали мне, стоя на краю тротуара. Потом прошла в дальний конец автобуса, села на пол и стала представлять, как будто в салоне полно румяных ребятишек, которые сидят на обгорелых креслах, смеются, болтают, надувают пузыри из жевательной резинки, пускают бумажные самолетики, и я еду вместе с ними в школу.
С моего места мне был виден второй этаж фермерского дома – первый скрывала высоченная джонсонова трава. Наверху, в третьем окне фронтона, горел свет. В сумерках старый дом казался не серым и обветшавшим, а коричневатым, почти золотистым, скаты проржавевшей металлической крыши отражали солнечный свет, а возле трубы висела крошечная, с ноготь большого пальца, луна.
Скоро повсюду на лугу стали появляться яркие мигающие вспышки, лимонно-желтые огоньки. Это прилетели светлячки, как и предсказывал мой отец, и я смотрела на них, приоткрыв от удивления рот и нетерпеливо ерзая ладонями по подолу платья. Мне хотелось выбежать из автобуса, чтобы поздороваться с ними, но они сами влетели внутрь. Дюжины крохотных бликов материализовались вокруг меня, впорхнув через разбитые окна, и мрачный автобус повеселел.
– Я Джелиза-Роза, – сказала я, подпрыгивая на скрещенных ногах. – Здравствуйте.
Они заморгали, как будто поняли; и чем больше я говорила, тем чаще они моргали, по крайней мере так мне казалось.
– Вы идете в школу. И я сегодня тоже иду в школу.
Напрасно я протягивала руки, пытаясь схватить ближайшего ко мне светлячка; каждый раз, когда я раскрывала ладонь, в ней ничего не было. Так ни одного и не поймав, я решила, что буду давать светлячкам имена, как только кто-нибудь из них мигнет.
– Ты Майкл. А ты Энн. И ты тоже Майкл? Нет, подожди, ты будешь Барби. А это Крис. Вот Майкл.
Автобус вдруг заполнился детьми, которых придумала я сама.
– Сегодня мы отправляемся в большое путешествие, – сказала я им. – Я волнуюсь не меньше вашего.
Солнце почти село. И, если бы не поезд, который меня напугал, я бы, наверное, просидела в автобусе всю ночь, разговаривая со светлячками. Но поезд без всякого предупреждения загрохотал рядом, земля задрожала, и я закричала. Я ведь понятия не имела о том, что в густой траве прямо за лугом скрывается железная дорога, и о том, что каждый вечер в 7:05 по ней проносится пассажирский поезд, сотрясая старый дом.
На миг мне показалось, что земля завертелась быстрее. Поднятый поездом ветер ворвался в автобус, растрепал мои засаленные волосы. Прищурившись, я различила расплывчатые серебристые полосы спальных вагонов и вагонов-ресторанов, в чьих окнах мелькали силуэты людей, потом пронеслись багажные вагоны и, наконец, служебный вагон, с крыши которого, как мне показалось, одинокая фигура махала рукой.
Потом поезд кончился, а вместе с ним исчезли светлячки, которых ветром унесло в поля. Я была одна и по-прежнему визжала от ужаса. По неосторожности я прикусила нижнюю губу так, что лопнула кожа, и я почувствовала на языке вкус крови. Кругом снова все стихло, и только легкий ветерок шевелил высокую траву да трое или четверо сверчков вразнобой настраивали свои скрипки, готовясь к ночному концерту.
Я посмотрела на старый дом, зная, что в гостиной неподвижно сидит и ждет моего возвращения отец. Потом я внимательно оглядела колышущиеся заросли джонсоновой травы, которые в сумерках показались мне еще темнее. Тут живет Болотный Человек, подумала я, вытирая с губы кровь. И решила, что лучше убраться из автобуса до полной темноты. Надо вернуться к отцу, пока Болотный Человек еще спит.
Пора было разбирать вещи.
Глава 2
Когда я вошла в гостиную, отец сидел все в той же позе, в какой я его оставила, – погруженный в опиумный транс, он расправил плечи, стиснул ладонями колени, пятки поставил на пол параллельно друг другу. Его кожаное кресло с высокой спинкой было повернуто к стене, глаза закрывали огромные солнечные очки, которые всегда напоминали мне маску Одинокого Рейнджера.
– Ну, тогда ты – Тонто, – часто говорил он мне дома, в Лос-Анджелесе. – Моя девочка – голливудский индеец.
– Я не Тонто, – отвечала я.
– А кто же ты тогда?
– Не знаю кто, но не Тонто.
И это всегда его смешило. Он ухмылялся, а иногда хлопал себя пальцами по губам и делал так: «Ууу, ууу, ууу», как индейцы по телеку.
Иногда я подхватывала игру и с воплями носилась по квартире до тех пор, пока полоумная тетка под нами не начинала колотить в потолок шваброй.
Но в тот вечер в фермерском доме мой отец сидел, сжав зубы, и две морщины, глубокие, как у старика, тянулись от уголков его губ вниз, убивая всякую возможность улыбки. Так что я ничего не стала говорить ни про Одинокого Рейнджера, ни про школьный автобус, ни про то, как меня напугал поезд. Я вообще ничего не говорила, а только тихо стояла рядом с его креслом и покусывала треснувшую губу верхними зубами, отчего мне было больно и приятно.
Ночь окутала гостиную, сделав ее мрачной и чужой. Без солнечных лучей, льющихся в окно и заглядывающих в каждой уголок, без решетчатой тени от рамы на полу комната уже не казалась такой приветливой, как днем. Даже когда я щелкнула выключателем – пыльная голая лампочка загудела под потолком – и на цыпочках пошла назад к креслу, у меня было такое ощущение, точно вокруг что-то изменилось; так бывает, когда идешь сквозь летящие по воздуху тонкие осенние паутинки, но не видишь и даже не чувствуешь их.
А еще вид отца, уставившегося в стену, где висела потрепанная карта Дании, напомнил мне фотографию Болотного Человека, которую он как-то показывал мне дома. Было уже за полночь, я спала, но он растолкал меня со словами:
– Слушай, мне надо тебе кое-что рассказать, а то забуду. Болотная вода обладает странными свойствами. Люди лежат в ней по несколько тысяч лет и не гниют. Ну, то есть они, конечно, коричневеют, сморщиваются и все такое, но больше ничего с ними не происходит.
Потом он раскрыл библиотечную книжку и ткнул пальцем в черно-белую фотографию: человек железного века, извлеченный в ходе археологических раскопок из торфяника, где он лежал на глубине девяти футов, на его голове была остроконечная шапочка из кожи, вокруг талии – пояс из звериных шкур.
– В книге сказано, что его убили две тысячи лет тому назад, – прошептал он, обдавая меня запахом бурбона.
Тогда я приподнялась на локте и, устало моргая, начала разглядывать хорошо сохранившиеся костлявые останки Болотного Человека, который лежал на боку на мокрой земле и как будто спал: его ноги были согнуты в коленях, скрещенные руки прижаты к животу, подбородок упирался в грудь. На лице застыло выражение добродушия: прикрытые глаза, оттопыренные губы.
– Его убили? – переспросила я.
– Повесили, а потом сунули в какое-то датское болото. Так что перед тобой тип мертвее мертвого.
– А кто его убил?
– Кто знает, – ответил он, захлопывая книгу. – Остается только надеяться, что через пару тысяч лет мы с тобой будем выглядеть не хуже. Это я и хотел тебе сказать.
Потом он поцеловал меня слюнявыми губами в лоб и сказал, чтобы я ложилась спать, а то и мать, и все болотные люди в мире ужасно рассердятся. А когда он, пошатываясь, выходил из комнаты, я попросила его не выключать свет.
– Ладно, детка, – сказал он, – не буду.
Но и свет не очень-то помог. Картинка преследовала меня, как кошмар, и я не могла заснуть несколько часов подряд.
А несколько ночей спустя мне приснилось, что Болотный Человек материализовался в моей спальне и пытается задушить меня подушкой. Веревочная петля перечеркивала его шею, сдавливая горло, обрывок веревки змеей извивался по его груди. А когда он нагнулся ко мне с подушкой в руках, я, наверное, закричала во сне, потому что, когда я открыла глаза, надо мной стоял отец и убирал с моего лица волосы, прядь которых умудрилась как-то залезть ко мне в горло.
– Что это с тобой? – спросил он полушепотом. – Кошмарики снятся?
И взял меня на руки.
Я обхватила его руками за шею, уткнулась лицом в его футболку, и он понес меня в комнату, где спала мать. И, помню, я тогда подумала, что не родился еще такой болотный человек, который справился бы с моим отцом.
Но здесь, в доме, о Болотном Человеке напоминала не только карта, но и лицо моего отца – бесстрастное, все в складках и морщинах, неподвижное, как будто пролежало в банке со спиртом тысячу лет. «Конский хвост» из перетянутых резинкой черных волос свешивался через его плечо на обтянутую водолазкой грудь. В свои шестьдесят семь – почти на сорок лет старше матери – он был поджарым, а его руки остались крепкими и мускулистыми. В тишине гостиной нетрудно было представить, будто он и есть человек железного века, которого только что вытащили из-под земли, посадили в кожаное кресло и повернули лицом к стене, так что его неподвижные зрачки за стеклами темных очков навеки впились в карту геогностических условий Дании.
– Слушайте-ка сюда, – сказал он как-то утром за завтраком своим протяжным южным говором.
Мы с матерью сидели тут же, за обеденным столом, – редкий случай, когда все трое бодрствовали одновременно.
– Тихая, уединенная жизнь в Дании – вот чего нам не хватает. Вот что я надумал.
Он и его группа «Блэк Коутс» играли всю ночь, сначала в одном клубе в Западном Голливуде, потом в другом, а под утро он вернулся домой и принес пакет печенья со вкусом яичницы с ветчиной и сыром из «Макдональдса».
Скорчив гримасу, мать опустила надкушенное печенье и сказала:
– Ну и что нам там делать, в этой твоей Дании? Ты хоть был там когда-нибудь? – Потом перевела взгляд на меня и проворчала: – И как только такое дерьмо ему в голову приходит?
Вопрос не требовал ответа, так что я продолжала молча есть.
Слегка нахмурившись, он сказал:
– Я просто подумал, что, может быть, нам лучше переехать куда-нибудь, где нет телефона. Никто не будет знать, что мы там, и если кому-нибудь захочется меня выследить, то ни меня, ни тебя, ни Джелизу-Розу они не найдут.
– Я никуда не поеду, – сказала мать, проглатывая последний кусок, – даже не пытайся меня уговорить. Дурацкая идея.
– Ну ладно, как хочешь, – ответил он. Не глядя ни на нее, ни на нетронутое печенье на своей тарелке, он уставился прямо на меня и подмигнул. – А мы с Джелизой-Розой, наверное, съездим. Ты как, а?
Я пожала плечами и улыбнулась с набитым ртом.
Мать тряхнула волосами:
– Ной, ты со своей говнюхой можешь убираться когда вздумается. Мне плевать.
Когда она встала, ее халат распахнулся, и она сбросила его на пол одним движением плеч. Рыхлая белизна ее тела содрогалась, когда она выходила из-за стола.
Отец наклонился вперед и прошептал:
– Твоя мать – норвежская королева Гунхильда, вдова короля Эрика Кровавого Топора. Король Харальд пообещал жениться на ней и обманом заманил ее в Данию, она поехала, а ее утопили в болоте. Не очень-то это было красиво с их стороны.
– Совсем некрасиво, – сказала я.
– Думаешь, она это заслужила?
– Нет.
– Нет, – повторил он, разглядывая печенье, – наверное, не заслужила.
Его плечи поникли, а заросший щетиной подбородок навис над тарелкой.
В тот день, когда мы с отцом сбежали наконец из города, он сказал, что земля Ютландии ждет нас. В его рюкзаке лежала карта, которую он вырвал из библиотечной книжки. И когда мы сели в «грейхаундовский» автобус и поехали на восток, глядя, как проплывают за его тонированными стеклами пальмы и многоквартирные дома, отец вытащил ее и расстелил на коленях. Трясущимся пальцем он указал нашу цель – Западную Ютландию, где в глубине великих бескрайних равнин спят болотные люди.
Потом он аккуратно сложил карту и убрал ее в рюкзак, рассеянно шепча:
– Я вижу перед собой ее темные берега, убранные прекраснейшими цветами из садов Создателя, я вижу мужчин и женщин Дании, которые приветствуют солнце мая, встающее на востоке. Я слышу их приветственную песнь – песнь свободы, которую сложил датский народ. Я слышу, как волны разбиваются о датский берег, вторя торжествующим голосам людей.
Я знала, что он вот-вот отключится, как всегда после фортрала, сильного болеутоляющего средства, которое помогало ему держаться на ногах, – так он, по крайней мере, говорил. Но мне было все равно. Я радовалась, что куда-то еду. А еще мне было весело оттого, что королева Гунхильда не смогла поехать с нами, пусть даже приехали мы всего лишь в Техас, а вовсе ни в какую не в Данию.
В тот первый вечер в старом доме я, встав между отцом и висящей на стене картой, спросила:
– Папа, а Ютландия похожа на Техас?
Но он ничего не слышал, так что говорить с ним было бессмысленно. Его дыхание стало неглубоким. А мне хотелось спать.
Выходя из гостиной, я представила, как будто я – это Алиса и лечу все вниз, вниз и вниз по кроличьей норе. Больше всего в «Алисе в Стране Чудес» я люблю это место: «Вот это упала так упала! Упасть с лестницы для меня теперь пара пустяков. А наши решат, что я ужасно смелая».
Я часто просила отца почитать мне его, и он высоким девчачьим голоском говорил: «Дина будет меня сегодня целый вечер искать».
– Диной звали ее кошку, – говорила я.
– Надеюсь, они не забудут налить ей молочка в обед. Ах, Дина, милая, как жаль, что тебя со мной нет. Правда, мышек в воздухе нет, но зато мошек хоть отбавляй! Интересно, едят ли кошки мошек?
Тут Алиса почувствовала, что глаза у нее слипаются. Она сонно бормотала:
– Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек?
Иногда у нее получалось:
– Едят ли мошки кошек?
Алиса не знала ответа ни на первый, ни на второй вопрос, – подхватывала я, зная наизусть каждую строчку, – и потому ей было все равно, как нос ни повернуть. Она чувствовала, что засыпает. Ей уже снилось, что она идет об руку с Диной и озабоченно спрашивает:
– Признайся, Дина, ты когда-нибудь ела мошек?[1]Note1
Л.Кэррол. Алиса в Стране Чудес. Пер. Н.Демуровой
[Закрыть]
Вот и в ту ночь в старом доме я, поднимаясь наверх, думала об Алисе.
Она боялась, что пролетит всю землю насквозь, и представляла себе, как смешно будет оказаться среди людей, которые ходят вниз головой. А еще она не будет знать, где она, так что придется спросить у них, как называется их страна. Новая Зеландия? Или Австралия? Но уж, наверное, не Дания, ведь путь в нее лежит не через кроличью нору.
Глава 3
Мой единственный матрас был без простыни. Не было ее и на двуспальной кровати, куда отец кинул свой рюкзак. Наши комнаты на верхнем этаже разделяла ванная, единственная во всем доме, но в ней не было воды. А когда мы приподняли крышку унитаза, оттуда вырвалась такая едкая вонь, как будто где-то в трубе застряли тухлые яйца.
Отец сказал, что придется копать новый колодец. Он говорил, что тут вообще много чего придется сделать.
– Двор надо привести в порядок, – сказал он на второй день нашего путешествия в «грейхаунде». – Мать, пока была жива, нанимала парнишку полоть сорняки и подстригать траву. На чердаке жили белки, но я от них избавился, а то они постоянно грызли проводку и все на свете. К тому же по утрам они вечно устраивали жуткий тарарам, и вообще меня всегда бесило, что они там. Правда, мать их любила. Говорила, что с ними в доме не так одиноко.
Она была права: дом просто пропитан одиночеством, – наверное, потому, что стоит на отшибе. Я часто удивлялась, как это отец позволял своей матери жить там совсем одной. Он купил для нее этот участок в 1958-м, сразу после того, как его третий гитарно-инструментальный сингл «Беглец джунглей» попал в верхнюю десятку. Построили этот дом несколькими годами раньше, а бабушка жила в нем до 1967-го, пока не упала с крыльца и не сломала бедро, после чего умерла в местном доме для престарелых.
– Я тогда подумывал продать дом, – рассказывал мне отец в автобусе, – да моя вторая жена отговорила. Теперь я этому рад.
Дом стал для него убежищем, местом, где можно было спрятаться от всех и сочинять музыку. Он отключил телефон, продал бабушкин телевизор. К тому времени, когда мне исполнилось одиннадцать, у него уже вошло в привычку, прихватив с собой гитару «рикенбакер», садиться за руль «бьюика-ривьера», уезжать на юг и пропадать там по несколько месяцев кряду. Только раз он позвал с собой меня и мою мать, но она сказала:
– Да пошел ты, Ной! Твой Техас – подмышка вселенной. Когда решишь, что Рокочущий и без тебя никуда не денется, возвращайся, мы будем ждать тебя здесь.
«Рокочущим» дом назвала бабушка, не знаю даже почему. Она умерла еще до моего рождения, так что спросить я не успела. Может, это она так шутила, особенно учитывая то, что соседние каменоломни постоянно отравляли жизнь; там, что ни день, динамитом взрывали породу, от взрывов, как от грома, дребезжали оконные стекла, и всякое ощущение уединенности тут же исчезало.
– Когда я покупал для нее этот участок, – объяснял отец, – то предупредил, что она всегда сможет продать его тем же каменоломням, если захочет. По-моему, продай она весь известняк, что лежит под домом, неплохой навар бы вышел. Только у нее и в мыслях ничего такого не было. Ведь и дом и земля были вроде как подарком, так что, по ее мнению, продавать их было бы невежливо. Кое в чем она была жуткой чистюлей, например, ни разу не садилась за руль того голубого «кадиллака», который я ей подарил, – на ее вкус, машина чересчур броская. Зато мы с тобой могли бы на нем сегодня прокатиться.
Поездка в автобусе отца взбудоражила. От долгого сидения у него разболелся позвоночник, который он повредил, когда упал в Чикаго со сцены спиной вперед. Но теперь, когда он сидел на игле, выбирать ему было не из чего. Свой драгоценный «бьюик ривьера» с белыми боками он давно сменял на полную коробку разных таблеток: там были памерган, дексоморамид, диконал, ДФ-118, фортрал и метадон, который особенно любила моя мать. Так что когда мы приехали во Флоренцию, маленький городок милях в десяти от дома, отец застонал, забрасывая рюкзак за спину.
Потом он подал мне мой сияющий чемодан и сказал:
– Как насчет небольшого пикника?
– Пицца, – ответила я серьезно.
– Кто это ест пиццу на пикнике! – проворчал он. – Пора бы уже знать.
– Но ведь пикник не настоящий, – сказала я, идя за ним по проходу.
– Придется обойтись сандвичами. Их всегда берут с собой на пикник. Значит, будут сандвичи.
В продуктовом магазине на Мейн-стрит мы потратили последние деньги на соленую рыбу, чудо-хлеб, арахисовое масло и две бутылки воды по галлону каждая. Одно время мой отец был фигурой довольно известной, но в лицо его знали далеко не все. Тем не менее эффект от нашего появления в магазине мог сравниться разве что с какой-нибудь сценой из черно-белого вестерна, когда распахивается дверь и в салун входит стрелок; едва мы двое – чумазая девчонка и бледный длинноволосый мужчина в огромных солнечных очках – переступили порог, как все головы тут же повернулись к нам, а языки замерли.
Хотя, по правде сказать, в магазине почти никого не было. Во всяком случае, я помню только круглолицего коротко стриженного мальчишку-упаковщика и двух девчонок школьного возраста на кассе: одну латиноамериканку, а другую – белую, обе щеголяли лакированными челками, которые дыбом стояли у них надо лбами.
– Который час? – спросил мой отец.
– И-и-извините, нет ча-ча-часов, – про-заикался парень в ответ, судорожно дергая нижней челюстью и губами. – Часа четыре, наверное.
– Почти четыре тридцать, – ответила чернявая девушка.
– Значит, вы еще работаете.
– До пяти. По субботам до шести.
– Вот и отлично, – сказал отец, беря меня за руку. – А где тут у вас арахисовое масло?
– Центральный проход, рядом с пастилой, налево.
Когда мы вернулись со своими покупками к кассе, отец спросил мальчика-упаковщика, не знает ли он кого-нибудь, кто мог бы нас подвезти.
Девчонки на кассе переглянулись, готовые прыснуть.
– Вам ку-ку-куда?
– К востоку от города, в сторону телефонной вышки на Сатурн-роуд.
– Я с-с-сам могу вас по-по-по-дбро-сить, – сказал парень, разворачивая бумажный мешок. – Мне ка-ка-ка-ак раз по пути, если вы по-по-по-одождете.
– Конечно, – ответил отец. – Спасибо, друг.
Дневное солнце вызолотило асфальт, и мальчишка, везя нас в своем грузовом «ниссане», надел пару черных очков с выпуклыми линзами, – правда, как мне показалось, сделал он это не столько для того, чтобы защитить глаза от ослепительного блеска, разлившегося по проселочной дороге, сколько из-за устрашающих очков моего отца. Звали его Патрик.
– Я живу с де-де-де-едом, – рассказывал он, выжимая газ до отказа, – мы с ним идем на-на рыбалку ве-ве-ве-чером, та-та-та-ак что я слегка то-то-то-ороплюсь.
Потом он спросил, кого мы навещаем и откуда приехали.
– Приехали повидать моих родителей, – соврал отец. – А живем с дочкой в Остине.
Я сидела между ними в кабине, рычаг передач торчал у меня прямо между коленей.
– Э-э-э-это хорошо, – сказал Патрик. – Остин – э-э-э-это здорово! Я здесь по-по-по-очти никого не-не-е знаю. Только что переехал из Да-да-да-лласа. Не здешний. А мой дед з-з-з-десь всю жи-жи-знь.
– Вся жизнь – это большой срок, – сказал отец.
– Д-д-д-а уж, – брызгал слюной Патрик. – Я б-бы, наверное, с-с-с-пятил, проживи я здесь так долго, как о-о-о-он.
И пока Патрик силился поддерживать разговор с моим отцом, я задрала ноги на сиденье и, приподнявшись повыше, стала разглядывать пейзаж поверх приборной доски. Вдоль дороги, которая вилась среди пастбищ, зеленых после весенних ливней, росли кедры и мескитовые деревья. Это был фермерский край. Вдали футуристическим обелиском вставала телефонная вышка, о которой говорил отец; ее красноватые металлические ребра пересекались на фоне неба, наверху время от времени вспыхивал строб.
Отец попросил Патрика повернуть на Сатурн-роуд, и скоро пикап уже подскакивал по петляющей грунтовке.
– Да-да-да-алеко?
– Примерно миля, может, две. Первые же ворота подойдут. Вот здесь можно.
Телефонная вышка осталась позади.
Слева темнела плотная группа кедров.
Справа, под низким пологом облаков, раскинулся широкий луг.
Мимо мелькали готовые к продаже участки, обнесенные заборами из колючей проволоки, на каждом висел плакат, рекламирующий «новые идеи в области семейного строительства, по умеренным ценам». Трава, почти везде объеденная скотом или скошенная, была достаточно густа, чтобы в ней могли спрятаться змеи или броненосцы.
– О-о-о-оленей здесь – море, – сообщил Патрик. – До-о-о-ождей было много, та-а-ак что еды для них на-а-авалом.
Пикап промчался мимо стада лонгхорнов[2]Note2
Лонгхорны – порода коров, которых выращивали первоначально в Англии, а теперь преимущественно в США, в южно-западных штатах.
[Закрыть] , которые нежились на солнышке у мельницы.
– До заката еще час или два, – пробормотал отец, оборачиваясь, чтобы посмотреть на коров, мимо которых мы только что проскочили.
Притормозив у длинных ворот из натянутой на каркас проволоки, Патрик спросил:
– Здесь?
– Ага, – ответил отец. – Огромное спасибо.
– Бе-е-ез проблем.
Мы выбрались из грузовика и начали разбирать вещи. Перебросив рюкзак через плечо, отец прижал к груди бумажный мешок с едой. Я взяла бутыль с водой в одну руку, чемодан – в другую, отчего одно плечо у меня сделалось чуть выше другого. Белая дорожная пыль, поднятая «ниссаном» Патрика, захлестнула нас и понеслась дальше.
Патрик сказал, что раз в неделю возит в эту сторону продукты и Рокочущий ему по пути, так что если что-нибудь понадобится, чтобы дали ему знать. Потом наклонился закрыть пассажирскую дверь и пожелал нам «уда-да-чи».
Отец кивнул ему в ответ, а я улыбнулась, но он, похоже, не заметил – он уже захлопывал дверь. Потом он развернул пикап, подняв еще больше пыли, и помчался обратно.
В зарослях мескита и кедра раздавался звон цикад. С дороги не было видно ничего, кроме травы. Она пышно разрослась вокруг Рокочущего.
– Давай, – сказал отец, ставя обутую в ботинок ногу на нижний в изгороди у ворот ряд колючей проволоки. Он прижал колючку к земле, и получился проход.
Я пролезла под изгородью, он за мной, натужно кряхтя от боли в спине. Потом мы вдвоем зашагали по размытой дождями подъездной дороге из гравия, каждый по своей колее.
– Трава все заполонила, – пробормотал он себе под нос.
Потом глянул на меня и пояснил:
– Когда на земле не пасут скот, трава становится жадной.
Через полмили, дойдя до развилки между двумя кедрами, мы увидели дом.
– Вот это да! – сказала я, подходя к отцу, который остановился у дерева. – Это что, и есть Рокочущий?
– Он самый, – ответил отец, вытирая ладонью лоб. Рюкзак лежал на земле у его ног, рядом с ним – разорванный пакет с едой.
Не сводя с дома глаз, я опустила свой чемодан и бутыль с водой на землю.
Флагшток без флага стоял почти у самой веранды, опоясывавшей весь дом. На крыше был медный флюгер, только не в виде петуха, как обычно, а в виде кузнечика. И хотя дом почти ничем не отличался от множества других фермерских домов по всему Техасу – та же островерхая крыша и отсутствие перегородок внизу, – его изъеденные непогодой доски, сухие, серые и растрескавшиеся, придавали ему особенно унылый вид. Еще не ступив через порог, я уже почувствовала, что в доме прячутся слои пыли, заросли паутины, крошки и мышиный помет, которые мы вскоре и обнаружили.
– Наконец-то дома, – сказал отец, похоже испытывая облегчение. Он скинул рюкзак, расстегнул молнию, пошарил внутри и вытащил ботиночный шнурок, на котором болтался ключ.
Меньше чем через три минуты я была уже на втором этаже Рокочущего и из окна своей спальни смотрела на перевернутый школьный автобус, а отец внизу вешал карту Дании на стену.
Наступила ночь.
Я сходила к автобусу и вернулась. Теперь я снова была наверху, отец остался в гостиной. На краю единственного матраса, с выцветшим коричневым пятном во всю середину, лежал мой раскрытый чемодан. Бережно я начала вытаскивать вещи, которые успела уложить, – атласную ночную сорочку моей матери и кучку разрозненных частей тела от кукол Барби (четыре головы, две руки, одно туловище, шесть ног; все в свое время выуженные из контейнера со всяким хламом в магазине подержанных товаров). Кроме содержимого того чемодана, тоже купленного в комиссионке, у меня было еще платье, пара трусов, носки и кроссовки, а больше ничего.
Непрерывно покусывая саднящую губу, я аккуратно разложила свои пожитки. Ночная сорочка, сложенная впопыхах, легла отдыхать на матрасную подушку – честь в моем тогдашнем представлении просто королевская. Части кукол заняли свои места вдоль подушки: сначала головы, потом руки, потом ноги и, наконец, туловище.
Потом я застегнула молнию на чемодане, с сожалением отметив, что светящиеся наклейки с цветочками уже начинают отставать, и сунула его под кровать. Пока я стояла на полу на четвереньках, на половицу упала крошечная капелька крови. Тогда я поднесла сложенную ковшиком ладонь ко рту и стала пускать в нее слюну, глядя, как тоненькая красная струйка превращается в лужицу.
– Я умираю, – с притворным ужасом сказала я, подражая голосам актрис из сериалов. – Я больше не могу жить, но мне нельзя умереть.
Я пошла в ванную посмотреться в зеркало. Выпятив нижнюю губу, я увидела на ней узенькую трещинку, из которой сочилась кровь, но, к моему разочарованию, ничего больше. Тогда я сплюнула в раковину, надеясь, что мой плевок станет вдруг большим и ярко-красным. Но он не стал. И вообще оказался почти совсем прозрачным.
– Вы будете жить,– сообщило мне мое отражение, копируя манеру телевизионного доктора. – Вас ожидает полное выздоровление.
– Спасибо, спасибо, – ответила я ему. – Вы подарили мне надежду.
Потом я открыла кран, молясь, чтобы из него вытекло хоть немного воды почистить зубы. Но ничего не произошло. «Ну и ладно, – здраво рассудила я, – все равно у меня нет с собой ни щетки, ни пасты». А когда я прижала к зубам палец и поводила им взад-вперед, как будто это была зубная щетка, из трещинки на моей губе вытекла еще одна капелька крови.
Мое отражение ухмыльнулось, и я увидела, как кровь пачкает мне зубы.
– Теперь ты вся красная, – сказала я, имея в виду свои оранжевые волосы, веснушки и гиацинты на платье.
– Просто отвратительно! – воскликнуло мое отражение с английским акцентом, заслышав музыку, которая едва доносилась из спальни отца. – Какой ужасный шум, Джелиза-Роза!
– Да, пора положить этому конец, – ответила я, поворачиваясь к зеркалу спиной.
И направилась к другому выходу, который вел в соседнюю спальню.
Когда я вошла, дверные петли заскрипели, как в каком-нибудь фильме ужасов, так что я остановилась на пороге, посасывая нижнюю губу и оглядывая комнату: рюкзак на кровати, зажженный ночник на тумбочке, тощий истоптанный коврик на полу. Отцовская спальня ничем не отличалась от моей, только матрас у него был двуспальный и пятно на нем больше. На подоконнике, в изголовье кровати, карманный радиоприемник передавал музыку: «Детка, как ты завела меня, я так завелся, что себя не помню»,– и я вспомнила, как, пока мы ехали на «грейхаунде» через пустыню, отец все время прижимал этот приемник к уху, то слушая с закрытыми глазами, а то и засыпая под музыку, новости или атмосферные помехи.