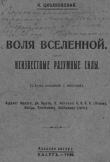Текст книги "Мир как супермаркет"
Автор книги: Мишель Уэльбек
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Мишель Уэльбек
Мир как супермаркет
* * *
Будучи изоморфным человеку, роман в принципе должен был бы вмещать в себя все человеческое. В самом деле, ошибочно думать, будто люди ведут исключительно материальное существование. Ведь они постоянно, снова и снова, так сказать, параллельно своей жизни, задаются вопросами, которые – за отсутствием более точного определения – следует назвать философскими. Я наблюдал это свойство у всех классов общества, от низших до самой верхушки. Ни физические страдания, ни болезнь, ни даже голод и лишения не могут заставить умолкнуть этот вопрошающий голос. Меня всегда поражало данное явление, а еще больше поражало наше безразличие к нему. Это резко контрастирует с тем циничным реализмом, какого вот уже несколько веков мы привыкли придерживаться, когда рассуждаем о человечестве.
А потому теоретические размышления кажутся мне вполне достойным материалом для романа, не хуже любого другого, и даже лучше многих других. То же самое относится и к дискуссиям, и к интервью, и к диспутам… И с еще большей очевидностью – к литературной, художественной или музыкальной критике. Вообще говоря, всё это должно было бы стать той единственной книгой, которую мы писали бы до смертного часа. Жизнь, построенная таким образом, кажется мне разумной, счастливой и, быть может, даже осуществимой на практике или почти осуществимой. Что, по-моему, действительно трудно сделать частью романа, так это поэзию. Я не говорю – невозможно, говорю только, что это кажется мне очень трудным делом. Есть поэзия, и есть жизнь; между той и другой иногда возникает сходство, но не более.
Что объединяет собранные здесь тексты? Проще всего ответить так: меня попросили их написать или, во всяком случае, попросили написать нечто. Все они были опубликованы в различных периодических изданиях, а потом до них стало невозможно добраться. Как сказано выше, я мог бы включить их в некий более обширный труд. Я попытался сделать это, но попытка удалась лишь отчасти. Тем не менее эти тексты важны для меня. Чем и объясняется данная публикация.
Мишель Уэльбек
Жак Превер – идиот
Жак Превер написал стихи, которые учат в школе. Из стихов явствует, что он любил цветы, птичек, уголки старого Парижа и т. д. Он полагал, будто любовь может расцвести только в условиях свободы. В более широком смысле можно сказать так: в принципе он был за свободу. Он носил кепку и курил «Голуаз»; иногда его путают с Жаном Габеном, вероятно, потому, что это он написал сценарии фильмов «Набережная туманов» и «Врата ночи». А еще он написал сценарий фильма «Дети райка», который считается его шедевром. Все это дает более чем веские основания ненавидеть Жака Превера, особенно если прочесть сценарии, написанные в те же годы Антоненом Арто, но так и оставшиеся невостребованными. Грустно констатировать тот факт, что омерзительный поэтический реализм, отцом-основателем которого был Превер, продолжает свирепствовать и в наши дни; что люди воображают, будто делают комплимент Лео Караксу, причисляя его к этому направлению (по той же логике Эрик Ромер, очевидно, должен считаться новым Саша Гитри и т.д., и т.п.). Французское кино так и не смогло оправиться от вторжения звука; рано или поздно оно от этого окончательно загнется, но не стоит его жалеть.
В послевоенные годы, примерно в то же время, что и Жан-Поль Сартр, Превер пользовался громадным успехом – поразительно, какими оптимистами были люди той эпохи. Сегодня наиболее влиятельным мыслителем был бы, наверное, Чоран. В те годы слушали песни Виана, Брассанса… Влюбленные, целующиеся на скамейках парка, беби-бум, массовое строительство дешевого жилья для всей этой публики. Сплошной оптимизм и вера в будущее и чуть-чуть идиотизма. Да, с тех пор мы явно стали умнее.
С интеллектуальным читателем Преверу повезло меньше. Хотя в его стихах сплошь и рядом попадается дурацкая игра слов, за которую так любят песни Бобби Лапуэнта; но ведь песня – это, так сказать, второсортный жанр, а интеллектуалу тоже иногда надо расслабиться. Однако по отношению к написанному тексту – то есть к тому, что для самого интеллектуала составляет основной заработок, – он беспощаден. А работа над текстом у Превера пребывает в зачаточном состоянии: он пишет ясно, прозрачно и с полнейшей естественностью, порой даже с сильным чувством. Его не заботят ни проблемы стиля, ни проблема творческой немоты; по-видимому, сама жизнь является для него неиссякаемым источником вдохновения. Поэтому вряд ли кому-то придет в голову препарировать его поэзию в диссертации. Тем не менее сегодня он причислен к сонму великих, а это все равно что вторая смерть. Его творчество перед нами завершенное и застывшее, словно памятник. Это дает прекрасный повод задуматься: почему поэзия Жака Превера настолько посредственна, что при чтении мы порой испытываем чувство стыда? Обычное объяснение (его стилю «недостает строгости и выразительности») тут не годится; с помощью игры слов, ритмической легкости и ясности Превер полностью раскрывает перед нами свое видение мира. Форма отвечает содержанию, а это максимум того, что можно требовать от формы. И вообще, когда поэт до такой степени погружен в жизнь, в реальную жизнь своего времени, было бы просто оскорбительно подходить к нему с чисто стилистическими критериями. Если Превер пишет, значит, ему есть что сказать; честь и хвала ему за это. К несчастью, то, что он имеет сказать, бесконечно глупо, иногда глупо до тошноты. Красивые обнаженные девушки, буржуа, которых надо резать, как свиней. Дети восхитительно аморальны, бандиты мужественны и неотразимы; красивые обнаженные девушки отдаются бандитам; буржуа – старые жирные импотенты с орденом Почетного легиона, их жены фригидны; священники – омерзительные старые мокрицы, которые выдумали грех, чтобы не дать нам жить полной жизнью. Все это давно известно, лучше уж почитать Бодлера. Или даже Карла Маркса, который, по крайней мере, знает, в кого метит, когда пишет: «Триумф буржуазии утопил священный трепет религиозного экстаза, рыцарского воодушевления и дешевой сентиментальности в ледяных водах эгоистического расчета».
Интеллект не помогает человеку писать хорошие стихи, но может помешать ему написать плохие. Если Жак Превер плохой поэт, то прежде всего потому, что его видение мира пошлое, поверхностное и искаженное. Искаженным оно было еще при его жизни, а сегодня никчемность Превера-поэта совершенно очевидна, так что все его творчество кажется бесконечным повторением одного и того же громадного клише. В философском и политическом плане Жак Превер – убежденный анархист, то есть, по сути дела, дурак.
Сегодня мы барахтаемся в «ледяных водах эгоистического расчета» с самого нежного возраста. Можно приспособиться, попытаться выжить, а можно безропотно утонуть. Но совершенно невозможно представить себе, что одного раскрепощения наших желаний будет достаточно, чтобы согреть эти ледяные воды. Говорят, слово «братство» было включено в девиз Республики по настоянию Робеспьера. Сегодня мы можем оценить этот факт в полной мере. Превер, без сомнения, считал себя сторонником братства, но ведь и Робеспьер отнюдь не был противником добродетели.
«Мираж»
Фильм Жан-Клода Гиге
Культурная буржуазная семья отдыхает на берегу Женевского озера. Классическая музыка, короткие, насыщенные диалогом эпизоды, панорама озера – все это может создать неприятное ощущение дежа вю. Тот факт, что девушка занимается живописью, только усиливает наше беспокойство. Но, нет, речь идет не об очередном клоне Эрика Ромера. Как ни странно, речь идет о чем-то большем. Когда в фильме постоянно соседствуют раздражающее и пленительное, редко бывает, чтобы победа осталась за пленительным; но в данном фильме именно так и происходит. Актеры не всегда убедительны, им трудно было произносить такой витиеватый, порой до смешного вычурный текст. Критики скажут, что исполнители не смогли найти верную интонацию, – возможно, это не только их вина. Попробуйте найти верную интонациюдля
такой вот фразы: «Хорошая погода с нами заодно». Только мать, Луиза Марло, безупречна от начала до конца, и, вероятно, именно благодаря ее великолепному любовному монологу (в кино любовный монолог встретишь нечасто) фильм покоряет нас окончательно. Можно простить несвязность некоторых диалогов, назойливость некоторых музыкальных лейтмотивов, впрочем, в заурядном фильме все это осталось бы незамеченным.
Взяв за основу простой и трагичный сюжет (весна, чудесная погода; пятидесятилетняя женщина жаждет в последний раз изведать плотскую страсть; но природа жестока в той же мере, сколь и прекрасна), Жан-Клод Гиге пошел на огромный риск: стал добиваться формального совершенства. В итоге получилось нечто равно далекое и от рекламного клипа, и от ползучего реализма, и уж совсем далекое от произвольного экспериментирования; в этом фильме нет изысков, есть только поиск чистой красоты. Классически ясное, простое, но не лишенное дерзости построение эпизодов находит точное соответствие в безупречной геометрии кадрирования. Все это строго и тщательно выверено, как грани у бриллианта, – в общем, редкостное произведение искусства. Редкость еще и в том, что в каждой сцене свет удивительно соответствует эмоциональному настрою. Освещение и оформление в интерьерах решены с огромным вкусом и тактом. Они держатся на заднем плане, как приглушенный, лаконичный оркестровый аккомпанемент. Только в натурных съемках на озаренных солнцем лугах у озера свет торжествует, играет основную роль, и это опять-таки абсолютно созвучно теме фильма. Живое сияние лиц, пугающее своей выразительностью, и сверкающая личина природы, под которой, мы отлично знаем, скрывается омерзительное копошение, но которую, тем не менее, невозможно сорвать, – никогда еще, скажу мимоходом, дух Томаса Манна не был передан с такой глубиной. Нам не приходится ждать ничего хорошего от солнца, но, быть может, человеческим существам все же хоть в какой-то мере удастся любить друг друга. Не помню, чтобы в кино мать настолько убедительно говорила дочери: «Я люблю тебя»; я не встречал такого ни в одном фильме.
Со страстью, с тоской, почти с болью «Мираж» стремится к тому, чтобы стать утонченным европейским фильмом. Как ни странно, он достигает этой цели, сумев сочетать в себе подлинно германскую надтреснутость с истинно французской гармоничностью и классической ясностью изложения. Да, это в самом деле редкий фильм.
Утраченный взгляд
Похвала немому кино
Говорить свойственно человеку, но бывает и так, что человек не пользуется речью. Когда ему угрожают, он весь напружинивается, быстро обшаривает взглядом пространство; когда он в отчаянии, то съеживается, свертывается клубком вокруг своего горя. Когда он счастлив, его дыхание замедляется, ритм его существования становится размашистее. Были в истории человечества два искусства – живопись и ваяние, которые попытались синтезировать человеческий опыт с помощью застывших изображений, остановленного движения. Порой они считали нужным остановить движение в такой момент, когда оно достигало некоей точки равновесия, наибольшей плавности (точки, где оно смыкается с вечностью), – это все изображения Богоматери с младенцем. Порой же останавливали движение в момент его величайшей напряженности, наивысшей выразительности – это, конечно же, искусство барокко, но есть еще и многочисленные картины Каспара Давида Фридриха, на коих мы можем увидеть замерзший взрыв. Эти искусства развивались в течение долгих тысячелетий и создали законченные произведения, в которых смогли осуществить свою самую заветную цель – остановить время.
Было в истории человечества и такое искусство, чьей задачей стало изучение движения. Это искусство смогло сформироваться за три десятилетия. Между 1925 и 1930 годами это искусство создало несколько кадров в нескольких фильмах (я имею в виду прежде всего Мурнау, Эйзенштейна, Дрейера), которые оправдывали его существование как искусства; затем оно исчезло, по-видимому навсегда.
Галки подают голосовые сигналы, предупреждающие об опасности и позволяющие им узнавать друг друга. Таких сигналов, как установили ученые, насчитывается более шестидесяти. Но галки – это исключение; по большей части мир живет и действует в устрашающем молчании; он выражает себя через форму и движение. Ветер колышет травы (Эйзенштейн); слеза стекает по лицу (Дрейер). Перед немым кино открывались необъятные перспективы: оно не было только лишь исследованием человеческих чувств; не было только лишь исследованием видов движения в окружающем мире. Наиболее важной из его задач было исследование закономерностей восприятия. В основе наших представлений лежит различение фигуры и фона, на котором мы ее видим; но также – и это труднее объяснить – различение фигуры и движения, формы и процесса ее зарождения. Наш разум ищет ее путь в окружающем мире – вот откуда это почти гипнотическое ощущение, охватывающее нас при виде неподвижной формы, порожденной непрестанным движением, как, например, застывшие волны на поверхности болота.
Что осталось от этого после 1930 года? Остались кое-какие следы, особенно в творчестве режиссеров, которые начинали работать в эпоху немого кино (смерть Куросавы будет чем-то большим, чем смерть отдельного человека); несколько мгновений в экспериментальных фильмах, в научной документалистике, иногда в серийной продукции (один из примеров – фильм «Австралия», вышедший несколько лет назад). Эти мгновения нетрудно распознать, самое присутствие слова в них невозможно, даже музыка в них производит впечатление кича, кажется тяжеловесной, почти вульгарной. Мы превращаемся в чистое восприятие; мир предстает нам в своей имманентности. И мы бесконечно счастливы каким-то странным счастьем. Такие же ощущения могут возникнуть, если влюбишься.
Абсурд как креативный фактор
«Структура поэтического языка» удовлетворяет критериям серьезности, выдвигаемым университетской наукой; но не сочтите мое замечание критическим. Жан Коэн приходит к выводу, что по сравнению с обычным, прозаическим языком, служащим для передачи тех или иных сообщений, язык поэзии позволяет себе значительные отклонения. Этот язык постоянно использует неуместные эпитеты («белые сумерки» у Малларме; «черные ароматы» у Рембо). Он не выдерживает проверки очевидностью («Не раздирайте его двумя вашими белыми руками» у Верлена; прозаический ум удовлетворенно хихикает: у нее что, есть еще третья рука?). Он не боится быть в чем-то непоследовательным («Руфь грезила, Вооз видел сон; трава была черной» у Гюго; «две констатации, между которыми не усматривается никакой логической связи», – подчеркивает Коэн). Он упивается излишествами, которые в прозе называются повторами и сурово преследуются. Совершенно вопиющий случай мы находим в поэме Федерико Гарсиа Лорки «Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу», где в первых пятидесяти двух строках слова «пять часов пополудни» повторяются тридцать раз. Для подтверждения своего тезиса автор проводит сравнительный статистический анализ поэтических и прозаических текстов (причем эталоном прозы – и это в высшей степени показательно – для него являются тексты великих ученых конца XIX века: Пастера, Клода Бернара, Марселена Бер-тело). Тот же метод позволяет ему установить, что у романтиков отступления от нормы гораздо значительнее, чем у классиков, а у символистов достигают еще большего размаха. Мы и сами смутно догадывались об этом, но все же приятно, когда это устанавливают с такой очевидностью. Дочитав книгу, мы уверены в одном: автору действительно удалось выявить в поэзии некоторые типичные отклонения, но к чему они клонятся? Какова их цель, если она у них есть?
После долгих недель плавания Кристофору Колумбу доложили, что половина провизии уже израсходована; ничто не указывало на приближение земли. Именно с этого момента его приключение становится подвигом – с момента, когда он решает продолжать путь на запад, зная, что у него уже не будет физической возможности вернуться. Жан Коэн раскрывает карты еще в предисловии – его взгляды на природу поэзии коренным образом отличаются от всех существующих теорий. Поэзия, говорит он, рождается не от добавления к прозе известной доли музыкальности (как упорно считали в те времена, когда поэтическое произведение обязательно должно было быть в стихах) и не от добавления к явному смыслу какого-либо подспудного (марксистская интерпретация, фрейдистская интерпретация и т.д.) смысла. И даже не от накопления тайных смыслов, спрятанных под буквальным (полисемическая теория). В общем, поэзия – это не проза плюс что-то еще; поэзия – это не больше, чем проза, она – нечто иное. «Структура поэтического языка» завершается констатацией: поэзия отступает от обиходного языка, и отступает от него все дальше и дальше. Тут как бы сама собой возникает теория: цель поэзии – добиться максимального отклонения, разрушить, сделать непригодными все существующие коммуникативные коды. Но Жан Коэн отвергает и эту теорию. Всякий язык, утверждает он, несет в себе функцию интерсубъектности, и язык поэзии не является исключением; пусть и по-своему, но поэзия все же рассказывает о мире – о мире, каким воспринимают его люди. Вот тут-то исследователя и подстерегает ловушка, ибо, если стремление отклониться от нормы не является для поэзии самоцелью, если поэзия и в самом деле есть нечто большее, чем поиски в сфере языка, чем игра с языком, если она и в самом деле ставит себе задачу найти для той же реальности иное словесное выражение, тогда мы имеем дело с двумя видениями мира, которые неприводимы одно к другому.
Маркиза выезжает с визитами в семнадцать минут шестого; она могла бы выезжать в тридцать две минуты седьмого; она могла бы быть герцогиней и выезжать в то же самое время суток. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Объем финансовых трансакций в 1995 году значительно вырос. Чтобы преодолеть земное притяжение, ракета при взлете должна развить тягу, прямо пропорциональную своей массе. Язык прозы приводит в некую систему различные наблюдения, доводы, факты; по сути, главным образом факты. События сами по себе произвольные, но, описанные с высокой точностью, пересекаются в нейтральном пространстве и нейтральном времени. Какой-либо оценочный или эмоциональный аспект исключен из нашего видения мира. Это идеальное воплощение мысли Демокрита: «Сладкое и горькое, горячее и холодное, как и различия в цвете, – не более чем мнения; истинны лишь атомы и пустота». Красота этого изречения бесспорна, но ограниченна, и неотступно напоминает пресловутое «Полуночное письмо», чье влияние на нас ощущается уже лет сорок именно потому, что оно соответствует демокритовой философии, и по сю пору широко распространенной среди нас; распространенной настолько, что ее иногда смешивают с философией науки вообще, хотя наука заключила с ней лишь временное соглашение – пусть даже просуществовавшее много столетий – для совместной борьбы против религиозной мысли.
«Когда низкое, давящее небо нависает над тобой, как крышка…» Эта строка, ужасающе тяжелая, как и многие другие строки Бодлера, предназначена вовсе не для передачи информации. Не одно только небо, но и весь мир, и тот, кто говорит, и душа того, кто слушает, проникнуты чувством тоски и подавленности. Рождается поэзия, мир приобретает патетическую осмысленность.
Согласно Жану Коэну, цель поэзии – создать глубоко алогичный язык, в котором заблокирована всякая возможность отрицания. В информирующем языке то, что существует, могло бы не существовать или существовать иначе в другом месте либо в другое время. Напротив, поэтические отклонения призваны создать «эффект безграничности», при котором пространство утверждения охватывает весь мир, не оставляя места для возражений. Это сближает поэзию с более примитивными человеческими проявлениями, такими как плач или вопль отчаяния. Сравнение, пожалуй, несколько далекое, впрочем, у слова, в сущности, та же природа, что и у крика. В поэзии слова начинают внятно звучать, они снова обретают свое исконное звучание, но звучание это не сводится к одной лишь музыкальности. Посредством этих слов выражаемая ими реальность вновь обретает свою устрашающую или чарующую власть, свой первоначальный пафос. Лазурь неба – это непосредственное переживание. А когда начинает темнеть, когда цвета и контуры окружающих предметов блекнут, размываются, медленно тают в густеющем сером сумраке, человеку кажется, что он один на свете. Это было с первых дней его жизни на земле, это было еще до того, как он стал человеком, и это гораздо древнее, чем язык. И вот эти-то поразительные ощущения поэзия стремится вернуть человеку. Конечно, при этом ей нужен язык, «означающее», но язык для нее – лишь средство. Жан Коэн кратко формулирует свою теорию в следующей фразе: «Поэзия – это песнь означаемого».
Как легко понять, автор, отталкиваясь от этого, приходит к еще одному выводу: некоторые способы восприятия мира сами по себе есть поэзия. Все, что помогает стиранию граней, превращению мира в однородное и нерасчленяемое целое, обладает силой поэзии (как, например, туман или сумерки). Некоторые предметы, не будучи поэтичными сами по себе, могут рождать поэзию, поскольку они, одним своим присутствием заставляя забыть о границах пространства и времени, внушают особое психологическое состояние (и надо признать, что авторские дискурсы об океане, о руинах, о корабле весьма и весьма впечатляют). Поэзия – не просто иной язык, это иной взгляд, особый способ видеть окружающий мир и все вещи в этом мире (автострады похожи на змей, цветы похожи на паркинги). На этом этапе книга Жана Коэна уже выходит за пределы лингвистики, она оказывается напрямую связанной с философией.
Всякое восприятие базируется на двух разграничениях: между объектом и субъектом, а также между объектом и окружающим миром. И суть любой философии определяется по тому, насколько четко она представляет себе эти разграничения, – таков принцип, по которому все существующие философские школы с уверенностью можно разделить на две группы. Поэзия, как полагает Жан Коэн, стремится к стиранию граней: объект, субъект, окружающий мир сливаются в единое, возвышенное лирическое целое. А философия Демокрита, напротив, придает обоим разграничениям максимальную ясность (ослепительную, как палимые солнцем белые камни в августовский полдень: «Нет ничего, кроме атомов и пустоты»).
Казалось бы, дело рассмотрено, вердикт вынесен: поэзия объявлена эдаким симпатичным реликтом дологического мышления, мышления дикаря или ребенка. Но есть одна проблема: философия Демокрита с некоторых пор несостоятельна. Точнее, несовместима с великим открытиями физиков XX века. Ведь квантовая механика исключает саму возможность существования материалистической философии и заставляет нас коренным образом пересмотреть разграничения между объектом, субъектом и окружающим миром.
В 1927 году Нильс Бор предложил то, что впоследствии было названо «копенгагенским толкованием». Результат мучительного, в чем-то даже трагичного компромисса, «копенгагенское толкование» придает важное значение измерительным приборам и процедуре измерения. В полном соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга акт познания строится теперь на новой основе: почему нельзя одновременно с точностью измерить все параметры данной физической системы? Не только лишь потому, что «измерение нарушает» эти параметры. Суть в том, что сами по себе, вне измерения они просто не существуют. А стало быть, говорить об их предшествующем состоянии не имеет никакого смысла. «Копенгагенское толкование» высвобождает акт научного познания, предлагая нам вместо гипотетического реального мира связку «наблюдатель – наблюдаемое». Оно превращает всю совокупность научной деятельности в средство коммуникации, позволяющее людям обмениваться «тем, что мы смогли наблюдать, тем, что мы узнали», говоря словами Нильса Бора.
В общем и целом физики нашего столетия остались верны «копенгагенскому толкованию», хоть это и весьма усложняло им жизнь. Если хочешь добиться успеха в повседневной исследовательской работе, то, понятно, удобнее всего встать на твердые позитивистские позиции, которые можно выразить так: «Наше дело – собрать воедино наблюдения, сделанные разными людьми, и соотнести их с определенными законами. Понятие реальности нас не интересует, поскольку не является научным понятием». И все же, наверное, неприятно бывает, когда вдруг отдаешь себе отчет в том, что вырабатываемую тобой теорию совершенно невозможно изложить внятным языком.
И тут на ум приходят странные ассоциации. С давних пор я с удивлением стал замечать, что физики, поговорив с журналистом о разных там спектрах рассеяния, пространствах Гильберта, операторах Эрмита и других подобных вещах, которым обычно посвящены их публикации, всякий раз принимаются восхвалять язык поэзии. Недетективный роман, не додекафонию, нет, их интересует, их волнует именно поэзия. Я никак не мог понять почему, пока не прочел Жана Коэна. Ознакомившись с его поэтикой, я осознал, что с нами что-то происходит и это «что-то» связано с открытиями Нильса Бора.
Перед лицом концептуальной катастрофы, разразившейся после первых открытий квантовой теории, иногда высказывалось мнение, что теперь следовало бы создать некий новый язык, некую новую логику, а может быть, и то и другое. Понятно, что прежний язык и прежняя логика не годились для отображения квантовой Вселенной. Однако Бор не соглашался с этим. Поэзия, подчеркивал он, – вот доказательство того, что искусное, а порой и допускающее противоречия использование обычного языка позволяет преодолеть его границы. Введенный Бором принцип дополнительности – это своего рода способ искусно управлять противоречием: нам предлагаются два взаимодополняющих и синхронных взгляда на мир. Каждый из них, взятый в отдельности, может быть выражен вполне однозначно ясным и четким языком, но, взятый в отдельности, каждый из них будет неверным. Их совместное присутствие создает новую ситуацию, которую разум приемлет с трудом, но, только смирившись с этим концептуальным неудобством, мы сможем получить верное представление о мире. А Жан Коэн со своей стороны утверждает, что абсурдность языка не является для поэзии самоцелью. Поэзия разрывает причинно-следственные связи, она постоянно играет с взрывоопасной абсурдностью, но поэзия не сводится к абсурду. Она – абсурд, наделенный творческой силой, она творит новый смысл, странный, но стихийный, бездонный, волнующий душу.