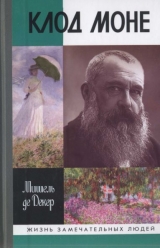
Текст книги "Клод Моне"
Автор книги: Мишель де Декер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
Несколькими днями позже, когда суд приговорил Золя к году тюремного заключения и штрафу в три тысячи франков, он снова писал Жеффруа: «Мужество Золя достойно восхищения! Это самый настоящий героизм! Я уверен, что, когда страсти немного поутихнут, это признают все здравомыслящие люди, и все согласятся, что он совершил прекрасный поступок…» На письме стоит отметка почты в Верноне и дата 25 февраля. Накануне Моне написал Золя: «Я болен, и домашние болеют, поэтому не мог присутствовать на вашем процессе и пожать вам руку, как мне того хотелось. Но я со страстным интересом следил за всеми его перипетиями и хочу сказать вам, что восхищен вашим мужественным, героическим поведением. Вы вели себя безукоризненно, и все порядочные и здравомыслящие люди, как только в умах воцарится спокойствие, воздадут вам должное. Мужайтесь, дорогой Золя!» [146]146
Национальная библиотека, Париж.
[Закрыть]
Разумеется, Золя подал апелляцию. 31 марта состоялось заседание по пересмотру дела. Много времени на него не потребовалось. Уже 2 апреля было принято решение о кассации приговора, вынесенного судом присяжных.
Но противники Золя не сложили оружия. На сей раз его вызвали в суд присяжных Версаля. Они поставили своей целью во что бы то ни стало низвергнуть авторитет писателя. И случилось худшее – 18 апреля первоначальный приговор суда получил подтверждение.
К счастью, Золя не стал дожидаться оглашения приговора. По совету Клемансо он бежал из города в автомобиле, а затем переправился в Лондон. «Намерены ли вы внести свое имя в список лиц, требующих пересмотра дела?» – обратился к Моне Клемансо.
«Я подписал протест, высказанный редакцией „Орор“, – отвечал тот [147]147
Каталог автографов, № 39, Марк Лолье, улица Сен-Пер.
[Закрыть], – я непосредственно высказал своему другу Золя все, что думаю о его смелом и прекрасном поведении. Что касается участия в каких-либо комитетах, то это, полагаю, совсем не мое дело!»
Глава 23
УТЕС
В 1898 году все крупные газеты наперебой публиковали все новые материалы, посвященные Делу. Передавали подробности обнаружения полковником Пикаром в посольстве Германии «голубой записки» – телеграммы, содержание которой компрометировало командующего Эстерхази; рассказывали о командующем Анри – том самом, кто нашел в корзинке для бумаг Дрейфуса убийственную для обвиняемого улику, ставшую причиной его высылки на Чертов остров – самый суровый в архипелаге, именуемом Островами… Спасения. Затем темой статей стало самоубийство – вынужденное? – командующего Анри в кабинете на Мон-Валерьен, последовавшее за признанием в том, что пресловутая «голубая записка» оказалась фальшивкой… Одним словом, в дни, когда общество, расколотое на дрейфусаров и антидрейфусаров, бурлило вокруг крупнейшего скандала конца XIX века, «Ревю иллюстре» в номере от 15 марта печатает пространную статью Мориса Гийемо, переносящую читателя за сотни лье от политики. «…Какой-нибудь час езды по железной дороге, с остановкой в Манте и пересечением темного туннеля под Боньером, и вот мы в Верноне. На вокзале, не обращая внимания на настойчивые крики кучеров, наперебой предлагающих свои услуги, направляюсь к поджидающему меня фургону, запряженному белой лошадью, – он-то и доставит меня в Живерни. Едем через весь городок… Это обычная провинциальная дыра, с тихими, плохо замощенными улицами. Не доезжая до новенького, с иголочки, моста – далеко не такого живописного, как старый, разобранные арки которого, сваленные каменной грудой и уже поросшие сорной травой [148]148
В настоящее время опоры старого моста почти полностью разрушились. Если ничего не будет предпринято, уже через несколько лет их можно будет увидеть только на старых гравюрах!
[Закрыть], виднеются на фоне старой мельницы, поворачиваем к въезду в Верноне, оставляем это селение с правой стороны и дальше двигаемся вверх по течению реки… Мелькают первые крыши, постепенно множась и сближаясь кучно, по сторонам дороги встают каменные поросшие мохом ограды, появляются окружающие дома фруктовые сады. Это и есть деревня Живерни. Небольшой крюк по карабкающейся в гору тропе и, миновав двуколку портомоя, останавливаемся возле дверей довольно большого дома. Его ставни выкрашены в зеленый цвет, но не того оттенка, что понравился бы Жан Жаку, а гораздо бледнее и отдающего голубизной. Просторное жилище с вытянутым в длину фасадом, простирающимся дальше, чем самые смелые мечты мыслителя из Эрменонвиля; теплицы, птичник, широкие, устроенные шпалерой, аллеи; хозяйственные постройки и так далее и тому подобное – все ясно говорит о том, что имение старое, без конца расширяемое и улучшаемое.
– Все, что я зарабатываю, уходит на сад…
Хозяин дома страстно увлечен цветоводством. Каталоги растений и буклеты садоводческих фирм он читает гораздо внимательнее, чем статьи эстетов, – и мы не станем его за это осуждать… За дорогой, чуть выше железнодорожной ветки, чьи обочины покрывает густая трава, вдоль течения ручья, журчащего меж зарослей ивняка, Клод Моне вырыл пруд, через который перебросил деревянный японский мостик. На застывшем зеркале воды, меж лилиями, плавают редкие водные растения – с широкими листьями, цветами тревожных [149]149
Особенно для местных «земледельцев»!
[Закрыть]оттенков, странно-экзотического вида. Установленные по краям пруда краны позволяют ежедневно менять в нем воду…
Этот прелестный оазис населен моделями, которые он выбрал для себя сам. Да-да, ибо все эти растения – рабочие модели художника, с которых он пишет этюды, затем переносимые на большие полотна. Позже он покажет их мне у себя в мастерской. Представьте себе круглую комнату, верхняя часть стен которой опирается на плиты и открывает вид на водоем, испещренный цветными пятнами всех этих растений; представьте себе прозрачные перегородки с зеленовато-сиреневым отливом; вообразите тишину и спокойствие неподвижной воды, устланной цветочными лепестками… Все вокруг неяркое, нежное, переливающееся оттенками, словно во сне… Мастер из Живерни своими руками создал для себя весь этот антураж, самое его существование в котором является ежедневным вкладом в его же творчество. В периоды бездействия – а он иногда ничего не делает целыми месяцами – он независимо ни от чего продолжает работать, просто прогуливаясь по своим владениям, ибо его созерцающий взгляд все замечает и все запоминает. Его мастерская – это сама природа».
По свидетельству Мориса Гийемо, в 1898 году Моне уже регулярно писал свой пруд с его многообразной растительностью. Нимфеи [150]150
Водяные лилии, одной из разновидностей которых является египетский священный лотос.
[Закрыть]прекрасно в нем прижились, что повлекло за собой смену интересов художника. Отныне Руанский собор отошел в прошлое. Теперь он взял на себя роль архитектора «водяных соборов».
В июне того же года прошли две его выставки, организованные двумя самыми верными и удачливыми торговцами. Первая, состоявшаяся в галереях Дюран-Рюэля, представляла собой нечто вроде ретроспективы его работ, вторая, у Жоржа Пети, была коллективной. Рядом с полотнами Моне красовались картины Ренуара, Писсарро (наконец-то выплатившего свой долг Клоду!) и невезучего Сислея, чьи холсты все еще продавались за непостижимо низкую цену и которого уже настигла мучительная болезнь – рак горла.
Художник из Море-сюр-Луэна умер несколько месяцев спустя. Моне навестил его. Позже он рассказывал об этом Жеффруа:
– Старина Сислей попросил меня приехать. Я понимал, что он зовет меня прощаться. Мой несчастный друг…
«Старина» Альфред Сислей был старше Моне всего на год. Они дружили давно, с 1862 года – безумной и героической поры ученичества в мастерской Глейра. И, как это водится, не успел его прах упокоиться в шести футах под землей, как цена на его картины начала стремительно расти. «Наводнение в Марли», например, двадцатью годами ранее проданное им 180 франков, ушло с аукциона за сумасшедшую сумму в 43 тысячи!
«Сислея убило курение», – утверждал Синьяк, художник-пуантилист, представитель школы неоимпрессионизма.
Тот факт, что Сислей скончался 29 января 1898 года, с горлом, буквально сожженным крепким серым табаком, не мешал Моне курить сигарету за сигаретой.
«Она вечно торчала у него изо рта, озаряя своим огоньком густые заросли его бороды», – отмечает Морис Гийемо.
«Он никогда не докуривал сигарету до конца, – уточняет Жан Пьер Ошеде [151]151
Ошеде Ж. П.Указ. соч.
[Закрыть]. – Часто он вообще забывал, что курит, – сигарета гасла, и он ее выбрасывал».
Тот же Жан Пьер Ошеде приводит такую забавную историю:
«В Живерни жил один побирушка, которого моя мать называла „маркизом“, – настолько величественным он казался, особенно, когда приветствовал ее, размашистым жестом снимая с головы старую фетровую шляпу. Он частенько заглядывал к нам, потому что у нас была привычка собирать окурки в одно место. Мы складывали их в большую коробку, а потом передавали „маркизу“, который набивал ими свои карманы. И уходил донельзя счастливый – еще бы, „бычки“ от почти нетронутых сигарет!»
Печальные новости сыпались на обитателей Живерни одна за другой. Умер Сислей, лишь на несколько месяцев переживший Будена [152]152
Эжен Буден скончался 9 августа 1898 года.
[Закрыть], навсегда ушли многие друзья – Базиль, Кейбот, Мане… Не стало Берты Моризо. Умерли Ван Гог и Йонкинд – оба с помутившимся рассудком…
Безумие слишком близко к гениальности, не зря говорят, что гений и безумие спят в одной постели…
«Пытаюсь делать вещи совершенно невозможные, – пишет Моне. – Хочу написать воду, в глубине которой колышется трава… Смотреть на это чрезвычайно приятно, но передать на холсте трудно до безумия. А я, как ненормальный, делаю все новые и новые попытки!»
В самом Живерни дела тоже обстояли не блестяще. Сюзанне с каждым днем становилось все хуже. Не успел Моне вернуться с похорон Сислея, как к нему примчался перепуганный Батлер.
– Я очень боюсь! – сказал он.
Боялся он не зря. Днем 6 февраля его Сьюки испустила последний вздох. Любимой модели Клода Моне едва исполнилось 30 лет. Батлер остался с двумя маленькими детьми – пятилетним Джеймсом и четырехлетней Лили. Неужели ему придется воспитывать их одному? Нет, не придется. Марта, старшая из дочерей Ошеде, предложила взять на себя заботу о малышах. Вскоре объектом этой заботы станет и сам Теодор Батлер…
Сюзанну похоронили рядом с отцом, на деревенском кладбище. Сразу после этого печального события тяжело заболела Алиса. На нее накатила глубокая депрессия…
Стремясь отвлечь Алису от черных мыслей – черное не цвет, даже для госпожи Моне! – Клод, планировавший поездку в Лондон, предложил жене поехать вместе с ним. Такое случилось впервые: мы знаем, что, часто покидая Живерни, он всегда предпочитал вести свою «охоту за пейзажами» в одиночестве.
Но теперь Алисе настоятельно требовалось сменить обстановку. Ее, только что потерявшую дочь, ждало еще одно испытание. Теодор Батлер объявил, что намерен на некоторое время вернуться в Соединенные Штаты. Он увозил с собой не только детей, но и Марту – тридцатипятилетнюю «тетю Марту», которая так и не вышла замуж и теперь видела смысл всей своей жизни в том, чтобы воспитать сына и дочь покойной Сюзанны.
Большому дому грозило запустение. Бланш и Жан жили в Руане. Жак перебрался в Сен-Серван. Жан Пьер присматривал себе квартиру в Верноне. Может, и правда, съездить в Лондон? Почему бы и нет? Тем более что там ее ждала встреча со своим любимчиком Мими. Конечно, Мими – он же Мишель – давно перестал быть забавным карапузом. К 21 году он превратился в крепкого и здорового парня. В Лондон его отправил отец – учить английский язык. Надо же выучиться хоть чему-нибудь! Моне боялся, что его младший сын вырастет бездельником…
И вот Клод, Алиса и двадцатишестилетняя Жермена (о том, чтобы оставить ее одну в Живерни, не заходило и речи) уже устраивались в номере «Савоя», в апартаментах на седьмом этаже, с видом на Темзу.
Моне распахнул окно. То, что предстало перед его взором, оказалось грандиозным. Окутанные сентябрьским туманом арки моста Ватерлоо едва проступали сквозь дымный шлейф, тянувшийся с соседней свинцовой фабрики; вокзал Черинг-кросс утопал в ватных клубах пара, которым без устали плевались паровозы; Вестминстерский дворец пытался проткнуть высокой башней Виктории низко плывущие облака; вокруг Часовой башни носились чайки, словно хотели взять ее штурмом; вдали виднелся подвесной мост Лембета и громада больницы Святого Фомы…
На самом деле осенью 1899 года Моне удалось сделать не более десятка набросков с видами Лондона. Дела звали его обратно, в Живерни. Без ухода зарастала травой могила Сюзанны; рабочим, возводившим вторую мастерскую, требовались его советы; Дюран-Рюэль ждал обещанных картин с нимфеями; проявлял настойчивость Надар, во что бы то ни стало вознамерившийся сделать его фотографический портрет. К нему собирался приехать Клемансо, которому он пообещал подарить написанную десятью годами раньше, когда он гостил у Роллины, картину, первоначально названную «Скалистый утес в Крезе». Сегодня она известна как просто «Утес». Связанную с этим историю нам поведал Жан Батист Дюрозель, автор пространной биографии Жоржа Клемансо [153]153
Издательство «Fayard», 1988.
[Закрыть]:
«В 1891 году, когда стало известно, что готовится постановка пьесы Викторьена Сарду „Термидор“, весьма враждебно трактующей некоторые события Французской революции, Клемансо выступил в Палате депутатов с длинной речью, в которой потребовал и добился запрета спектакля. Именно тогда он произнес свою ставшую знаменитой фразу: „Французская революция – это утес!“»
Вот почему художник переименовал картину.
24 декабря 1899 года Моне получил от Клемансо такое письмо: «Я не ответил на ваше теплое послание, потому что понятия не имел, что вам сказать по поводу вашего „Утеса“, которым вы меня просто придавили. Ваши добрые слова уже служили мне лучшей наградой; и я давно убедился, что ваши человеческие качества достойны вашего мастерства художника, и, поверьте, это не пустые заверения. Если б вы только знали, какую радость мне доставили! Мне давно хотелось обнять вас и еще раз сказать вам, как я вас люблю. Но этот чертов „Утес“ стоял между нами и не давал мне проходу. Отказаться от подарка я не мог, боясь вас обидеть. Принять его я тоже не мог, потому что это слишком ценный дар. А теперь вы, не спрашивая разрешения, взяли и запульнули в меня этой чудовищной глыбой чистого света. Я одурел настолько, что не нахожу слов. Вы имеете обыкновение обтесывать куски небесной лазури и кидаться ими в людей, метя в голову. Если бы я начал вас благодарить, это было бы самой большой глупостью, какую только можно совершить. Разве солнце благодарят за то, что оно шлет нам свои лучи? Обнимаю вас от всего сердца».
В последние дни 1899 на Сене, в Ветее и Лавакуре, начался ледоход. Моне не мог не услышать мощного призыва природы. Его охватило неудержимое желание поскорее запечатлеть на холсте заиндевелую землю, пока не началась оттепель.
Провожать старый год семья в полном составе собралась в розово-зеленом доме, окна которого разукрасил своими узорами мороз. Сад спал под снегом. Лишь в теплице продолжалась жизнь.
– Это верно, – вспоминает г-жа Тибуст, мать которой служила в доме Моне прачкой. – Истинная правда: к Рождеству к столу подавали черешни!
30 или 31 декабря Моне получил из фирмы Надара первые оттиски. Ах, милый старина Феликс Турнашон! Самому знаменитому фотографу XIX века исполнилось 80 лет! Но, если вдуматься, какую блестящую карьеру он сделал! Ведь это именно он, страстный поклонник воздухоплавания, первым изобрел аэрофотосъемку! Именно он сохранил для истории облик самых видных художников, писателей и политиков своего времени! Его коллекции фотоснимков позавидовал бы любой. Говорили, что он готовит к выпуску книгу воспоминаний, под названием «Когда я был фотографом». И ведь это именно он предоставил в распоряжение авантюристов, именовавших себя импрессионистами, свою мастерскую на углу улицы Дану и бульвара Капуцинов, где состоялась их первая выставка!
«Большое спасибо, – написал ему Моне в ответном письме, – мы просто очарованы. Все согласны, что мои фотоснимки (sic) получились просто великолепно. Не сочтите за комплимент, но я и в самом деле никогда не видел столь прекрасных фотографий».
Похоже, он говорил это вполне искренне. Доказательство? В постскриптуме письма – и это решительно шло в разрез с его привычками – он просит Надара принять от него небольшой дар: «На днях вам доставят небольшой набросок пастелью, который я поместил под стекло. Это всего лишь один из давних набросков, который я отправляю вам в качестве скромного сувенира…»
На всех фотографиях, сделанных Надаром, Моне и в самом деле выглядит прекрасно – пышущий здоровьем, с живым блеском чуть лукавых глаз и подернутой сединой густой бородой, каскадом спадающей на крепкую грудь. А вот о снимках Алисы нигде не упоминается. Увы, госпожа Моне заметно состарилась, и состарилась преждевременно. Она теперь не снимала траурного наряда, ее роскошные волосы сделались совершенно седыми, глубокая морщина, заставлявшая приподниматься правый уголок верхней губы, прорезала лицо чуть ли не до самой надбровной дуги, и эту гримасу уже никто не принял бы за улыбку. Во взгляде ее черных потухших глаз ясно читается, что способность улыбаться она утратила навсегда. Бедный Моне!
1899 год доживал свои последние дни. Моне строил планы создания целых огромных фресок на водные мотивы. Вода – вот что всегда питало его полотна. Вода Ла-Манша, Этрета и Пурвиля, вода Сены и Эпты, вода Темзы и, разумеется, его собственного водоема, расцвеченная нимфеями, ирисами, колокольчиками и «змеиными драконами» – этим гордым именем англичане называют обыкновенный львиный зев.
1899 год отжил свое. Равель сочинил «Павану покойной инфанте», Бренли и Маркони провели первый сеанс радиосвязи, Луи Рено изобрел «переносную коробку передач прямого сцепления», немка Хардт запатентовала первый бюстгальтер, вышел из печати первый телефонный справочник и состоялись похороны президента Феликса Фора.
Но даже известие об обстоятельствах кончины последнего не заставило бы Алису улыбнуться. Президент Республики – почти житель Гавра, как и ее муж, – потерял сознание, а вскоре за тем и жизнь в объятиях красавицы Маргариты Штайнхель, своей любовницы…
Слава Богу, Алиса не читала сатирической прессы. И она не разразилась негодующим криком, увидев на первой странице одной из газет карикатуру, изображающую президента, одетого лишь в лавровый венок. Под картинкой была подпись: «Он мнил себя Цезарем, но умер как Помпей!»
Глава 24
937. YZ
Бурами, как известно, называли голландских колонов, заселивших в Южной Африке области Оранжевую, Наталь, Капскую и Трансваальскую.
Между тем англичане спали и видели, как бы присоединить к своему и так не маленькому списку колоний еще и этот богатый район Африки.
Президент Трансвааля Й. С. Пауль Крюгер заявил, что об этом не может быть и речи!
И буры объявили войну Англии. Этот вооруженный конфликт сильно осложнил жизнь Клоду Моне, в феврале 1900 года приехавшему в Лондон поработать над серией этюдов с видами Темзы. Прекрасные апартаменты на седьмом этаже отеля «Савой», из окон которых открывалась великолепная панорама, оказались заняты! Там по велению Ее Величества королевы Виктории разместился лазарет, в котором лечились раненые офицеры.
Моне предложили поселиться на шестом этаже. Вид из окон номера не слишком его разочаровал, и он согласился, тем более что в его намерения не входило ограничиваться работой в помещении. Он собирался поискать и другие мишени для своего меткого глаза.
С собой он прихватил достаточный запас чернил, перьев и писчей бумаги. Алиса вместе с Жерменой остались в Живерни, а от ежедневной обязанности писать письма его никто не освобождал.
Зато в Лондоне он увиделся с Мишелем, который жил в пансионе Дерби, на Бромфилд-роуд, 92. Тот все еще делал вид, что совершенствуется в английском, – правда, получалось это у него не слишком убедительно. Моне подозревал, что он гораздо больше времени проводит, катаясь на коньках или гоняя на велосипеде, чем за чтением Шекспира. Когда же двадцатидвухлетний сын сообщил ему, что уезжает на пару-тройку дней на экскурсию с приятелями, добрый папа Моне забеспокоился.
Он теперь часто волновался по поводу и без повода. С годами он вообще стал подвержен приступам тревоги. Однажды утром Мишель обнаружил, что все его тело покрыто мелкой красной сыпью. Ничего страшного, успокоил врач Моне, это всего лишь краснуха. Пусть полежит денек-другой в постели, и все пройдет.
И Моне забывает про кисти и краски и целыми днями сидит у постели «несчастного больного», доставившего ему «столько забот».
Он помнил, что вскоре Мишелю предстоит отправиться на военную службу, – еще один повод для тревог.
«Я очень обеспокоен, – пишет он. – Постараюсь что-нибудь предпринять, чтобы освободить его от службы в армии, – так, чтобы он об этом ничего не узнал».
Ему сообщили, что в Нормандии похолодание. Он места себе не находит из-за тревоги за свой сад.
«Надеюсь, вы не забыли накрыть японские пионы!»
Он волнуется за Алису, свою «старую добрую женушку», которую, в свою очередь, снедает тревога за Марту и внуков – двух маленьких Батлеров. Хорошо, что они скоро приезжают во Францию.
«Хоть бы барометр не упал!»
Из Сен-Сервана пришли плохие новости. Жак, его тридцатилетний пасынок, запутался в долгах. Он уже начал попрошайничать!
«Пожалуйста, Моне, пришлите мне еще триста франков!»
Да что же это творится? Ведь он только что отправил ему тысячу шестьсот! Моне мечется по комнате, не в силах сдержать раздражения.
«Ты права, – пишет он в очередном письме к Алисе [154]154
Письмо опубликовано Даниелем Вильденштейном.
[Закрыть], – я просто дурак. Волнуюсь из-за всякой ерунды…»
Он действительно постоянно встревожен. Из-за того, что англичане косо смотрят на французов – правительство Эмиля Лубе, хоть и не объявило официально о своей позиции, тем не менее явно настроено стать на сторону буров. Из-за того, что подхватил «ужасный насморк». Только бы не разболеться по-настоящему. Работа не ждет, особенно здесь, где из-за туманов освещение меняется чуть ли не ежеминутно!
Вот она, истинная причина всех его страхов. Каждая новая картина для него – испытание, и каждый раз он должен выйти из этой схватки победителем. Однажды утром он почувствовал себя счастливым. Стоял «великолепный туман», и он в очередной раз пришел к выводу, что «писать в Лондоне с каждым днем становится все интереснее». Но вечером, вернувшись в свою комнату в «Савое», он уже не вспоминал о приподнятом утреннем настроении.
«До чего печальный день… Я вконец извелся из-за того, что здесь совершенно невозможно работать над одними и теми же холстами так часто, как это необходимо». На следующее утро его отчаяние достигло крайней точки. Причина – «от тумана не осталось ни следа!» Все его труды погибли! Однако по мере того как разгорался день, над Темзой понемногу сгущались заводские дымы, пока наконец за их пеленой не скрылось почти полностью здание парламента, что и требовалось Моне.
«Бедная моя Алиса! Моя жизнь здесь состоит из чередования пылких восторгов и горьких разочарований…»
Вскоре «бедная Алиса» рассердилась не на шутку. До нее дошла весть о том, что в конце февраля Жеффруа и Клемансо отправились в Англию, чтобы провести несколько дней в обществе ее мужа. Она не просто недолюбливала Клемансо – она терпеть его не могла и боялась как чумы. Справедливости ради укажем, что этот уроженец Вандеи в респектабельных кругах пользовался не самой лучшей репутацией. После развода он пустился во все тяжкие, и под его напором сдавались не только министерские кабинеты. Список его любовных побед выглядел впечатляюще – графиня д’Онэ, оперная дива Роза Карон, не считая прочих виконтесс и певичек. Клемансо позволял себе многие вольности. При этом, чтобы понравиться женщине, ему, как рассказывали, не требовалось даже шевельнуть усом! Он не искал успеха у прекрасных дам, но имел его в избытке. Мало того, он никогда не скрывал своего отношения к слабому полу.
– Пока я жив, – говорил он, – они ни за что не получат права голоса! Женщины-избиратели! Да это курам на смех! Моя воля, я бы и мужчинам запретил голосовать!
Злые языки болтали даже, что он не просто волокита, а самый настоящий сексуальный маньяк!
«Успокойся, дорогая моя, – писал жене Моне, – у тебя нет никаких поводов для ревности. Не понимаю, с чего ты взяла, будто Клемансо способен втянуть меня в дурную компанию…» [155]155
Из писем к Алисе, опубликованных Даниелем Вильденштейном.
[Закрыть]
Спустя несколько дней он добавляет: «Клемансо и Жеффруа только что отбыли… Оба вели себя очень мило и нисколько не помешали мне работать…» [156]156
Там же.
[Закрыть]
И в самом деле, пакуя в ящики холсты, Моне мог себя поздравить: лондонский урожай оказался совсем не плох. Почти 80 полотен. Правда, многие из них требовали доделки. Значит, в будущем году, в это же время года, сюда надо будет вернуться для новой встречи с теми же туманами. Во вторник 4 апреля, ближе к вечеру, он в Дьепе, и немедленно сел в поезд, идущий до Гавра. Ему уже не терпелось увидеть свою «дорогую старую женушку», чтобы вместе с ней ждать прибытия трансатлантического парохода «Турень», который вез во Францию двух маленьких Батлеров, их отца и тетю Марту.
Пока Батлер находился в Америке, Жорж Дюран-Рюэль устроил ему в своей галерее персональную выставку. Увы, не зря говорят, что нет пророка в своем отечестве. Выставка обернулась провалом.
Несчастный Батлер нуждался в утешении. И он нашел его в лице Марты Ошеде. Вскоре Теодор назвал «добрую нянюшку», взявшую на себя заботу о детях покойной Сюзанны, своей невестой. Пройдет еще немного времени, и ее будут называть миссис Марта Батлер.
Через 10 дней после возвращения Моне из Англии в Париже состоялось открытие Всемирной выставки, а заодно и моста Александра III. На торжествах председательствовал президент Республики Лубе. Но Дворец промышленности, столь часто служивший ареной издевательств над импрессионистами, в общем празднике больше не участвовал. Он стал не нужен – ведь завершилось строительство Большого и Малого дворцов – Гран-пале и Пти-пале соответственно. В Малом дворце разместилась грандиозная ретроспективная выставка французского искусства, охватывавшая его историю от истоков до 1800 года. Большой дворец принял у себя так называемую Столетнюю выставку, на самом деле отражавшую достижения французского искусства за 90 лет [157]157
С 1800 по 1889 год, то есть до времени последней Всемирной выставки.
[Закрыть], и Десятилетнюю выставку, включавшую произведения, созданные в последние 10 лет уходящего века.
Разумеется, на ней были широко представлены импрессионисты во главе с Моне, который в конце концов дал себя уговорить, предав забвению то, как часто в прошлом Дворец промышленности отвергал его картины.
Всемирная выставка начала работу 14 апреля, хотя торжественное открытие художественной секции состоялось лишь 1 мая. Перерезавшему ленточку Эмилю Лубе хватило полутора часов, чтобы рысью обежать все залы экспозиции!
Гастон Леру, который в то время еще не успел раскрыть публике «Тайну желтой комнаты» и одурманить ее ароматом «Духов дамы в черном», но присутствовал на открытии, с улыбкой вспоминал:
«За какие-нибудь полтора часа президент набегал шесть километров живописи и скульптуры, да еще ухитрился пожать несколько сотен рук!»
Среди тех, кто удостоился рукопожатия президента, оказались: глава академической школы Бугеро, способный потратить день на выписывание детской щиколотки; художник-баталист Эдуар Детай, непременно надевавший в мастерской – для вдохновения – военную форму; Руабе, писавший исключительно мушкетеров; Бриспо, специализировавшийся на изображении тучных епископов-обжор; Шокарн, отдававший предпочтение проказливым мордашкам мальчиков из церковного хора; Рошгросс, автор томных вавилонянок и двуполых греческих юношей-эфебов; Анри Жервекс – респектабельный господин, снисходивший лишь до портретов барышень из высшего света; старик Бонна – «мастер официозных портретов», создаваемых, как шутили злые языки, с помощью «трубочной жижи»; Жюль Лефебр, готовый раздеть любую блондинку – но только блондинку; мрачный Фриан, своим излюбленным сюжетом избравший смерть; Каролюс-Дюран, дравший с дам из хорошего общества по три шкуры за портреты их собачек, попугайчиков, гусиков, журавликов или перепелочек; Фатен-Латур, виртуоз цветочных букетов и натюрмортов, и, конечно, Леон Жером – сердитый старик с ежиком седых волос, который, воинственно задрав подбородок и сверкая черными глазами, громко провозглашал, что Моне и вся его клика – не более чем «пачкуны, заморочившие голову всей артистической молодежи».
– Я плевать хотел на их мазню, которой кое-кому не терпится заполонить наши музеи! – нисколько не смущаясь, вопил он.
Рассказывали даже, что, воспользовавшись присутствием во дворце Лубе, он дерзнул встать на пути президента, стремительно шагавшего по залам, и, указав рукой на зал импрессионистов, во всеуслышание заявить:
– Остановитесь, господин президент! Не входите в этот зал! Там вы не увидите ничего, кроме позора Франции!
Мы все же думаем, что, вопреки предупреждению старика Жерома, Эмиль Лубе бросил-таки беглый взгляд на полотна Писсарро и Сислея, Ренуара и Моризо, Дега и Моне… Писсарро к этому времени все быстрее превращался в согбенного старца с гривой белых как снег волос, а Дега почти ослеп, что отнюдь не прибавило ему добродушия. Даже соратники по искусству отныне не могли рассчитывать на его снисхождение.
– Элле? – ворчал он. – Ватто эпохи паровозов! Болдини? Костлявый развратник! Бугеро? Бордель для буржуа!
Пальцы Ренуара утратили былую сноровку. Художника мучил тяжелый артрит…
Роден, этот «Гюго скульптуры» и человек поистине неуемных аппетитов, получил на Всемирной выставке собственный павильон. Эмиль Лубе – бывший мэр города Карпантра, которого недруги считали малообразованной и посредственной личностью, не удостоил великого скульптора ни одним словом комментария. Осторожный Лубе предпочел промолчать, чтобы не ляпнуть какую-нибудь банальность или глупость, из которой, он не сомневался, журналисты поспешат состряпать лакомое блюдо. Совсем иначе повел себя его преемник на посту президента Арман Фальер. Этот-то не боялся ничего! Однажды, посетив мастерскую Родена, он, как рассказывают, сочувственно вздохнул, указав на высившиеся повсюду руки, ноги, головы и торсы – «черновые наброски» мастера:
– Как вижу, старина, и вас не миновало бедствие переезда!
Устроителям выставки пришла в голову идея издать каталог произведений Родена. Зная о давней дружбе двух мастеров, они обратились к Моне с просьбой:
– Не могли бы вы написать к этому каталогу предисловие?
И получили резкий ответ:
– Я художник, а не писака!
Тем не менее в конце концов Моне согласился набросать несколько строк – лишь бы отделаться от докучливых просителей. «Замечательно! – воскликнули издатели каталога. – В печать, немедленно!» Так они и поступили, правда, подвергнув текст Моне небольшой редакторской правке, поскольку он содержал два-три весьма злобных выпада в адрес критиков, которых художник считал продажными. И современный читатель, открыв упомянутую брошюру, за которую коллекционеры готовы платить бешеные деньги, может прочитать: «Вы просите, чтобы я в нескольких словах высказал все, что думаю о Родене. Ну что ж, вы и так отлично знаете, что я о нем думаю, вот только для того, чтобы сказать об этом красиво, необходимо обладать талантом, которого у меня нет. Писательство – не мое ремесло, и единственное, что я считаю своим долгом выразить, – свое восхищение этим человеком, равного которому не знает наше время, великим среди величайших. Выставка его работ станет событием. Я не сомневаюсь в ее успехе, который окончательно подтвердит величие прекрасного художника».








