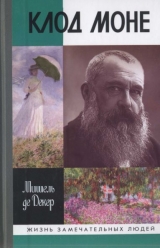
Текст книги "Клод Моне"
Автор книги: Мишель де Декер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Глава 19
ПРОКЛЯТИЕ!
– Когда я писал свои серии, то есть множество картин на один и тот же сюжет, случалось, что в работе у меня одновременно находилось до сотни полотен, – признавался Моне герцогу де Тревизу, навещавшему его в Живерни в 1920 году [111]111
Duc de Trevise.Le Pelerinage de Giverny. Paris, 1927.
[Закрыть]. – Когда надо было найти набросок, больше всего похожий на то, что я видел вокруг себя, я принимался лихорадочно рыться в их куче, выбрав один, начинал работать, но кончалось все тем, что полностью его переделывал. А потом, окончив труд, снова перебирал наброски и вдруг замечал, что именно тот, что мне был нужен, так и лежит среди них! Ну не глупо ли!
Итак, серии. После стогов и тополей, но задолго до водяных лилий Моне без памяти влюбился в Руанский собор. Наступил февраль 1892 года. Клод совершил поездку в столицу Нормандии – какой-нибудь час пути от Живерни по железной дороге – чтобы по просьбе брата лично присутствовать при улаживании проблем с наследством их отца Адольфа. В декабре в возрасте 31 года скончалась сводная сестра Моне Мари, но их мачеха Аманда по-прежнему жила в Крикето-л’Эсневале.
– Постараюсь хотя бы забрать картины, которые я там оставил, – сказал Алисе Клод.
Сделать это удалось легко и без особых затрат. Бедняжка Аманда Моне, урожденная Ватин, никогда не читала «Аргус прессы» и понятия не имела об успехах в живописи своего пасынка. Откуда ей, в прошлом скромной служанке с улицы Пенсет, в глаза не видевшей каталога «Бенезит» [112]112
Впрочем, это достойное всяческого уважения издание впервые увидело свет лишь в 1911 году.
[Закрыть], было знать, насколько высоко ценятся его картины! А для Моне посещение Руана стало настоящим откровением. Боже, какой собор! Он пишет Алисе:
«Погода не портится, я доволен, но, проклятье, сколько работы с этим собором! Ужас!»
Чтобы иметь возможность запечатлеть его в разное время суток и при разном освещении, он договорился с торговцем лавки модной одежды, согласившимся предоставить ему для работы комнату на втором этаже, окнами выходившую прямо на церковную паперть. Торговца звали Фернан Леви, а его жена держала бельевую лавку на улице Жюиф, в доме номер 18.
Обшитое фигурными деревянными панелями здание, занимаемое г-ном Леви, сегодня принадлежит туристическому агентству.
«Портал в солнечный день», «Симфония в серо-розовом свете», «Портал в ненастье», «Солнечный свет на закате дня», «Коричневая гармония»… В 1892–1893 годах Моне создал около 30 картин на сюжет нормандских соборов. Большинство из них уходили к покупателям сразу же, стоило чуть подсохнуть краскам. Одну картину купил сам Руанский музей!
Но скольких мук ему это стоило! Чтобы не шокировать клиентов, Леви поставил в комнате ширму, за которой и работал художник. Но недовольного ворчания, вызванного присутствием в примерочной какого-то «странного бородача», не всегда удавалось избежать. И потом, Моне требовалось найти и другие окна! Не мог же он удовлетвориться единственным ракурсом! Все эти хлопоты вконец его измотали. 3 апреля 1892 года в письме к Алисе он признается:
«Все, я больше так не могу, я совершенно сломлен. Всю ночь сегодня снились кошмары – на меня падал собор, а я все никак не мог понять, какого он цвета – голубой, розовый или желтый…»
Возможно, Алиса имела неосторожность напомнить ему, что от Руана до Живерни не больше часа езды, и рекомендовала приехать на денек-другой домой, чтобы немного отдохнуть…
«О нет! – отвечал он. – Если я намерен работать, мне следует вести жизнь размеренную и спокойную. Спасибо тебе за то, что ты понимаешь – я здесь только ради соборов».
Жорж Клемансо – не только врач, журналист и политик, но и тонкий знаток живописи, – ознакомившись с серией руанских полотен, написал: «Если пристально вглядеться в соборы Моне, то возникает ощущение, что они написаны каким-то переливчатым строительным раствором, брошенным на холст в приступе ярости.
Но в ее дикой вспышке столько же страсти, сколько выверенного знания. Как удалось художнику, отделенному от своего полотна всего на несколько сантиметров, ухватить тот тонкий и вместе с тем точный эффект, который можно обнаружить лишь на расстоянии? Очевидно, благодаря загадочной особенности своей сетчатки [не будем забывать, что это говорит врач]. Но для меня важно одно – то, что я вижу всю эту громаду целиком, в ее державном величии и могуществе. Камень, пронизанный светом, под грузом веков остается твердым и прочным. Громада непоколебима [здесь нам уже слышится голос Отца Победы!], ее размытые туманом очертания нерушимы, лишь смягчены изменчивыми небесами; каменный цветок, наполненный живой пульсацией, подставляет поцелуям светила свои жизнерадостные изгибы и под лаской золотого луча, пляшущего в тонкой пыли, заставляет почувствовать сладострастие бытия…»
10 июля все внимание Моне обращено уже не на собор, но всего лишь на расположенную в Живерни маленькую темную церковку XVI века, с ее круглым дверным проемом, унаследованным от эпохи римского владычества, и приземистой апсидой, характерной для архитектуры XII века. У подножия этой апсиды спал вечным сном Эрнест.
– Оскар Клод Моне, согласны ли вы взять в жены Анжелику Эмелию Алису Ренго? – раздается под гулкими сводами голос аббата Туссена.
На церемонии присутствуют четверо свидетелей: брат жениха Леон, некто Жорж Паньи – зять новобрачной, верный Кайбот и Поль Элле – симпатичный художник, друг не то Дега, не то Бонна, если не Сарджента или Уислера, человек широких взглядов и просто славный малый.
Несколько дней спустя, в той же самой компании состоится регистрация брака в мэрии. Леон Дюрдан ради такого случая наденет парадную трехцветную ленту, символизирующую французский флаг.
Нетрудно представить себе торжество новоиспеченной госпожи Моне. Любовница и сожительница, наконец-то она обрела статус законной супруги! Ее дочерям больше не придется краснеть!
Впрочем, хорошенькая Сюзанна и так перестала краснеть – с того самого дня, когда некий американский художник, встреченный в деревне, сказал ей: «I love you!» [113]113
Я вас люблю (англ.).
[Закрыть]
Следовательно, американские художники все-таки приезжали в Живерни!
Первым дорожку проложил Меткальф. На людей малознакомых этот гигант с густой бородой производил устрашающее впечатление. Но в душе он был настоящим поэтом. Время, свободное от занятий живописью в Парижской академии Жюлиана, он тратил на коллекционирование птичьих яиц. В Живерни он впервые попал весной. Ему не хотелось в тот же день возвращаться назад, в Париж, и он постучался в дверь местного кафе, служившего одновременно бакалейной лавкой, которое содержала г-жа Боди.
– Мамочки мои, ну и напугалась же я! – рассказывала она. – И так ему сразу и сказала, дескать, кровать у меня в доме всего одна, и в ней сплю я! А потом побыстрее закрыла дверь, чуть нос ему не прищемила. Хотела даже забаррикадироваться, только нечем было… [114]114
Записано со слов Сюзанны Брюно, дочери г-жи Боди, в сентябре 1973 года в Верноне.
[Закрыть]
Через несколько дней Меткальф вернулся в деревню, да не один, а с целой шайкой вооруженных до зубов типов. Правда, шайка при ближайшем рассмотрении оказалась группой художников, в которую входили Джон Бек, Брюс, Тейлор и Уондел, а все их вооружение составляли мольберты и кисти.
– Вроде выглядели они безобидно, ну, я и уступила им свою комнату, а сама ушла ночевать к соседям, – продолжала г-жа Боди. – А они стали приезжать каждые выходные, так что нам хочешь не хочешь пришлось расширять дело. Мы с мужем приготовили для них комнаты, прикупили матрасов да подушек… Вот так наша лавочка и стала гостиницей Боди! [115]115
Записано со слов Сюзанны Брюно, дочери г-жи Боди, в сентябре 1973 года в Верноне.
[Закрыть]
Первое существенное расширение деревенского кабачка, позволившее ему превратиться в «салун», где собирались такие «пионеры», как Теодор Робинсон, Уотсон из Сент-Луиса, Карл Беквит, Коллинз и другие, относится к 1887 году. Никакого сектантства они не исповедовали и охотно приняли в свою компанию, например, шотландца Дайса, который по вечерам играл на волынке, а остальные весело плясали, и чеха Радинского.
Если Меткальф больше всего походил на крепкого канадского лесоруба, то Теодор Батлер, напротив, не имел ничего общего с кулачным бойцом. Высокий, стройный, с аккуратно подстриженной бородкой и небольшой залысиной на лбу, всегда одетый с иголочки, он представлял собой истинного джентльмена – не хватало, пожалуй, только монокля в глазу. Больше всего на свете он любил живопись – и писал превосходно! – и катание на коньках. Скорее всего, именно здесь, на катке в Живерни, он и познакомился с самой красивой из моделей Моне – элегантной, хрупкой, приветливой Сюзанной Ошеде с ее нежным взглядом и завитыми по английской моде черными волосами, слегка нависающими надо лбом, той самой Сюзанной Ошеде, которой так шел зонтик…
– I love you.
– Каков нахал! – возмутился Моне, когда до него дошли слухи о начавшемся романе.
Он находился тогда в Руане, целиком поглощенный своими соборами, и узнал об этой истории из писем Алисы. В ответ домой полетело сердитое послание.
«Я поражен тем, что происходит в мое отсутствие! То, что нам известно об этом искателе приключений, не внушает мне никакого доверия! Вы обязаны от имени дочери отказать этому американцу – это народ, у которого нет ни документов, ни понятия о гражданском состоянии! Иметь с ними дело – все равно что играть в лотерею! И потом, что за глупость – выходить замуж за художника, который ничего собой не представляет? Если только у них не безумная любовь, дайте ему понять, что у него нет ни малейшей надежды» [116]116
Фрагмент письма, опубликованного Даниелем Вильденштейном.
[Закрыть].
Моне, отличавшийся трудным характером, на сей раз дошел до того, что угрожал продать дом в Живерни и переехать в другое место.
«Все равно, будет это продолжаться с вашего попустительства или нет, я больше не могу здесь оставаться…» – пишет он в очередном письме.
Между тем никаких оснований чувствовать себя оскорбленным у него не было. Алиса навела справки и убедилась, что мистер Батлер – вполне респектабельный господин.
На самом деле Моне просто немножко ревновал. Мог ли он относиться иначе чем с глубокой нежностью к своей любимой модели – очаровательной девушке с зонтиком? И вдруг потерять ее, отдать какому-то янки?
В конце концов именно эта нежность, скрытая за коростой внешней суровости, и победила. Пусть Сюзанна будет счастлива со своим Теодором! 20 июля 1892 года, через десять дней после собственной женитьбы, он снова вступил под своды церкви Святой Радегонды, на сей раз – во главе свадебного кортежа, гордый и неприступный как английский лорд. Он вел под руку ослабевшую от волнения Сюзанну, наряженную в белое платье.
Итак, Моне едва не рассорился вдрызг с домашними. Впрочем, ему и прежде случалось проявлять грубость, даже по отношению к старым друзьям, если, например, их присутствие в доме начинало казаться ему назойливым. Про такой характер обычно говорят – и совершенно справедливо – не сахар. Так, однажды у Камиля Писсарро – того самого, который во времена «тощих коров» порой подбрасывал Моне сотню-другую франков, – возникла проблема. Владелец дома, который тот снимал в Эраньи-на-Эпте, то есть недалеко от Живерни, решил избавиться от своей собственности, и художник счел разумным его выкупить.
«Нам бы очень хотелось сохранить за собой это пристанище, – по просьбе мужа написала Моне жена Писсарро. – Не могли бы вы одолжить нам 15 тысяч франков?»
«Пожалуйста, – ответил тот. – Только постарайтесь вернуть мне долг как можно скорее».
Но сделка по продаже дома затянулось. Моне понимал, что деньги лежат у его товарища мертвым грузом. И тогда он шлет ему такое письмо: «Вы должны написать мне долговую расписку, а потом мы обсудим условия возврата денег (на тот случай, если один из нас вдруг окочурится)».
Шло время, но дело так и не двигалось с места. Моне раздражался все больше.
«Не стану скрывать от вас, – пишет он, – что мне пришлось буквально вывернуться наизнанку, чтобы предоставить вам эту сумму. Если вы до сих так и не приобрели дом, я бы не возражал, чтобы вы вернули мне деньги, потому что у меня самого расходов выше головы».
Чуть позже, все тем же летом 1892 года, на его горизонте возник Буден – старина Эжен, давний знакомец. Он прислал Моне коротенькое поздравление с женитьбой и в нем же высказал вполне законную просьбу:
«Мне очень хотелось бы иметь хотя бы одно ваше полотно!»
Как же реагировал на это Моне? Его ответ оказался достоин жителя Онфлера Альфонса Алле, однажды написавшего другу: «Извините за задержку с ответом, но дело в том, что, когда пришел почтальон, я работал в саду…»
И Моне пишет Будену (тоже, кстати, жителю Онфлера):
«В настоящий момент я не могу сообщить вам об отправке сувенира, о котором вы просите. В этом году я не работал, а дарить вам какую-нибудь безделицу не считаю возможным…»
И далее, все в том же ханжеском тоне:
«Вы прекрасно знаете, с какой теплотой я к вам отношусь и какую благодарность к вам испытываю. Я не забыл, что именно вы первым научили меня видеть и понимать увиденное…»
Вся эта дипломатия означала лишь одно: Буден обойдется и без картин Моне!
Он сказал, что в 1892 году не работал. На самом деле это было некоторое преувеличение, хотя справедливости ради отметим, что в год своей женитьбы он действительно не мог похвастать выдающимися творческими успехами. К счастью, наступающий новый год принес с собой именно такую зиму, какой ее любил Моне, – с трескучими морозами, с застывшей подо льдом Сеной, с обильными снегопадами, под которыми так разительно меняется освещение. Он бросает все прочие занятия, впрягает в телегу лошадь и, прихватив с собой Бланш, отправляется бродить по заиндевелым дорогам. Они добираются до Бенкура, но теперь мысли о самоубийстве [117]117
См. главу 5 «Голод».
[Закрыть]даже не приходят ему в голову. Во-первых, жизнь ему все-таки улыбнулась, а во-вторых, утопиться в скованной льдом реке все-таки довольно затруднительно…
Добирались они и до Пор-Вийе, откуда через мост Бенкур – не сохранившийся до наших дней, – шли в Жефос, излюбленное место зимней стоянки нормандских отрядов Агсера [118]118
Это было зимой 1851/52 года. Подробнее см.: Michel de Decker.Les Grandes Heures de la Normandie. Perrin, 1988.
[Закрыть], готовившихся к нападению на Париж. Результатом «кампании», проведенной Моне, стали: превосходная серия «Льдины» и еще одна, озаглавленная «Туманное утро», а также ряд картин, запечатлевших снегопад и ледоход на реке в изменчивом сумеречном освещении. Потом, к огорчению художника, полили дожди. Снег начал таять, и от прекрасных белых пейзажей осталось одно воспоминание. Живопись всегда была для него своего рода схваткой с безжалостным временем. Ее символом могут служить часы на Руанском соборе, похожие на огромный белый глаз, как будто специально помещенные сюда, чтобы подгонять художника: скорее, солнце уходит, солнце ждать не будет!
Итак, в середине февраля Моне снова был в Руане, поселившись в гостинице «Англетер» в номере со «стратегическим» видом на церковную паперть. Он заканчивал работу над серией картин, начатых годом раньше, и приступал к новой серии.
Новые произведения означали новые тревоги.
«Ничего не получается! – читаем в одном из писем этой поры. – Все плохо! Все просто ужасно! Я полностью опустошен. Проклятье! И они еще смеют называть меня мастером! Да что они понимают? Что во мне от мастера, кроме намерений?» [119]119
Вильденштейн Д.Указ. соч.
[Закрыть]
Усталость художника легко объяснима. Чем, как не гениальностью, надо обладать, чтобы, подобно Моне, работать над тринадцатью, а то и четырнадцатью полотнами одновременно?
Он жил собором почти два месяца – с 16 февраля по 11 апреля. Это значит, что он провел возле него больше 50 дней – дней, заполненных, по его собственному выражению, «лихорадочной работой».
Письма, которые он писал в это время Алисе [120]120
Они опубликованы Даниелем Вильденштейном.
[Закрыть], для нас поистине бесценны. Так, из одного из них мы узнаем, что он нередко делил трапезу с братом Леоном, устроившимся в Девиле и работавшим на небольшом химическом предприятии, куда вскоре поступил и Жан.
«У меня складывается впечатление, – писал Клод, – что эти двое отнюдь не созданы для сотрудничества».
В другом говорится, что Жан неважно выглядит и часто жалуется на боли в животе.
«Его заперло так, что неизвестно, каким ключом открыть…»
Из той же переписки нам известно, что Марта путешествовала, а «дражайшая» Алиса мучилась болью в ноге.
«Ты должна пойти к доктору! Это надо было сделать сразу. С такими болями нельзя тянуть…»
О чем еще рассказывают эти письма? О том, что талия молодой миссис Батлер заметно округлилась; о том, что Моне приобрел петуха и курицу для своего птичника (но так и не сумел найти петуха уданской породы!); о том, что он заказал партию страсбургского паштета и давал указания, как его хранить (в холодном месте!). Наконец, они свидетельствуют о том, что он всерьез занялся разведением цветов и тратил немало усилий, разыскивая редкие сорта.
«Пусть Эжен хорошенько накроет тригридии – ближе к полнолунию возможны заморозки. Наконец-то нашел дикую редьку! Пересылаю рассаду в Вернон; проследи, чтобы ее не повредили, когда будут распаковывать. Вели Бланш заново написать этикетки. Если пойдет град, пусть Эжен опустит в теплице стекла…»
Из его писем явствует, что он устал. У него болело горло – слишком много курил! – и его мучил кашель; временами накатывало что-то вроде забытья и сердце сбоило. На левой руке у него воспалился большой палец, пораненный слишком тяжелой палитрой. И он торопился домой – заняться только что купленным участком земли перед домом. Он мечтал превратить его в сад, подсмотренный на одной из японских гравюр…
Глава 20
ГОСПОДИН ПРЕФЕКТ
«Пусть эти уроженцы Живерни катятся куда подальше, и инженеры вместе с ними! У меня от них одни неприятности! С меня довольно! Хватит! Растения можете выкинуть в реку, пусть там и растут! А участок пусть берет себе кто хочет…» [121]121
Вильденштейн Д.Указ. соч.
[Закрыть]
Вечером 20 марта Моне, находившийся в номере руанской гостиницы, буквально кипел от ярости.
5 февраля он оформил у вернонского нотариуса г-на Леклерка акт приобретения в собственность небольшого земельного участка (площадью примерно 1300 квадратных метров), расположенного чуть ниже его сада. Он давно заглядывался на этот клочок земли, и вот наконец его желание осуществилась. Теперь ему было достаточно пересечь так называемый Королевский тракт, перебраться через узкоколейку Жизор-Паси, и он оказывался в своем владении, в месте, о котором столько мечтал.
Да и кто бы отказался стать владельцем сада, через который течет ручей? Моне ликовал. Небольшой приток Эпты действительно делал здесь петлю, пробегая по краю приобретенной художником земли. Этот игривый ручеек даст рождение не одному живописному шедевру, в этом он не сомневался.
И вдруг затея едва не сорвалась. Деревенские жители заподозрили неладное. «Кто его знает, этого художника? – шепотом судачили они. – Сажает не пойми чего, еще напустит в ручей отравы, а нам этой водой скотину поить!»
На самом деле ничего сажать в самом ручье Моне не собирался. Он хотел лишь вырыть небольшой водоем для разведения водных растений. Но, чтобы водоем не пересох, ему требуется вода! Об этом он и сообщил в письме к префекту департамента Эра, с которым сегодня можно ознакомиться в местном архиве. Он намеревался провести от ручья к водоему «небольшой открытый с обеих сторон канал, снабженный запорным устройством».
Он подчеркивал в письме, что нормальный режим ручья нисколько не пострадает, поскольку речь идет всего лишь о «небольшом временно действующем отводе», что, являясь собственником еще одного земельного участка, расположенного на левом берегу указанного водного источника, он хотел бы соорудить над ним «два небольших подвесных мостика». «Небольшой канал», «небольшой отвод», «небольшие мостики» – все небольшое, все скромное, – чтобы вернее убедить префекта. Ценой этих «небольших» переделок он надеялся добиться поистине грандиозного эффекта.
Если, конечно, не воспротивятся жители Живерни. Но… они воспротивились. Муниципальный совет деревни, собравшийся на обсуждение «опасных планов» этого «городского чужака», вынес вердикт: отказать.
Клод разозлился не на шутку. 17 августа 1893 года он пишет новое письмо префекту [122]122
Архив департамента Эр, хранящийся в Эрве.
[Закрыть]. Оно стоит того, чтобы привести его без купюр:
«Господин префект! Имею честь представить на ваш суд некоторые соображения относительно противодействия муниципального совета и отдельных жителей Живерни касательно двух дел, рассмотренных в связи с просьбой, которую я имел честь адресовать вам с целью получения разрешения на установку водозапорного крана на реке Эпте, предназначенного для снабжения водой водоема, каковой я полагаю использовать для разведения водных растений.
Обращаю ваше внимание на то, что под предлогом защиты общественной безопасности означенные противники в действительности преследуют совершенно иную цель, каковая заключается в стремлении чинить мне препоны в осуществлении моих замыслов, руководствуясь при этом исключительно злопыхательством, что весьма характерно для отношения деревенских жителей к частному лицу, тем более – парижанину; также довожу до вашего сведения, что число означенных противников в сравнении с общей численностью населения деревни невелико и представлено людьми, которым я либо никогда не предлагал работать у себя, либо отказался от их услуг, а именно […]. Все их действия продиктованы мелкой мстительностью и желанием нанести мне оскорбление. Надеюсь, уважаемый господин префект, что вы примете во внимание приведенные здесь соображения и решите вопрос в благоприятном для меня смысле.
Также спешу уверить вас, что разведение упомянутых водных растений отнюдь не имеет приписываемой ему важности, а служит исключительно для украшения и призвано радовать глаз, равно как и выступать в качестве сюжета для живописных полотен. Кроме того, я развожу в этом водоеме только безвредные растения – водные лилии, камыш и несколько разновидностей ирисов, которые в природном состоянии обычно растут по берегам нашей реки, а посему об отравлении речной воды не может идти и речи.
Вместе с тем, учитывая недоверчивость местных крестьян, я готов дать обязательство осуществлять смену воды в водоеме исключительно в ночные часы, когда речной водой никто не пользуется.
Надеюсь, что приведенные мной объяснения позволят вам составить верное представление о происходящем и принять благоприятное для меня решение. Прошу извинить меня за то, что обращаюсь к вам, господин префект, с подобной просьбой…»
Представляем, как волновался Моне в ожидании ответа.
Следующие десять дней прошли в дурном настроении.
И вот 27 августа, наконец, почта принесла письмо из Эвре. Префект Жюль Пуэнтю-Норес дрогнул: его ответ был – да!
Хозяин департамента, возможно, наслышанный об импрессионизме, удовлетворил просьбу художника, хотя не мог не знать, что собой представлял тесный мирок тогдашних «землеробов». Г-н Моне получил разрешение не только на установку водозапорного крана на ручье, отходящем от Эпты и имевшем статус «коммунальной собственности», но и на сооружение двух мостиков…
Счастливый Моне, в голове которого уже роились планы один заманчивее другого, мог теперь спокойно посвятить конец года работе над новыми полотнами, радостным переживаниям по поводу рождения Джеймса – первенца Сюзанны Батлер – и заботам об Алисе. Став бабушкой в 49 лет, она все чаще недомогала, причем ее недомогание, легкое поначалу, постепенно превращалось в «заболевание, внушающее серьезную тревогу». Иных подробностей о том, что с ней происходило, мы не знаем.
Зато нам точно известно, что пошатнувшееся здоровье г-жи Моне вынудило ее мужа практически весь 1894 год провести в Живерни. Никаких долгих путешествий, никаких дальних поездок на этюды. Начало 1894 года ознаменовалось сразу несколькими печальными событиями. Умер доктор де Беллио – богатейший румынский коллекционер. Умер и милейший Кайбот, который был на восемь лет моложе Моне. Накануне кончины он имел глупость завешать свою личную коллекцию, состоявшую из 67 полотен, государству. Почему глупость? Потому что ни одна из этих картин – а среди них фигурировали работы Ренуара и Писсарро, Мане и Сезанна, Сислея и Дега, не говоря уже о Моне, – из-за тупого упрямства чиновников так и не была выставлена в Люксембургском музее. О том, чтобы вывесить их в Лувре, никто даже не заикался. Чтобы убедиться в том, что святошам из Академии изящных искусств художник из Женвилье явно представлялся еретиком, достаточно прочитать статью в только что изданном тогда Всеобщем энциклопедическом словаре Ларусса: «Согласие принять этот дар привело к бурным дебатам, в ходе которых высказывались мнения о том, что, если большинство составляющих коллекцию произведений и не позорит наши музеи, то уж никак не может считаться достойным образцом различных живописных школ».
Жан Леон Жером, который преподавал в Академии живопись и писал картины под красноречивыми названиями (например «Сократ, являющийся к Аспасии за Алкибиадом» или «Пленник и турецкий палач»), высказался еще более категорично: «Мы живем в век упадка и глупости! Только глубоким падением нравственности можно объяснить тот факт, что государство согласилось принять в качестве дара подобный мусор!»
Однако несмотря на продолжающиеся арьергардные бои, вдохновляемые старыми академическими занудами, победа в битве явно склонялась на сторону импрессионизма, возглавляемого Моне. За полотно из серии «Собор» ему, например, теперь предлагали от 12 до 15 тысяч франков! Какой поворот судьбы! По сравнению с работами времен Аржантея его «ставка» выросла больше чем в тысячу раз! Картины Дега шли примерно по семь тысяч франков, картины Ренуара – по пять тысяч. За Сислея и Писсарро публика выкладывала по две тысячи франков, и это считалось дешево. Один только невезучий Сезанн соглашался продавать свои работы по 800 франков.
– Сезанн – художник? – горестно вздыхал директор Школы изящных искусств Ружон. – Не говорите мне об этом! У него есть деньги. Его папочка был банкиром, и он пишет исключительно ради приятного времяпрепровождения. Я не удивлюсь даже, если окажется, что он пишет только ради того, чтобы потрепать нам нервы!
Судить об искусстве живописи – дело нелегкое.
Сам Моне, кстати, говорил по поводу Гогена:
«То, что он делает, это попросту плохо».
Впрочем, вернемся к Сезанну. Осенью 1894 года он приехал на несколько дней в Живерни. Само собой разумеется, что поселился он в бывшей бакалейной лавке семейства Боди, теперь превратившейся в настоящую гостиницу на 12 номеров, постоянно занятых художниками. Следуя методу местного мастера, все они с первыми лучами солнца отправлялись работать на пленэре. Впрочем, кое-кто из них продолжал оставаться приверженцем академической школы, и г-жа Боди, идя навстречу нуждам своих постояльцев, соорудила для них в саду мастерскую, где они могли работать при хорошем освещении и не бояться дождя и ветра.
Мамаша Боди окружала своих жильцов трепетной заботой, стараясь запомнить их имена, среди которых попадались и иноземные – Уиллард, Черри, Эмма, Л. Л. Фрэнс, Луиза Ришар, С. У. Николь, Оливье Херфорд, Клинтон Петерс, Мюррей Кэбб и, конечно, Мэри Кассат. Как-то шотландец Дайс пожаловался, что подаваемый ему чай – disgusting [123]123
Неудобоваримый (англ.).
[Закрыть]. Хозяйка тут же заказала партию чая в Англии. Стол и кров она предлагала им всем за смехотворную плату – пять франков в день [124]124
50 франков по ценам 1992 года (или около восьми нынешних евро). (Прим. пер.)
[Закрыть]. Художникам постоянно требуются подрамники, холсты, кисти, растворители? Она заключила договор с парижской фирмой Фуане и всегда имела в наличии все необходимые материалы.
Англосаксы любят виски. И г-жа Боди посылает мужа в Вернон, в заведение «Антрепо Пети», расположенное на улице Бушри и славящееся «лучшим выбором французских и иностранных настоек и ликеров».
Сезанн тоже любил виски – во всяком случае, такой вывод позволяет нам сделать изучение его гостиничного счета [125]125
Этот документ предоставила в наше распоряжение г-жа Брюно, дочь г-жи Боди.
[Закрыть]. Одним стаканчиком в день он не ограничивался. Так, запись от 13 ноября гласит: «Два виски с г-ном Моне» [126]126
Одна порция виски стоила 40 сантимов.
[Закрыть].
Вообще у Боди находилось все и всегда. Знакомясь все с тем же счетом Сезанна, обнаруживаем в списке конверты и чернила, перья и мыло, свечи и спички, шнурки и даже… подтяжки!
Случалось, впрочем, что тот или иной художник превышал свои финансовые возможности. И, когда приходило время платить хозяйке по счету, он вместо денег оставлял ей одно или несколько полотен. Судя по тому, какая коллекция постепенно собралась у Боди, происходили такие казусы не так уж редко.
Итак, Сезанн поселился в заведении Боди, в двух шагах от розового дома, ставни которого совсем недавно были перекрашены в зеленый цвет.
«Он – удивительный человек, – вспоминает о Сезанне Мэри Кассат [127]127
См.: Adelyn D. Breeskin.The Graphic Work of Mary Cassatt, 1948.
[Закрыть], регулярно встречавшаяся с ним за табльдотом. – Живой и сочный, настоящий южанин. Нет, он, конечно, не какой-нибудь головорез, напротив – скромный парень, и притом сама любезность, например, по отношению к Луизе, молоденькой служанке Боди. Он все время говорил ей, что готов подождать, пока она не обслужит дам. Меня всегда поражало, как он ел. Суп он выхлебывал за минуты, а дичь рвал руками, вгрызаясь в мясо своими превосходными зубами».
Поль Сезанн действительно отличался скромностью. Если он слышал от Моне: «Приходите к нам вечером!», то долго колебался, прежде чем принять приглашение. Моне приходилось проявлять немалую настойчивость. «Приходите обязательно! Я на вас рассчитываю в эту среду, 28 ноября. Будут только свои». После этого он соглашался.
Под «своими» Моне подразумевал Жеффруа, Мирбо, Родена и Клемансо. Недурная компания!
Клемансо, благодаря Жеффруа возобновивший знакомство со старым другом, теперь частенько заглядывал в Живерни. Нам, например, известно, что весной 1890 года Моне писал маковое поле в присутствии Клемансо.
По рассказам, после той самой вечеринки Сезанн якобы воскликнул: «Какой прекрасный человек Роден! В нем нет никакого высокомерия! Он пожал мне руку! Это он-то, удостоенный таких наград!»
«Мало того, – вспоминает Жеффруа, – после ужина, когда все прогуливались по садовой аллее, он встал перед Роденом на колени и еще поблагодарил его за то, что тот пожал ему руку».
По словам того же Жеффруа, «особенным даром расположить к себе Сезанна обладал Клемансо, у которого имелся неиссякаемый запас шуток и острот».
Впрочем, однажды Сезанн, поглаживая свои роскошные светлые усы, сделал такое признание:
«Я бы никогда не смог стать сторонником Клемансо. Почему? Потому что я слишком слаб, а он не сможет меня защитить. Защитить меня может только Церковь!»
Непостижимый Сезанн… Ведь именно ему принадлежит заявление: «Чтобы удивить Париж, мне достаточно одного яблока».
Непредсказуемый Сезанн… Как-то утром, никого не предупредив, он просто-напросто испарился из Живерни, оставив в гостинице Боди все свои незаконченные полотна.
«Моя мать бросилась к Моне, чтобы рассказать ему, что случилось. Он пожал плечами, словно говоря, что отказывается что-либо понимать. „Но что же мне делать с холстами, которые он оставил? – волновалась она. – Он ведь мне за них заплатил, и за подрамники заплатил!“ Тогда г-н Моне ей сказал: „Пришлите их сюда. Я займусь тем, чтобы их ему вернуть“» [128]128
Записано со слов г-жи Брюно, урожденной Боди, в сентябре 1973 года.
[Закрыть].








