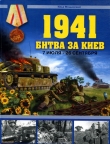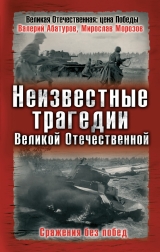
Текст книги "Неизвестные трагедии Великой Отечественной. Сражения без побед"
Автор книги: Мирослав Морозов
Соавторы: Валерий Абатуров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
«Таким образом, – подводились итоги в расследовании, – в ночь с 23 на 24 июня вследствие растерянности и паники в руководстве ЛВМБ были уничтожены без вынужденной на то обстановки все находившиеся в Либаве боевые корабли, самостоятельно распущены и ушли все обеспечивающие средства, подорван минный склад и т. д., и в базе остался только дивизион ТК в составе пяти катеров» [161] .
Царившая в руководстве базы растерянность и паника усугублялась постоянными перебоями со связью между командованием дивизии и штабом 27-й армии, а также неясностью общего положения на фронте. В свою очередь, в штабе армии тоже не до конца представляли себе обстановку, сложившуюся вокруг города. В оперсводке 27-й армии на 8 часов утра 24 июня указывалось: «1. Противник продолжает нажим на Либаву, распространяясь мелкими группами на сев[ер], сев[еро]-восток. Положение Либавы точно не установлено, но имеются непроверенные данные, что гарнизон Либавы держится…
4. 67 сд – двумя батальонами 56 сп и 281 сп ведут бои, удерживая Либаву… (данные требуют проверки, приняты меры к выяснению). 114 сп и 1/56 сп (1-й батальон 56-го стрелкового полка. – Авт.) обороняют побережье на участке Колкасрагс, Павилоста. Потери не установлены…
В состав дивизии включены до 600 чел[овек] из различных частей, дивизия имеет возможность их вооружить, имея 800 винтовок» [162] .
В следующей оперсводке уточнялось, что связь со штабом 67-й дивизии [163] потеряна с 0 часов и по состоянию на 15.20 все еще не восстановлена. Еще в конце предыдущих суток командарму Берзарину стало ясно, что имевшихся сил для удержания Либавы недостаточно, тем более что четыре из девяти батальонов дивизии все еще продолжали охранять побережье между Павилостой и входом в Ирбенский пролив. В условиях, когда войска и мирное население были охвачены настоящей десантоманией, снять их оттуда и перебросить к городу не было никакой возможности.
Дело в том, что на рассвете 24 июня береговые батареи в районе Ужавы и Павилосты обнаружили неизвестные транспорты с катерами, по которым незамедлительно был открыт артиллерийский огонь. После того как они отошли в море, приказом командира Прибалтийской ВМБ контр-адмирала П.А. Трайнина на разведку вылетели летающие лодки 41-й и 43-й разведэскадрилий, которые в 10.20 обнаружили миноносец и четыре транспорта в районе Ужавы и еще два транспорта в 10 милях южней. Информация о том, что враг собирается высадить крупный десант, немедленно ушла в штаб КБФ, где сразу же решили нанести по судам удар авиацией. Пока летчики готовились к вылету, выяснилось, что обнаруженные катера и суда были теми самыми «беженцами» из Либавы, которые «действуя по обстановке» покинули порт незадолго до рассвета. Поскольку штаб Либавской ВМБ не оповестил никого об их уходе и направлении движения (а скорей всего и вовсе не знал о факте их выхода), обстрел береговыми батареями был неминуем. Лишь во второй половине дня катера и суда смогли обменяться опознавательными сигналами с батареями и войти в гавань Виндавы. Это оказалось весьма своевременным, поскольку примерно спустя час в этом районе показались самолеты всех трех ударных полков ВВС КБФ – 1-го минно-торпедного (мтап), 57-го и 73-го бомбардировочных.
Не обнаружив обещанного десанта противника, 23 машины 1-го мтап (еще 21, под которыми были подвешены торпеды для низкого торпедометания, вернулись на базу) пошли на запасную цель – Мемель, где и сбросили свой бомбовой груз. Из 23 ДБ-3 и 9 СБ 57-го полка девять ДБ-3 бомбили Шилуте, такое же число Мемель, а остальные вернулись обратно. 28 СБ 73-го полка (еще 15 вернулось) не могли достигнуть Мемеля из-за ограниченной дальности полета и сбросили бомбы на две шаланды в гавани Павилоста, который к тому времени уже был занят противником. Над Мемелем противодействие нашим самолетам осуществлялось исключительно силами зенитной артиллерии, которая, при стрельбе на большие высоты, продемонстрировала свою полную неэффективность (правда, два ДБ-3 1-го мтап оказались разбиты при посадке – один при вынужденной, другой скапотировал на таллинском аэродроме). С воздуха эффект бомбардировки выглядел настолько впечатляюще, что сразу после налета командующий ВВС КБФ генерал-майор В.В. Ермаченков доложил начальнику штаба КБФ адмиралу Ю.А. Пантелееву:
«Товарищ начальник штаба! Военно-морской базы Мемель у фашистов больше нет!
– Куда же она девалась?
– Мы все там разбомбили…» [164]
Мемель, конечно же, никуда не делся, тем не менее его бомбардировка не прошла незамеченной. По немецким данным, в городе погибло 23 человека, а еще 250 лишились крыши над головой. Этот налет стал единственным крупным ударом советской авиации по объектам на немецкой территории за весь 1941 год! И все-таки сложно считать, что этот налет оказал хоть какое-то влияние на сухопутную обстановку в районе Либавы, как это пытался показать в своих мемуарах командующий флотом Трибуц.
Тем временем штаб армии предпринимал более реальные меры, чтобы оказать помощь гарнизону. Еще вечером 22 июня для борьбы с возможными авиадесантами противника южнее и юго-западнее Риги была создана группа войск в составе 28-го мотострелкового полка 28-й танковой дивизии (подполковник Шеразедишвили) и двух батальонов Рижского пехотного училища (один на автотранспорте, другой передвигался по железной дороге). Уже днем 23 июня полк получил задачу восстановить сухопутную связь с Либавой, но в 12.30, находясь на марше, подвергся удару девятки бомбардировщиков, потерял 5 машин, 10 человек убитыми и 30 ранеными. Очевидно, после этого командование полка потеряло связь с реальностью и начало дезинформировать командование армии о своем истинном местоположении и действиях. В 14.30 от него поступило донесение, что полк развернул 1,5 батальона перед Гробиня (то есть в 6 км восточнее Либавы, там, где в этот момент находился передовой отряд 505-го немецкого полка!) и вступил в бой с мелкими подразделениями врага, которые особого сопротивления не оказывают. Командование армии приказало полку решительней уничтожать противника. На самом же деле, по данным штаба Прибалтийской ВМБ, полк только в 8 часов утра 24 июня проследовал через Кулдигу, то есть находился все еще в 75 км северо-восточнее города. С кем он воевал, вообще не понятно – в немецких описаниях боев под Либавой никаких попыток деблокировать город ударами извне вообще не отмечено.
Согласно официальному описанию, «по пути эти части (к мотострелковому полку позднее присоединился и один курсантский батальон. – Авт.) у Скрунды и Рудбаржи столкнулись с более крупными немецкими силами. Части противника понесли большие потери и были несколько оттеснены, однако было очевидно, что прямым путем от Скрунды до Лиепаи не пробиться. С тяжелыми боями отряд 27 июня прорвался к Айзпуте, где снова вступил в бой с противником. Авангард отряда пробился до Айстере, но здесь был остановлен превосходящими силами врага. После трехдневных безуспешных попыток прорваться к Лиепае отряду с самолета был сброшен приказ о возвращении в Ригу» [165] . Сомнительно, чтобы частям 291-й немецкой дивизии, штурмовавшим город, удалось создать не только непреодолимое внутреннее, но и внешнее кольцо окружения, тем более что ширина полосы должна была составлять не менее 40 км.
В самой Либаве к утру 24 июня ночная паника стала понемногу утихать, а командование дивизии и базы наконец-то взялось за мобилизацию всех наличных сил и реорганизацию рубежей обороны. Всю оборону разделили на три участка: северный – между берегом моря и Тосмарским озером, восточный – между Либавским и Тосмарским озерами и южный – между Либавским озером и побережьем. Оборона северного участка была возложена на 32-й отдельный местный стрелковый батальон капитана Пышкина. Его поддерживала 23-я батарея береговой обороны и прикрывала с воздуха 842-я зенитная батарея военно-морской базы. Южный участок защищал так называемый морской отряд, сформированный в основном из личного состава береговой базы 1-й БПЛ, батальон 56-го полка и остатки двух батальонов 281-го полка. Морской отряд насчитывал около 300 матросов и офицеров, в том числе 40 мичманов – выпускников Высшего военно-морского училища им. М.В. Фрунзе, прибывших накануне войны в Либаву для прохождения штурманской практики на подводных лодках. Его поддерживали 27-я батарея береговой обороны, батареи 94-го легкого артиллерийского и 242-го гаубичного полков, а с воздуха прикрывала 502-я зенитная батарея военно-морской базы. Восточный участок в дополнение к подразделениям 56-го полка занял батальон, сформированный из курсантов училища ПВО (полковник А.А. Томилов), а также отряд, сформированный на базе флотского полуэкипажа (260 человек). Комендантом участка являлся начальник училища Благовещенский. Уже утром к ним присоединился отряд морской пехоты, сформированный из экипажа эсминца «Ленин» (старший лейтенант А.И. Майский). На вооружении моряков, кроме винтовок, были автоматы ППД, полуавтоматические винтовки системы Симонова и ручные пулеметы Дегтярева. Поддерживала оборону этого участка 27-я батарея береговой обороны, а прикрытие с воздуха осуществляли 841-я и 503-я зенитные батареи военно-морской базы. В общий резерв обороны военно-морской базы и города было выделено 1000 человек, а также 100 автомашин.
Позднее в состав обороны влились новые формирования. В Либаве был создан Штаб Гражданской Обороны города во главе с секретарем Либавского городского комитета Компартии Латвии М.Я. Букаса. На городских предприятиях были созданы рабочие отряды. Кроме них, в городе сформированы батальон городского и советского актива (командир Дундар), отряд милиции, отряд Осоавиахима, комсомольский отряд. Батальон рабочих завода «Тосмаре» под командованием А. Петерсона (450 человек) занял позиции у фортов и вдоль канала, соединяющего порт с Лиепайским озером. В районе рощи Аспазия, под укрытием фортов, вместе с пограничниками включились в оборону рабочие завода «Сарканайс металургс» (командир – Э. Муциеник, 250 человек) и отряд актива советских и партийных работников. Боевой участок от шоссе до озера занял отряд Осоавиахима и группа комсомольцев И. Судмалиса, переброшенных с южного сектора обороны. Чтобы предотвратить возможность переправы немецкого десанта через Лиепайское озеро, вдоль его берега занял оборонительные позиции отряд под командованием Зундмана [166] . Отряд имел одно орудие и успешно обстреливал немецкие позиции за озером и подготовленные врагом переправочные средства. В состав восточного сектора влились отряды, сформированные из экипажей взорванных подводных лодок, ледокола «Силач» и паровой шаланды «Тунгуска» под командованием старшего политрука Амелина.
Всю ночь на 24 июня вплоть до утра позиции восточного участка подвергались ожесточенному артиллерийскому, минометному и пулеметному обстрелу. Несмотря на это, командование обороны решило своими силами разгромить вражеские подразделения, вышедшие к городу с востока, и восстановить железнодорожную связь с Ригой, после чего всем составом базы отходить в направлении столицы Латвии. Интересно отметить, что в отличие от штаба 67-й дивизии, Клевенский имел связь со штабом КБФ и открыто докладывал о своем намерении отступить из Либавы, но командование флотом никак на это не реагировало, а параллельно пыталось получить указания из Москвы.
Пока все это осуществлялось, моряки и солдаты пошли на прорыв. Участник боев в должности командира курсантской роты капитан В.А. Орлов так вспоминал эти события: «Было решено провести разведку боем небольшим отрядом при огневой поддержке береговых батарей, с задачей – обойти немцев в районе хутора Беги с правого фланга, ворваться с тыла в их расположение, а если удастся, то и выбить противника из хутора. Выполнение этой боевой задачи возлагалось на сводный отряд в составе двух взводов 2-й и одного 1-й курсантских рот, взвода команды эсминца «Ленин» и подразделения 56-го полка 67-й стрелковой дивизии. Кроме винтовок, автоматов и гранат, отряд имел на вооружении ручные и станковые пулеметы.
Утром 24 июня сводный отряд под командованием капитана В.А. Орлова сосредоточился в районе перекрестка Гробиньского и Виндавского шоссе и после короткой артиллерийской подготовки начал наступление вдоль Гробиньского шоссе.
Когда передовые курсантские взводы отряда приблизились к хутору, немцы открыли прицельный автоматный и пулеметный огонь, и курсантам пришлось залечь. Вскоре подошли другие подразделения, в том числе отделение станковых пулеметов. Во взводе 1-й курсантской роты находился заместитель командира батальона по политчасти полковой комиссар А.В. Горожанкин. Обнаружив, что на правом фланге наступающего отряда передовые подразделения оказались прижатыми огнем противника к земле на открытой поляне, он поднялся во весь рост и бросился вперед. Вслед за ним вскочили курсанты и под прикрытием огня подоспевших станковых пулеметов двинулись в атаку. Несмотря на сильный огонь, наши бойцы ворвались в расположение противника, и завязалась жестокая схватка. Немцы, укрывшись в домах и сараях, поливали огнем наступающих. Бой проходил с переменным успехом и длился весь день» [167] .
Только к вечеру, когда кончились боеприпасы, отряд отошел на новые позиции непосредственно у окраин города и занял оборону на линии старых фортов, опоясывавших Лиепаю. В то время пока отряд вел наступательный бой, воспользовавшись разрывом между моряками и сухопутными подразделениями, во встречном направлении в глубь нашей обороны начали просачиваться немецкие подразделения. Лишь с большим трудом удалось восстановить сплошную линию фронта. Известно, что и немцы в ходе боев понесли серьезные потери, в частности погиб командир морского ударного батальона фон Дист. На южном участке обороны противник попытался форсировать в наиболее узком месте Либавское озеро, вблизи которого занимал оборону отряд моряков интенданта 1 ранга К.П. Павлова. Попав под сильный огонь морских пехотинцев, поддержанных огнем 27-й береговой батареи, и понеся потери, враг вынужден был повернуть обратно.
Кстати говоря, обе наши 130-мм береговые батареи успешно справились с несвойственными задачами, подавив и уничтожив в течение 24–26 июня немало батарей противника в районе Гробини, на Батском аэродроме и на шкедском направлении. Следует отметить, что большинство командиров и матросов вышеперечисленных батарей прибыли в Лиепаю с Черноморского флота и были хорошо обучены артиллерийскому делу. Отлично замаскировав позиции, артиллеристы сделали их почти неуязвимыми для самолетов неприятеля. Особенно в боях отличились командир 23-й батареи капитан С.Е. Гордейчук и его заместитель лейтенант С.А. Кормильцев.
И все-таки никакой наш огонь и атаки не помешали генерал-лейтенанту Херцогу произвести перегруппировку главных сил дивизии с южного направления на восточное, а передовым отрядам 505-го полка выти к берегу моря в районе Павилосты. Посланные вечером для установления связи два советских торпедных катера встретили там не батальон 56-го полка, который Дедаев с запозданием решил отозвать в город, а огонь немецкой пехоты. Кольцо окружения замкнулось, и в 01.30 25 июня Херцог направил в подразделения приказ с рассветом начать штурм города.
Практически в то же время командование армии и флота поставило перед защитниками базы задачу удержаться любой ценой. Сначала в 18.50 была получена шифровка от начальника штаба 27-й армии полковника Болознева: «Моторизованный полк [с] 18.00 24.6.41 г. атакует противника у Либава с востока. К вечеру к нему подходит танковый полк. Упорно держитесь» [168] . Чуть позже была получена и лаконичная телеграмма от наркома ВМФ Кузнецова: «Либаву не сдавать!» Этот приказ был немедленно доведен до личного состава всех частей, оборонявших город. Лишь после этого Дедаев и Клевенский окончательно поняли, что никакого приказа отступать не последует и им предстоит сражаться, а возможно, и умереть в городе. Были приняты дополнительные меры, повысившие устойчивость обороны, в частности, артиллерийские и зенитные батареи были подтянуты к боевым порядкам оборонявшихся частей и расположены на танкоопасных направлениях, с задачей в случае прорыва танков противника уничтожать их огнем прямой наводкой.
Ночь на 25 июня прошла тревожно. Немецкая артиллерия и минометы усиленно обстреливали наши позиции, а дальнобойная артиллерия вела огонь по Либаве. Город был охвачен пламенем. Ранним утром наступило почти полное затишье. Однако уже через 30 минут огонь возобновился с новой силой – противник начал штурм. Его главный удар был направлен вдоль Гробиньского шоссе. По воспоминаниям очевидцев, наступление началось с психической атаки. Немецкие солдаты шли во весь рост, засучив рукава и непрерывно стреляя из автоматов. Их поддерживали пулеметным огнем действовавшие в боевых порядках мотоциклы и бронемашины, а также многочисленные бомбардировщики. Атаку удалось отбить. И повторная атака противника была отражена. Временами дело доходило до рукопашных схваток. Особенно ожесточенный бой развернулся на восточном участке обороны поздним вечером. Несмотря на значительное превосходство, врагу удалось только потеснить оборонявшихся, но прорваться в город он так и не смог. Тяжелые бои с утра до вечера шли также на северном, восточном и южном участках обороны. В этот день гарнизон понес тяжелую утрату – во время рекогносцировки был тяжело ранен и спустя несколько часов скончался от ран генерал-майор Н.А. Дедаев. В командование дивизией вступил начальник ее штаба полковник Бобович.
Противник в тот день также лишился многих солдат и офицеров, в том числе и командира морской специальной команды капитан-лейтенанта Биглера. Историограф немецкой 291-й дивизии В. Конце в своей книге по поводу боев за Либаву писал: «Последовали четыре дня упорных боев, в которых выяснилось, что русский противник – крепкий орешек и не «размягчается», как это было с французами, несмотря на меткость альпийских стрелков» [169] .
В боях этого дня приняла участие подводная лодка «М-83» (старший лейтенант П.М. Шалаев). Еще накануне она из-за неисправности перископа вернулась с дозорной позиции в порт, не представляя, в каком положении он находится. «Придя в Военную гавань, – вспоминал член экипажа субмарины Евстигнеев, – мы обнаружили, что Гидроотдел разбомблен (на самом деле здание было сожжено в ходе панических событий ночи на 24 июня. – Авт.) и смену перископа мы произвести не можем. А потому все сильно помогали подошедшему фронту, ведя огонь по наступающему врагу и авиации противника из орудия и пулемета». Его дополняет другой очевидец, начальник Топливного отдела тыла ЛВМБ П.В. Рощин: «[ «М-83»] была поставлена к берегу в канале, немного притоплена и замаскирована кустарником. Эта лодка имела орудие 45 мм, и этой пушкой она успешно все последующие дни отгоняла немецкие самолеты, которые пытались наносить удары по окопам наших бойцов… Мои люди привели армейского офицера, который просил пропустить его к командиру этой лодки, он очень его просил, чтобы пушка этой «малютки» шрапнелью поддержала контратаку его части. И это было выполнено: эта пушчонка шрапнелью, беглым огнем заставила немцев отойти… Об этом мне стало известно, когда прибыл этот же офицер, восхищаясь тем неожиданным эффектом, который произвела эта пушка на немцев, которые считали, что сопротивление уже сломлено».
Согласно отчету БПЛ КБФ, «М-83» отстреляла за 25 июня 170 снарядов (в т. ч. 50 по воздушным целям) и еще 1600 снарядов в течение следующих суток (из них 100 по самолетам). Штурман «М-83» лейтенант Е.Т. Антипов вспоминал, что «интенсивность стрельбы была настолько высокой, что ствол пушки накалился, и моряки охлаждали его мокрыми тельняшками». С учетом того, что к 26 июня на остальных батареях снарядов почти не оставалось, это была существенная помощь.
Несмотря на это неожиданно успешное применение лодочной артиллерии, командование базы затратило немало сил на то, чтобы как можно быстрей уничтожить корабль. Участник событий торпедист «М-71» старшина 2-й статьи И.С. Грабовский утверждал, что поскольку «замену перископа в базе [произвести] было невозможно, командир лодки решился уйти в море, на что разрешения не получил. Несколько раз поступали приказания о потоплении лодки, командир их не выполнял». Несомненно, что Шалаев игнорировал приказы Клевенского потому, что днем 25 июня получил шифровку из Риги от командира 1-й БПЛ капитана 1 ранга Н.П. Египко, где ему предписывалось «по обстановке перейти в Усть-Двинск… при невозможности погружения добиться боевого обеспечения» от штаба ЛВМБ. В Либаве к тому времени еще оставалось пять торпедных катеров Осипова, но их Клевенский берег для собственной эвакуации и никуда отпускать не хотел. Не мог он и выпустить «М-83» без обеспечения – случись с ней что, с него же могли и спросить. Оставалось одно – поставить командира подлодки перед необходимостью самому взорвать свой корабль, что и случилось в ночь на 27 июня при оставлении базы…
Наступившая ночь не отличалась от предыдущей: тот же обстрел дальнобойной артиллерией города и порта, огненное зарево над ними, непрерывный обстрел советских позиций из всех видов оружия, бомбовые атаки немецких самолетов на зенитные и береговые батареи. Враг бомбил не только город и его военные объекты, но Либавский военно-морской госпиталь (военврач 2-го ранга И.И. Чинченко), где скопилось много раненых. С первых же дней войны перед медико-санитарной службой встали исключительно трудные задачи. Госпиталь имел 150 коек и мог дополнительно развернуть еще 300. К вечеру первого дня войны в госпиталь стали поступать раненые, и к ночи 24 июня все основные койки и дополнительно развернутые по мобилизационному плану были заняты. Решено было освободить прилегающие к госпиталю здания и в них разместить еще 600 коек. В последующие дни обороны число раненых настолько возросло, что и этих коек не хватило.
Стала ощущаться нехватка боеприпасов как для береговых, так и для зенитных батарей. К этому времени иссякли боеприпасы и на складах 67-й дивизии, даже несмотря на то что командование ВМБ передало ей 25 тыс. патронов. Имелись и проблемы иного свойства. Командир ВМБ Клевенский не сумел найти общего языка с начштабом дивизии Бобовичем, и очевидцы слышали, как Клевенский в крайнем раздражении заявил по телефону: «Вы командуете своими частями, а я своими». Естественно, такие разговоры на благо обороны не шли. И все-таки на протяжении всего дня атаки противника удавалось отражать.
Постепенно к солдатам и матросам приходило истинное понимание сложившейся обстановки, вера в свои силы, уверенность в то, что противника можно бить в обороне и контратаках. Оставалось организовать снабжение базы морским транспортом, и положение могло бы окончательно стабилизироваться, по крайней мере до тех пор, пока немецкое командование не произвело бы серьезного усиления дивизии Херцога. Тем неожиданнее было приказание, переданное из штаба 27-й армии в 15.45 26 июня: «Не ожидая соединения с поддержкой, немедленным прорывом оставить Либаву, подчинив себе мотополк, батальоны Рижского училища и 114 сп, отойти на рубеж р. Лиелупе направлением Кульдига – Тукумск, организовав прочную оборону [в] полосе Рига – Юрмала – Пучас» [170] .
Что же заставило наше командование, еще пару дней назад настаивавшего на упорной обороне города, отдать этот приказ? Толчком, безусловно, стало неблагоприятное развитие ситуации на суше. В боях 22–26 июня войска Северо-Западного фронта потерпели катастрофическое поражение. Одна из двух находившихся в первом эшелоне армий – 11-я – была смята и частично рассеяна в ходе боев в Южной Литве и теперь отходила на восток, потеряв на несколько дней связь с командованием фронта. 8-я армия вместе с остатками 12-го мехкорпуса отступала на северо-восток за Западную Двину. Дело в том, что утром 26 июня передовые отряды 56-го немецкого моторизованного корпуса генерала Э. фон Манштейна захватили мосты через реку в городе Даугавпилс (Двинск), создав тем самым плацдарм для дальнейшего наступления на Ленинград и угрозу окружения главных сил фронта на западном берегу. Командование фронта поставило перед Берзариным задачу ликвидировать плацдарм. С этого момента стало окончательно ясно, что никакой эффективной помощи Либаве командование 27-й армии оказать не сможет. Наоборот, оно нуждалось в том, чтобы как можно быстрей собрать все разбросанные по Прибалтике части и восстановить оборону по Двине.
После получения приказа командование дивизии приступило к разработке плана прорыва, но командование ВМБ по поводу эвакуации не имело от своего руководства никаких указаний. Не исключено, что именно этим и был вызван конфликт между Клевенским и Бобовичем – сухопутные части собирались уйти, несмотря на то что моряки оставались на месте! Клевенский немедленно доложил о происходившем в Таллин, но оттуда ему не смогли ответить ничего вразумительного. На то, чтобы связываться с Москвой и ждать указаний от Кузнецова, уже не оставалось времени, к тому же сухопутной обстановкой тот вряд ли владел лучше, чем командующий КБФ, а связаться с командованием Северо-Западного фронта не удавалось из-за отсутствия прямой связи. И тогда комфлота Трибуц решился на по-своему уникальный «автопробег» из Таллина в Ригу, где он рассчитывал встретиться с командующим войсками фронта Ф.И. Кузнецовым и выработать какое-то совместное решение.
То, что он увидел в Риге, должно быть, оказалось хуже его самых мрачных предчувствий. В своей объяснительной записке, написанной прокурору 24 июля, он указывал следующее: «27 июня, находясь в Риге в штабе ПрибОВО, зам. командующего армией Сафронов (имеется в виду заместитель командующего войсками фронта генерал Г.П. Софронов. – Авт.) передал мне указания об оставлении Либавы и о начале эвакуации Риги. Сафронов сообщил, что штаб Северо-Западного фронта уже перешел на восток. Об указаниях штаба ПрибОВО мною было доложено Народному Комиссару Военно-Морского Флота около 1 часа ночи 27.06.41, – получил указание Наркома об отводе своих кораблей и отводе частей из Риги. Клевенский запрашивал меня, что делать в случае вынужденного оставления Либавы. Мною телеграммой было приказано – все, что нельзя вывести, нужно уничтожить… В 4.00 27.06.41 мною по телефону из Риги было приказано полковнику Герасимову в Виндаве (командир Виндавского сектора береговой обороны. – Авт.) отходить вместе с частями Красной Армии на Ригу, уничтожив всю материальную часть. Ему же было приказано передать мое решение майору Крайнему, командиру дивизиона батарей, находящегося в Ирбенском проливе, отходить на плавсредствах на Церель, о чем был предупрежден комендант БОБРа (Береговая оборона Балтийского района. – Авт.) Елисеев и которому было приказано оказать помощь».
Для обоих подчиненных Трибуца приказ об отходе явился громом среди ясного неба. До его получения никто и не думал об оставлении Либавы и был готов сражаться до конца, несмотря на то что у береговых батарей оставалось по 60 выстрелов. Гарнизон не покидала надежда на подход резервов Красной Армии, которые отбросят противника и деблокируют базу. С получением же приказа об оставлении Либавы все поняли, что помощи ждать не от кого. Начался последний акт драмы.
Командир ВМБ и командование дивизии приняли и согласовали совместное решение о порядке прорыва частей и подразделений базы флота. Руководство выводом из окружения войск гарнизона принял на себя полковник В.М. Бобович. Были намечены два направления ударов: первое – по приморской дороге на север с последующим поворотом на Айзпуте и Кулдигу; второе – правее Виндавского шоссе через Айзпуте, Кикури и дальше на Кулдигу. Группировку, действующую на первом направлении, возглавил командир 56-го стрелкового полка майор Кожевников, а на втором – полковник Бобович. Для обеспечения прорыва и отвлечения противника были оставлены на позициях восточного участка курсантский батальон и рота 56-го полка.
Получив приказание об уничтожении береговых батарей, их командиры предварительно расстреляли все боеприпасы по врагу и, приведя в полную негодность орудия и приборы, направили личный состав в район сосредоточения. Артиллеристы-зенитчики прибыли в район прорыва, захватив с собой все исправные орудия и боеприпасы. Сюда же подтянулись и другие подразделения моряков, где они поступили в подчинение армейского командования. Начало прорыва назначалось на 10 часов утра 27 июня. Командование дивизии условилось с Клевенским, что он убудет на торпедном катере в Виндаву и оттуда организует помощь отходившим из Либавы частям. При этом командование дивизии почему-то не учитывало или не знало о том факте, что находившиеся в Виндаве сектор береговой обороны и 114-й стрелковый полк, в свою очередь, также получили приказ отходить на восток и никакой помощи либавскому гарнизону оказать скорей всего не смогли бы. Также морем планировалось эвакуировать раненых, которых к тому времени скопилось до тысячи человек при 200 лицах обслуживающего медперсонала. В большой спешке они были погружены на два транспорта. Одним из судов был латвийский «Виениба», название второго установить не удалось.
О дальнейшем в расследовании политуправления КБФ говорилось так: «Клевенский примерно в 4.00 27 июня сел на один из ТК с частью штабных работников, на котором был командир дивизиона ТК т. Осипов, на ходу дал приказание т. Радкевичу зайти на ТК в канал, где стояли транспорта с ранеными, и посмотреть, как там дела, поторопив их с выходом, а сам ушел в Виндаву. Это, я считаю, было второе тягчайшее преступление т. Клевенского. В это время неизвестно кем и по какому приказанию были разбиты нефтебаки, выпущена оттуда нефть в канал и зажжена. На месте погрузки от нефти начал гореть один из транспортов, на который эвакуировали раненых, и транспорт на месте погиб. Т. Радкевич пытался зайти в канал в исполнение приказа Клевенского, но, так как по всему каналу пылала нефть, зайти он туда не смог. Принял решение оставить капитана Ковтуна с тремя ТК в Либаве, а сам ушел на ТК вслед за Клевенским в Виндаву».
По-видимому, топливо из нефтебаков было выпущено по распоряжению самого Клевенского – так он в последний момент попытался выполнить приказ Трибуца уничтожить все то, что не могло быть эвакуировано. При этом в акватории порта сгорело около 11 тыс. тонн жидкого топлива и смазочных масел. Впопыхах ничего не успели сделать с торговыми судами, остававшимися в порту. В результате противнику достались транспорты «Амата», «Аусеклис», «Дарбас», «Кайя», «Кандава», «Кулдига», «Огре», «Рауна», «Рига», «Спидола», «Велта», «Вента» и несколько буксиров, что оказалось неплохой прибавкой к немецкому торговому флоту.