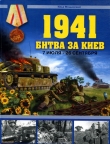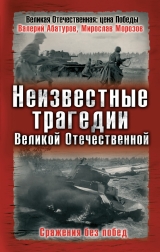
Текст книги "Неизвестные трагедии Великой Отечественной. Сражения без побед"
Автор книги: Мирослав Морозов
Соавторы: Валерий Абатуров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Судно «Виениба» в сопровождении торпедных катеров № 17, № 27 и № 67 вышло в море около 5 часов. Примерно в 6-м часу, когда госпитальное судно уже шло курсом на север, неожиданно появились немецкие бомбардировщики. Они стали поливать пароход пулеметно-пушечным огнем, одновременно сбрасывая мелкие бомбы. Беззащитное госпитальное судно было потоплено в нескольких милях от берега. Тех, кто пытался спастись вплавь, расстреливали с бреющего полета. Спаслось лишь 15 моряков, все остальные погибли. Также затонул торпедный катер № 27.
Тем временем ушедшие первыми катера № 37 (с Клевенским на борту) и № 47 (с Радкевичем) оказались перехвачены группой немецких торпедных катеров, возвращавшихся после удачной атаки советских кораблей в Ирбенском проливе (был торпедирован и потерял носовую часть эсминец «Сторожевой»). В скоротечном бою катер № 47 получил множество попаданий и потерял ход. Видимо, командиры немецких «шнельботов» сочли его обреченным, поскольку удалились, не добив торпедный катер и не попытавшись захватить с него пленных. Первый катер вернулся и снял с ТКА № 47 экипаж. 47-й казался обреченным на скорое затопление и был оставлен в море. В связи с этим большое удивление вызывает тот факт, что днем 5 июля (т. е. через 8 суток после боя!) он был обнаружен в дрейфующем состоянии немецкими тральщиками, проводившими контрольное траление фарватера от Либавы к Виндаве. Катер был взят на буксир, доставлен в ближайший порт и вскоре включен в состав кригсмарине под названием «Антон». Немцы использовали его в экспериментальных целях, но вскоре исключили из состава флота.
Что же касается катера с Клевенским на борту, то он вскоре прибыл к Виндаве. Обнаружив в аванпорту транспорты – а это были суда, ранее «сбежавшие» из Либавы, – капитан 1 ранга решил, что противник высаживает в городе десант, и от захода в порт отказался. Катер, огибая Курляндский полуостров, пошел в Ригу. В пути следования он неоднократно подвергался обстрелу наших же береговых батарей, в результате чего ранения получил заместитель начальника 3-го отдела (военная контрразведка) Либавской ВМБ майор Шугуров. В 12 км от Риги на катере закончился бензин. Подозвали рыбацкую шхуну, куда пересели Клевенский и все штабные работники. Они обещали прислать из Риги катер с бензином, что, конечно же, сделано не было. Оставшийся на катере командир отряда, в будущем Герой Советского Союза капитан-лейтенант Осипов, на протяжении двух суток напрасно ждал помощи, пока не договорился с другой шхуной отбуксировать катер на Моонзундские острова. Так закончилась эвакуация той части гарнизона Либавы, которая уходила морем.
В 10 часов начался прорыв сухопутных частей. Он осуществлялся двумя колоннами. Первая колонна (командир 56-го сп майор Кожевников) двигалась вдоль морского побережья. В ее состав входили: подразделения 56-го стрелкового полка, приданный ему 84-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион, личный состав 23-й батареи береговой обороны, работники порта, подразделения северного участка обороны города. В случае встречи на приморской дороге с крупными силами врага колонна должна была уклониться вправо, на Кулдигу, а затем продолжать продвижение на Вентспилс, где предполагалось организовать оборону.
Вторая колонна (командир полковник Бобович) прорывалась правее. Она состояла из защитников восточного и южного участков обороны города, дивизионов 242-го гаубичного артиллерийского полка, 43-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона и зенитного артиллерийского дивизиона 67-й стрелковой дивизии. Прикрывали прорыв и отход колонн 27-я батарея береговой обороны и одна противотанковая батарея.
Прорыв первой колонны начался после артиллерийской подготовки, длившейся 10–15 минут – ровно на столько хватило снарядов. Сразу вслед за ней войска начали движение. На первых порах все шло благополучно: часть машин проскочила через мост и растянулась по дороге, другие сосредоточились на подступах к мосту. По признанию немцев, атакующие создали критическую ситуацию, и закрыть «окно» удалось с большим трудом. Но противник вызвал авиацию. Самолеты делали заход за заходом, бомбя и обстреливая наши войска. На дороге образовалась пробка из большого числа машин, среди которых было много санитарных с тяжелоранеными. Создалось исключительно тяжелое положение. Колонна оказалась рассеяна, майор Кожевников погиб. Часть рабочих отрядов отошла к Новой Либаве и продолжила бой. Некоторые командиры подразделений ввиду трудности прорыва на главном направлении отвернули влево и повели свои подразделения между дорогой и берегом моря, где прорываться оказалось значительно легче. Здесь в прорыве участвовали почти исключительно подразделения моряков, которыми руководил полковой комиссар Поручиков. Позднее он пропал без вести. Некоторым подразделениям отряда удалось вырваться из окружения и присоединиться к советским войскам, отходившим с боями на восток.
Второй колонне повезло еще меньше. Ровно в 10 часов по сигналу, которым служили несколько артиллерийских выстрелов, части поднялись из окопов и траншей, перемахнули через вал и двинулись в сторону немецких позиций. Подразделения, занимавшие оборону влево от железной дороги, наступали вдоль широкого песчаного кювета, который примыкал к железнодорожному полотну. Остальные наступали в полосе между железной дорогой и Гробиньским шоссе. В целях маскировки огня не вели и двигались быстрыми перебежками.
«Вначале фашисты огня не открывали, – вспоминал командир курсантской роты капитан В.А. Орлов, – но, когда наши бойцы подошли довольно близко к вражеским позициям, противник открыл массированный огонь из пулеметов и минометов, а затем стал бить прямой наводкой и из орудий. Наступавшие оказались в огневом мешке, особенно те, которые находились левее железной дороги, так как им негде было укрыться от губительного огня. Все, кто в наступательном порыве прорвался далеко и попал в огневую ловушку, погибли, но не сдались врагу… Геройски погибли отважный командир курсантского батальона полковник А.А. Томилов и командир 1-й курсантской роты капитан В.К. Шелков. К вечеру 27 июня бои на восточном участке прекратились. Выбор направления прорыва вдоль железной дороги и Гробиньского шоссе был неудачным. Несмотря на героизм и бесстрашие, прорваться здесь из кольца окружения не удалось, а потери были велики».
В бою погиб полковник Бобович. Командование принял на себя начальник оперативной части штаба дивизии майор Меденцев. В составе одной из групп прорыва был и генерал-майор береговой службы И.А. Благовещенский – начальник Военно-Морского училища ПВО. 7 июля он вместе с несколькими курсантами был задержан местным населением – членами организации айзсарг – в 60 км севернее Либавы у местечка Справа и передан немецкому командованию. Благовещенский был доставлен в Шауляй, затем этапирован в Тильзитский лагерь военнопленных. С конца июля 1941 г. он содержался в Оффлаге XIII-D в Хаммельбурге, где добровольно стал сотрудничать с немцами, став, по-видимому, первым советским генералом, перешедшим на службу к врагу. У немцев он сделал неплохую карьеру – член президиума «Комитета борьбы с большевизмом», начальник «молодежной группы» курсов пропагандистов, редактор газеты «Заря», член «Русского комитета», начальник курсов пропагандистов РОА, руководитель идеологической группы управления пропаганды «Комитета освобождения народов России». Принял присягу на верность Гитлеру, был жалован званием «генерал-майор РОА» и железным крестом «За храбрость» II класса. 3 июня 1945 г. он был арестован СМЕРШем в американской зоне Мариенбаде и 1 августа следующего года приговорен к смертной казни через повешение.
Его подчиненные проявили намного больше мужества. Не желая попасть в немецкий плен, в ночь на 28 июня они повторили попытку прорыва. Воспользовавшись тем, что главные силы немецких войск вошли в город, где увязли в уличных боях, небольшой отряд курсантов и пограничников под командованием офицера 12-го пограничного отряда и двух офицеров Военно-морского училища ПВО (капитан В.А. Орлов и политрук А.С. Татаров), преодолев малочисленные заслоны противника, вырвался из окружения по Гризупской дороге и присоединился к нашим войскам, отходившим на Кулдигу. Другая боевая группа общей численностью до 150 человек, пробираясь по лесам, в районе Тукумса столкнулась с немецкими частями, захватившими город. Советские воины решительно бросились в атаку, выбили противника из Тукумса и открыли себе путь для дальнейшего отхода. Значительная часть прорвавшихся из окружения отрядов впоследствии соединилась с советскими войсками в районах Риги и Крустпилса. Всего из окружения вышло около 2 тыс. человек. 67-я стрелковая дивизия как понесшая большие потери 19 сентября 1941 г. была расформирована.
Узнав, что советские войска пошли на прорыв, генерал-лейтенант Херцог приказал возобновить штурм города. Поскольку централизованное руководство обороной уже отсутствовало, падение города было лишь вопросом времени. Фактически жилые кварталы защищали те войска, которые по каким-то причинам не успели выйти в районы сосредоточения для прорыва или вернулись назад, натолкнувшись на противодействие противника. Бои завязались на городском торговом канале, в парке Райниса, у обоих мостов. Для подавления тщательно замаскированных в зданиях пулеметных огневых точек немецкому командованию пришлось ввести в бой тяжелые пехотные орудия, полевые гаубицы и минометные батареи. Ожесточенное сопротивление, оказанное отрядами красноармейцев и краснофлотцев, получило соответствующее признание у врага. В своей книге «Гитлер идет на восток» П. Карель писал: «Организация обороны Лиепаи находилась на высоком уровне. Советские солдаты имели хорошую боевую подготовку и сражались с отвагой фанатиков. Русские считали чем-то само собой разумеющимся жертвовать собой во имя того, чтобы их главное командование могло выиграть время или чтобы другие могли перегруппироваться и пойти на прорыв. В сражении за Лиепаю немцы впервые столкнулись с типичным для советского командование мышлением: оно безжалостно бросало в мясорубку мелкие подразделения ради спасения более крупных. Такой подход приводил к росту потерь у немцев: так, в Лиепае погибли оба офицера, командовавшие штурмовыми морскими подразделениями. Наконец 29 июня морская крепость пала. Пехота 18-й армии записала себе в актив первую крупную победу. Однако не обошлось и без печальных уроков: в Лиепае солдаты Красной Армии впервые продемонстрировали, что при наличии у них умного, опытного командира и при условии, что неуклюжая цепочка командования успевает сработать и организовать оборону, они вполне способны удерживать сильные позиции» [171] .
Что происходит в том случае, когда «неуклюжая цепочка командования» не успевает сработать, можно рассмотреть на примерах эвакуации Виндавы и Риги. Отсутствие вражеских войск у этих пунктов не стало причиной для того, чтобы избежать паники, оставления или уничтожения имущества, которое вполне можно было спасти.
Вот как согласно спецсообщению начальника 3-го управления ВМФ бригадного комиссара Петрова происходила эвакуация из Виндавы: «27 июня в 1 час командир сектора получил приказ от командующего Прибалтийским Особым военным округом о немедленной эвакуации гор. Виндавы. В приказе не указывалось, где находятся войска противника и какое время предоставляется для проведения эвакуации. Эвакуация из гор. Виндавы, так же как и из города Либавы, происходила исключительно неорганизованно. При эвакуации необходимо было вывезти все материальные ценности, боеприпасы и продукты питания. Все это нужно было погрузить на имеющийся водный и железнодорожный транспорт.
Эвакуация всего наличного на складах порта имущества была поручена интенданту 1 ранга Иванову. Последний настолько растерялся, что в течение 3 часов, кроме 15 ящиков сгущенного молока на 4 транспортных суднах, ничего не погрузил, и они ушли не груженными, оставив противнику в целости боеприпасы [172] , материальные ценности и продукты питания. Кроме того, в порту были оставлены в исправном состоянии транспорт «Аарне», парусно-моторные суда «Мирилинд», «Оскар» и «Мария» – они стояли за разводным мостом, который забыли развести. Неисправный немецкий транспорт «Клаус Рикмерс» (единственное немецкое судно, оказавшееся в советских портах к началу войны) был затоплен на мелком месте, что не помешало противнику поднять его и ввести в строй. С 1943 г. он участвовал в перевозках в заполярный Киркенес.
Неорганизованная эвакуация Либавы и Виндавы вызвала среди личного состава частей, дислоцировавшихся в этих городах, отрицательное настроение и недовольство. Так, например, в момент эвакуации краснофлотец Чернобай Валентин Иванович, член ВКП (б), сказал в кругу краснофлотцев: «Что же нам остается делать? Только рыбу кормить своими телами, а не воевать».
Краснофлотец Перьемев Константин Иванович, беспартийный, при посадке на транспорт сказал: «Все говорим о своей храбрости, а вот струсили принять бой с немцами около Виндавы, видимо, преимущество на их стороне».
Старшина сверхсрочной службы Борзов Иван Васильевич, член ВКП (б), заявил: «Как теперь посмотрят на нас местные жители гор. Виндавы? Ведь мы просто струсили, оставив город без боя».
Еще более скандально прошла эвакуация Риги, осуществлявшаяся все в тот же день, 27 июня. После ночных телефонных переговоров с Москвой командующий КБФ Трибуц в 02.50 прибыл на плавбазу 1-й БПЛ «Иртыш» и, пока там собирали всех приглашенных для совещания лиц, отдал приказы на оставление Либавы и Виндавы. Дальнейшее он в своей записке прокурору описывал так: «В период от 2-х до 5.00 27.06.41 мною были вызваны на ПБ «Иртыш» контр-адмирал Трайнин, капитан 2 ранга Нефедов, капитан 2 ранга Крат [173] , капитан 1 ранга Египко, командир КР «Киров» капитан 2 ранга Сухоруков.
Т. Нефедову и т. Крат мною было приказано на имеющийся тоннаж грузить все, что может быть вывезено, и сразу же они были отпущены для выполнения указаний, им же мною было отдано приказание о затоплении ТР в Усть-Двинске и минировании подходов к Усть-Двинску. Там же мною был утвержден план вывода кораблей из Риги в Рогекюль, очередность и средства обеспечения их».
После совещания на «Иртыше» командующий убыл, предоставив подчиненным возможность, по сути, действовать так, как они посчитают нужным в этой обстановке. Дело в том, что, отдав свои указания, командующий забыл назначить ответственного командира или начальника, который отвечал бы за всю эвакуацию в целом. Отряд легких сил (им командовал бывший командующий Северным флотом вице-адмирал Дрозд) и 1-я бригада подлодок не подчинялись командованию Прибалтийской ВМБ, и все три инстанции действовали каждая по своему разумению, сильно мешая друг другу.
«Приказание об эвакуации Прибалтийская ВМ База, – оправдывался перед прокурором командир базы Трайнин, – получила около 3 часов 27 июня. До этого было получено несколько распоряжений о немедленной отправке из Риги всех торговых судов. Срок окончания эвакуации был установлен к исходу суток 27.06.
Днем 27.06 была получена телеграмма об ускорении начала эвакуации [174] . Поэтому вся работа происходила весьма спешно. Дело осложнялось тем, что крейсер «Киров», занимавший большую часть причала Минной гавани, вместо 7 утра, как предполагалось, вышел только в 17.00. Этим не только создавалась помеха погрузке, но замедлялась и подача боеприпасов из складов на стенку, так как по требованию командира ОЛС прибывший из склада состав с глубинными бомбами и минами был возвращен обратно в крепость, потому что командир корабля опасался такого соседства.
В результате транспорты под погрузку боеприпасов были поставлены только в 18–20 ч. Около 19.00 я отдал приказание отправлять транспорта по готовности в Пярну».
Здесь мы на время прервем цитирование объяснительной Трайнина и дадим высказаться другому очевидцу эвакуации. Представитель Главного политического управления ВМФ полковой комиссар Калужский в докладной записке начальнику Главпура армейскому комиссару И.В. Рогову свидетельствовал, что даже в Мильгравис, где ничто не мешало транспортам грузиться, первое судно встало под погрузку только в 14 часов. В 19 часов поступило указание не «отправлять суда по готовности», а прекратить погрузку и немедленно эвакуировать людей. Приказание поступило от начальника штаба базы капитана 1 ранга Чугунова, который ссылался на устное указание Трайнина. Только в Мильгрависе на причалах осталось 80 тонн картофеля, 300 тонн муки, 9 тонн масла и многое другое. В порту были брошены пароходы «Молс», «Нептун», «Юрнекс», несколько шаланд, шхун и буксиров.
Но вернемся к объяснительной Трайнина: «Движение (транспортов. – Авт.) обеспечивалось путем разведки 41 и 43 АЭ и в наиболее опасном месте – в южном Моонзундском проходе должно было быть обеспечено латвийскими тральщиками.
Все остальные средства обеспечения – СКА, ТКА были отданы ОЛСу и 1-й БПЛ. Командир 1-й БПЛ, однако, этим не удовольствовался и самовольно приказал следовать с ним и тральщикам, лишив, таким образом, всякого обеспечения около 50 транспортов.
Вместе с тем в Риге началось восстание антисоветских элементов. К югу от города слышалась артстрельба. Связь со штабом ПрибОВО и 8-й армии и сообщение между правым и левым берегами р. З. Двина прервались. Очевидно, в связи с этим и телеграммой об ускорении эвакуации мое приказание о выпуске погруженных транспортов было понято Тылом как сигнал к окончанию эвакуации, и транспорта стали выпускаться недогруженными. Оставшуюся часть боезапаса взорвали около 21.00 27.06, так как к этому времени уже не оставалось транспортов. Остались невзорванными – артбоезапас на стенке Минной гавани и минные защитники в Мильгрависе, которые нельзя было рвать, т. к. они находились в окружении складов, охранявшихся частями КА (Красной Армии. – Авт.).
Охрана рейдов Риги под командой капитан-лейтенанта Оленицкого продолжала оставаться в Риге до утра 28 июня, заканчивая работы по погрузке и разрушению, а также по заграждению устья р. Зап. Двина затоплением судов. Было затоплено два парохода, стеснившие, но не окончательно заградившие проход в Двину.
Я со штабом выехал из расположения 98-го артдивизиона около 21.00 27.06 с расчетом – выяснить обстановку в штабе 8-й армии и проверить по пути ход погрузки транспортов. Посетив причалы, я увидел, что все транспорты уже ушли. Затем произошли взрывы в Усть-Двинске. Около 22.00 я выехал из Риги в Пярну для установления связи со штабом КБФ и организации прохода транспортов в Моонзунд.
В целом эвакуация Риги прошла неудовлетворительно. Ненужную торопливость вызвала телеграмма об ускорении и без того слишком короткого срока эвакуации.
Дезорганизующую роль сыграли также самочинные действия командиров соединений (ОЛСа, 1-й БПЛ), самовольно захвативших плавучие средства и даже боевые корабли базы.
Штаб базы, крайне малочисленный, был вынужден делить свое внимание между обеспечением действий боевых кораблей (обеспечение выхода, разведка на морском и сухопутном участках театра, оказание помощи поврежденному ЭМ «Сторожевой», перебазирование авиации) и руководством эвакуацией, отдавая предпочтение первым.
Контр-адмирал Трайнин. 15.7.1941».
В заключение общего описания эвакуации следует добавить, что ожесточенные бои за Ригу продолжались до утра 1 июля. В них приняли участие и краснофлотцы оставшегося тут 98-го отдельного артдивизиона береговой обороны. Впрочем, описание их героических действий еще ждет своего историка.
Таким образом, из вышеприведенных документов очевидно, что в 1941 г. никто не воспринимал оборону Либавы и других прибалтийских баз в качестве каких-то достойных упоминания героических событий, скорей наоборот. Большое количество ошибок, паники и недостойных поступков со стороны ответственных лиц буквально переполняло флотские документы, и на это надо было как-то реагировать. Тем более, что 3 июля И.В. Сталин произнес знаменитую речь, где давались не только общие рекомендации, что нужно делать перед вынужденным оставлением объектов и территории противнику, но и выдвигались строгие требования по борьбе с паникерами. Первым козлом отпущения был назначен командир эсминца «Ленин» Афанасьев. В начале июля его в штабе КБФ в Таллине встретил командир подлодки «Л-3» Грищенко. В своих мемуарах он писал: «Выходя из кабинета начальника штаба контр-адмирала Ю.А. Пантелеева, встретил Афанасьева…
– Я узнал от одного доброжелателя, – сказал он, – что ты у начальства. Решил тебя повидать. Я ведь подследственный, нахожусь в штабе флота вторые сутки без права выхода в город. Через два часа меня снова будут допрашивать. Но верь мне: я не виновен. Так и передай однокашникам. Я выполнял приказ командира базы. Прокурор и комфлот этому не верят. Доказать не могу, приказ-то мне был дан по телефону. А теперь, после речи Сталина 3 июля, комфлот решил меня судить. На предварительном следствии командир базы, даже при очной ставке со мной, глазом не моргнув, категорически от всего отрекся. «Такого приказа, – заявил он следователю, – я не давал. Акт уничтожения базы – это самовольство, паникерство и трусость самого Афанасьева». Словом, я оказался виновником».
15 июля «Л-3» ушла в очередной боевой поход, и в тот же день военный трибунал КБФ приговорил Афанасьева к лишению воинского звания и высшей мере наказания – расстрелу. Приговор был утвержден командующим флотом Трибуцем, что, впрочем, не помешало ему в своих мемуарах 1971 г. издания назвать поступок Афанасьева «единственно правильным» в той обстановке (Афанасьев был реабилитирован в 1956 г.; из последующих изданий мемуаров бывшего командующего КБФ эта циничная фраза была исключена. – Авт.).
Тем не менее расстрел капитан-лейтенанта совершенно не удовлетворил кураторов флота из НКВД. Под их прямым давлением военная прокуратура КБФ 28 июля санкционировала аресты контр-адмирала Трайнина, капитана 1 ранга Клевенского и полковника Герасимова. Правда, командование Балтфлота, очевидно опасаясь, что те смогут дать показания против него, приняло все меры, чтобы смягчить им наказание. Выездной сессией Военной Коллегии Верховного Суда СССР 12 августа 1941 г. они были осуждены без поражения в политических правах с лишением воинских званий к различным срокам заключения. Трайнин получил 10 лет исправительно-трудовых лагерей, Клевенский – 8, Герасимов – 5. 11 сентября 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР, рассмотрев ходатайство осужденных о помиловании, принял решение: «Амнистировать всех троих, восстановить в воинских званиях и направить в действующую армию». «Герой» обороны Либавы М.С. Клевенский закончил войну в должности командира Печенгской ВМБ, а в 1951 г. дослужился до звания контр-адмирала и заместителя начальника штаба Тихоокеанского флота. Он похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище вместе с Есениным и Высоцким!
В связи со всем вышеизложенным не может не возникнуть вопрос: правомерно ли в советское время Либава называлась «морским Брестом», а в 1977 г. «за мужество и стойкость трудящихся города в годы Великой Отечественной войны» была награждена орденом Октябрьской Революции? С нашей точки зрения – да. Ведь героизм защитников определяется не моральным обликом руководителей! И до, и после обороны Либавы советский солдат и матрос творил чудеса храбрости. И порою не благодаря, а вопреки своему командованию. Или, если угодно, «благодаря» тем условиям, в которые это командование их ставило. Ведь часто наши воины просто обрекались своими командирами на трагический выбор: позорный плен или массовый героизм. И то, что они в этих условиях выбирали последнее, как раз таки и свидетельствует об их высоких морально-боевых качествах.
Глава 3 Трагедии на Синявинских высотах и в Мясном Бору
История битвы за Ленинград настолько разнообразна, масштабна и многопланова, что многие ее стороны и аспекты остаются «белыми пятнами», и до настоящего времени нет полной и ясной картины пережитого участниками этих грандиозных по трагедии и подвигу событий. В их ряду неоднократные, связанные с большими потерями, попытки советских войск прорвать блокаду города в ходе наступательных операций 1941–1942 гг. Ни одна из этих операций не достигла поставленных целей, а блокада Ленинграда была прорвана лишь в январе 1943 г. и окончательно снята год спустя. Однако все они носили бескомпромиссный характер, отличались ожесточенностью и неимоверным накалом борьбы. И не случайно до сего дня как символы мужества и скорби звучат названия: Синявино, Синявинские высоты, Московская Дубровка, «Невский пятачок», Гайтолово, Мга, Тортолово, Погостье, Мясной Бор и многие, многие другие. Эта земля насквозь пропитана кровью. Здесь нет и метра, на котором не отдал бы свою жизнь советский солдат.
В планах германского руководства Ленинграду отводилась особая роль. Оно намеревалось не только захватить город как военно-стратегический объект, важнейший политический и экономический центр СССР, но и полностью его уничтожить. Еще 8 июля 1941 г., после совещания верховного главнокомандования германских вооруженных сил, начальник генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Ф. Гальдер отметил в своем дневнике: «Есть твердое решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы воспрепятствовать там остаться населению, которое мы должны будем кормить зимой. Задачу уничтожения города должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки» [175] .
Через два с небольшим месяца, 16 сентября, Гитлер в беседе с немецким послом в занятом Париже Отто Аветцом высказался о судьбе города еще более определенно: «Ядовитое гнездо Петербург… должен исчезнуть с лица земли. Город уже блокирован; теперь остается только его обстреливать артиллерией и бомбить, пока водопровод, центры энергии и все, что необходимо для жизнедеятельности населения, не будет уничтожено. Азиаты и большевики должны быть изгнаны из Европы, период 250-летнего азиатства должен быть закончен» [176] .
Этим рекомендациям и следовало руководство вермахта. Так, в сентябре 1941 г. была подписана директива военно-морского штаба «О будущем города Петербурга», в которой говорилось: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого населенного пункта… Предложено тесно блокировать город, путем обстрела из артиллерии всех калибров и непрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты. В этой войне мы не заинтересованы в сохранении даже части населения этого большого города» [177] .
Чувство собственного превосходства и ненависть ко всему советскому внушались и каждому немецкому солдату и офицеру. Так, в донесении корреспондентов «Красной Звезды» М. Шунца и А. Шипова начальнику Политического управления Ленинградского фронта сообщалось о найденных у убитых немецких военнослужащих памятках следующего содержания: «Помни, для величия и победы Германии, для твоей личной славы – ты должен убить ровно сто русских, это справедливое соотношение – один немец равен ста русским. У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик – убивай» [178] .
Как известно, с целью наступления на северо-западном направлении командованием вермахта была развернута группа армий «Север» генерал-фельдмаршала В. Лееба. Одновременно к северу от Ленинграда были сосредоточены две финские полевые армии: Карельская и Юго-Восточная. Таким образом, вражеское командование намеревалось захватить Ленинград двойным ударом: с севера – финскими войсками, с юга – силами немецкой группы армий «Север».
Уже на 19-й день войны, к 10 июля 1941 г., соединения этой группы армий продвинулись на северо-западном направлении на глубину до 450–500 км и захватили почти всю Прибалтику. Немецкие войска вторглись в пределы Ленинградской области. В то же время финская армия, перейдя в наступление на Олонецко-Ладожском перешейке, достигла побережья Ладожского озера. В течение июля-августа противник сломил сопротивление советских войск на лужском и новгородском направлениях и к концу августа вышел к Копорью, Ропше, Красногвардейску, Сиверскому.
Все это время начиная с 10 июля руководство боевыми действиями Северного, Северо-Западного фронтов, Балтийского и Северного флотов осуществлялось Главным командованием северо-западного направления во главе с маршалом Советского Союза К.Е. Ворошиловым. Будучи лично храбрым человеком, он в то же время боялся самостоятельно принимать какие-либо решения и часто затруднял этим работу других военачальников. Между тем обстановка в районе города продолжала обостряться, и это очень беспокоило Сталина. Решив разобраться в деятельности главкома Ворошилова, он направил в Ленинград комиссию в составе В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, Н.Г. Кузнецова, А.Н. Косыгина, П.Ф. Жигарева и Н.Н. Воронова. Выданный ей мандат позволял от имени Государственного Комитета Обороны решать все вопросы обороны и эвакуации города. Комиссии предстояло определить, оставить ли Ворошилова на его месте или найти ему достойную замену.
Между тем 25 августа 39-й моторизованный корпус противника, наступавший из района Чудова, захватил Любань. Оборонявшаяся здесь 48-я армия не смогла сдержать натиска пяти немецких дивизий и отошла на Кириши и Пушкин. Через три дня противник занял Тосно. До Ленинграда оставалось чуть менее 50 км. В посланной на имя Молотова и Маленкова телеграмме Сталин не смог скрыть своего раздражения: «Если так будет продолжаться, боюсь, что Ленинград будет сдан идиотски глупо, а все ленинградские дивизии рискуют попасть в плен… Чем, собственно, занят Ворошилов и в чем выражается его помощь Ленинграду?» [179]
Утром 8 сентября части 20-й немецкой моторизованной дивизии вступили в Шлиссельбург. «Уже в 7.40 был водружен флаг на церковной колокольне и марш-броском достигнут берег Невы, – писал немецкий военный историк В. Хаупт. – Около 10.00 боевые группы 424-го пехотного полка вошли в Шлиссельбург. Ладожское озеро было достигнуто – Ленинград окружен!» [180] С выходом противника к Ладожскому озеру и верховью Невы Ленинград оказался плотно блокированным вражескими войсками. С 8 сентября сообщение с городом могло поддерживаться только через Ладожское озеро и по воздуху. Это крайне осложняло организацию обороны. Имевшиеся пути не обеспечивали подвоза необходимых материальных и технических средств как для населения города, так и для оборонявших его войск.