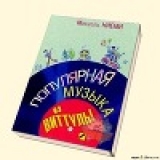
Текст книги "Популярная музыка из Виттулы"
Автор книги: Микаель Ниеми
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
ГЛАВА 2
.
О вере живой и мертвой, о страстях по шурупам и об одном удивительном происшествии в Паяльской церкви
.
Я стал водиться с моим молчаливым приятелем и вскоре в первый раз попал к нему в гости. Его родители оказались лестадианцами, последователями Ларса Левия Лестадия, который когда-то давным-давно основал в Каресуандо секту харизматического пробуждения. Изрыгая проклятия почище иного грешника, этот приземистый батюшка обличал в своих гневных проповедях пьянство и блуд, да с таким жаром, что отголоски этих проповедей докатились до наших дней.
Лестадианцу мало называться верующим. Мало просто окунуться в купель, причаститься или заплатить церковный оброк. Вера должна быть живой. Однажды старого лестадианского проповедника спросили, что он понимает под живой верой. Тот долго думал и, наконец, ответил с глубокомысленным видом, что это все равно, что всю жизнь подниматься в гору.
Всю жизнь подниматься в гору. Хм… Довольно трудно представить. Вот ты отдыхаешь на приволье, гуляя по узкой, вьющейся турнедальской дорожке где-нибудь между Паялой и Муодосломполо. Буйствует красками молодое лето. Дорожка бежит по сосновому редколесью, из болотца доносится запах тины и солнца. На обочине клюют щебенку глухари, но, завидев тебя, поспешно улепетывают в кусты, шурша крыльями.
Вот уже и первый пригорок. Ты замечаешь, как земля начинает уходить вверх, как напрягаются твои икры. Пустяки, подумаешь, бугорок. Там наверху, очень скоро, дорожка вновь расстелется перед тобой сухой лесной гладью с белыми шапками ягеля меж исполинских стволов.
Но подъем продолжается. Он оказался длиннее, чем ты думал. Устали ноги, ты замедляешь шаг и все нетерпеливее поглядываешь на верхушку склона, которой вот-вот достигнешь.
А верхушки-то и нет. Дорога уходит вверх и вверх. Лес такой же, как прежде, лощинки и молодая поросль, кое-где уродливые вырубки. А подъем продолжается. Словно кто-то взял всю местность за край да и оторвал от земли. Приподнял дальний от тебя конец и что-то подложил под него шутки ради. Тут закрадывается предчувствие, что сегодня подъем не кончится. И завтра тоже.
Но ты упрямо идешь и идешь в гору. Незаметно дни становятся неделями. Ноги уже порядком натружены, нет-нет, да и помянешь того шутника, который так ловко все подстроил. Нехотя признаешь, что шутка удалась. Но за уж Паркайоки-то подъем закончится, всему же должен быть предел. И вот ты в Паркайоки, а подъем не кончается, ну что ж, тогда в Киткиэйоки.
Недели складываются в месяцы. Ты меряешь их шаг за шагом. И выпадает снег. Тает и снова выпадает. И где-то между Киткиэйоки и Киткиэярви ты уже готов плюнуть на все это. Дрожат ноги, болят суставы, последние силы на исходе.
Но ты делаешь привал и, превозмогая усталость, продолжаешь путь. Тем более, что до Муодосломполо уже рукой подать. Изредка, понятное дело, навстречу тебе попадаются путники, идущие туда, откуда ты пришел. Весело семенят под уклон по дороге в Паялу. Некоторые даже едут на велосипедах. Сидят себе в седле, отпустив педали, так с комфортом и доезжают до конца. В твоей душе зарождается сомнение, надо признать это. Внутри тебя происходит борьба.
И шаги твои становятся короче. Идут годы. И ты уже близко, совсем близко. И снова выпадает снег, так и должно быть. Глаза слезятся от вьюги, ты что-то замечаешь. Кажется, что-то забрезжило вдали. Лес редеет, расступается. За деревьями замаячили дома. Вот он! Вот он Муодосломполо! Последний шаг, последний дробный и дрожащий шажок…
Во время панихиды священники говорят, что ты почил в живой вере. Истинно так. Ты почил в живой вере, siekuolitelДvДssДuskossa . Ты пришел в Муодосломполо, все мы тому свидетели, отныне ты восседаешь на золотом багажнике велосипеда Господня и вечный путь твой лежит под уклон, осеняем трубными гласами ангелов.
.
Выяснилось, что у моего товарища все-таки есть имя, мать звала его Ниилой. Его родители строго следовали христианским заповедям. Несмотря на обилие детишек, в доме царила гулкая тишина, как в храме. У Ниилы было два старших брата и две младших сестры, еще один ребенок ворочался в брюхе у его матери. И, поскольку каждое чадо есть дар Божий, со временем ребятни в доме должно было только прибавиться.
Удивительно, как вся эта орава могла вести себя так тихо. Игрушек было немного, да и то, в основном, некрашеные деревянные самоделки, выструганные старшими братьями. Младшие играли этими деревяшками молча, немые как рыбы. Виной тому не только религиозное воспитание, такую картину можно наблюдать и в других турнедальских семьях. Просто они перестали разговаривать. Может – из застенчивости, может – из гнева. Может – просто потому, что обходились без слов. Родители открывали рты только за обедом, если же им было что-то нужно, показывали рукой или кивком головы, дети вторили им.
Придя к Нииле в гости, помалкивал и я. Дети вообще остро чувствуют ситуацию. Я разулся на крыльце и на мягких кошачьих подушках прокрался внутрь, склоняя голову и немного сутулясь. На меня уставилась добрая дюжина немых глаз – из качалки, из-под стола, от буфета. Детские глаза впились в меня, потом резко отвернулись, стали блуждать по кухонным стенам, по сосновому полу, но все время возвращались ко мне. Я тоже глядел во все глаза. Личико у меньшей сестренки скорчилось от испуга, рот открылся, обнажая молочные зубы, потекли слезы. Она заплакала, но и плач ее был беззвучным. Просто наморщились щеки, а пухлые ручки теребили мамин подол. Мать носила косынку даже в доме. Она месила тесто, по локти погрузив руки в кадку. От ее мощных движений мука вздымалась столбом, золотом вспыхивая в лучах солнца. Мать не обратила на меня внимания, Ниила принял это как знак одобрения. Он подтянул меня к своим старшим братьям, которые сидели на кушетке, обмениваясь шурупами. Должно быть, это была своеобразная игра, мудреная сортировка по коробочкам и отделениям. Потом они стали сердиться и молча рвать шурупы друг у друга из рук. Одна гайка упала на пол. Ниила украдкой схватил ее. Старший из братьев молниеносно перехватил его руку и нажал с такой силой, что Ниила, замирая от боли, разжал ладонь, и гайка упала в прозрачную пластмассовую коробку. Тогда средний брат опрокинул коробку. Содержимое с барабанной дробью рассыпалось по деревянному полу.
На секунду все замерло. Все взгляды были прикованы к братьям, как к полотну экрана, когда пленка зажевывается, чернеет, мнется, – треск, и экран становится белым. Я почуял в воздухе ненависть, сам того не осознавая. Братья кинулись друг на друга, схватившись за отвороты рубах. На руках вздулись бугры, братьев стягивало как два мощных магнита. При этом они неотрывно сверлили друг друга черными, чернее сажи, зрачками – два зеркала, составленные вместе, но отдаляющие друг друга до бесконечности.
Вдруг мать швырнула тряпку. Тряпка просвистела по кухне как комета, оставляя за собой белый хвост муки, и смачно влепилась в лоб старшему. Мать приняла грозную позу, неторопливо отирая тесто с рук. Меньше всего ей хотелось провести целый вечер, пришивая оторванные пуговицы. Братья нехотя расцепились. Поднялись и вышли вон.
Мать подняла тряпку, помыла руки и вернулась к стряпне. Ниила собрал все шурупы в пластмассовую коробку, положил ее в карман и просиял. Потом краешком глаза покосился в сторону окна.
Братья сошлись посреди двора. Руки летали, раз за разом сокрушая скулы. От мощных затрещин бритые черепушки сотрясались как брюква. Но ни криков, ни брани. Удар за ударом – в низкий лоб, в пятак, мощные плюхи по пылающим ушам. Старший был шире в плечах, младшему, чтобы ударить, приходилось подпрыгивать. У обоих из носа текла юшка. Кровь капала и брызгала во все стороны, костяшки раскраснелись. Но братьев было не остановить. Бах! Шлеп! Тресь! Хлоп!
Нас угостили соком и булочками с пылу, с жару – такими горячими, что, откусив, надо было сперва подержать кусок в зубах, а уж потом жевать. Потом Ниила стал играть шурупами. Он высыпал их на кушетку, пальцы его дрожали, и я понял, как давно он мечтал повозиться с шурупами. Ниила разложил их по разным отделениям пластмассовой коробки, высыпал их, смешал, снова разложил, снова высыпал. Я хотел было подсобить ему, но Ниила начал злиться, я побыл еще немного и пошел домой. Он даже не оглянулся.
Братья меж тем продолжали драться. Щебенка под ними была вытоптана, образовалась круглая яма. Все те же бешеные удары, та же немая ярость, но в движениях уже заметна медлительность и усталость. Рубахи взмокли от пота. Окровавленные лица покрыты серым налетом, слегка припорошены землей.
И тут я увидел, как они преобразились. Это были уже не мальчишки. Скулы распухли, из разбитых ртов торчали клыки. Ноги стали короче и мощнее как медвежьи ляжки, разбухли так, что штаны трещали по швам. Ногти почернели и отросли, превратились в когти. И понял я, что не земля у них на лице. А щетина. Курчавый мех, тьма, расползающаяся по их светлым ребячьим щекам, ползущая по шее вниз, за пазуху.
Я хотел крикнуть, предупредить драчунов. Неосмотрительно шагнул в их сторону.
Тут они резко остановились. Повернулись ко мне. Сгрудились, втянули мой дух. И в глазах их я увидел голод. Алчбу. Они хотят есть, они хотят мяса.
Я попятился, леденея от страха. Они захрюкали. Плечом к плечу стали надвигаться, два настороженных зверя. Ускорили шаг. Выскочили из ямы. Когти взрывали щебенку в бешеном беге.
Надо мной распростерлась тень.
Мой придушенный вопль. Страх, писк, визг поросенка.
Дин-дон. Дин-дон-дилибом.
Колокола.
Божественные колокола. Дин-дон. Дин-дон. Во двор въехал велосипед, на нем сидел странник в белых одеждах, сияющий образ, он жал на звонок, сотворяя белесое облако света. Странник резко затормозил. Захватил лапищами обоих зверят, поднял за шкирку и хряпнул друг о дружку головами как капусту, аж сок брызнул.
– Папа, – запищали они, – папа, папочка…
И свет рассеялся, отец швырнул их на землю, схватил за лодыжки и стал возить сыновьями взад-вперед по щебенке, скородя землю их передними зубами как граблями. Когда он отпустил их, оба рыдали, и, рыдая, они снова стали детьми. А я побежал домой, только пятки засверкали. И в кармане у меня был припрятан шуруп.
.
Отца Ниилы звали Исак. Он происходил из крупного лестадианского рода. Еще мальцом его стали водить в душную избу, где молились сектанты: на деревянных лавках, теснясь задами, сидели крестьяне в темных сюртуках и их жены с платками на голове. В каморке было так тесно, что, когда на задние ряды нисходил Святой Дух, люди, отбивая поклоны, стукались лбами о спины впереди сидящих. Среди них сидел Исак, щуплый отрок, сдавленный со всех стороны родными дядями и тетями, которые преображались у него на глазах. Сначала учащалось дыхание, воздух становился спертым и влажным, рдели щеки, потели очки, с носа капал пот, все громче пели оба проповедника. Этими словами, этими живыми словами нить за нитью сотворялось полотно Истины, изображались картины злодеяний, измен, прегрешений, что пытались схорониться в земле, однако их вырвали с корнем и словно червивой свеклой потрясали перед собранием. Впереди Исака сидела девочка с косичками, в полумраке волосы ее отливали золотом, с боков она была зажата беспокойными большими телами. Она сидела тихо, прижимая к сердцу куклу, а вокруг нарастала буря. Страшно смотреть, как рыдают твои папа с мамой. Как такие умные, такие взрослые родственники меняются, растворяются. Страшно маленькому сидеть вот так и слышать, как тебя поливает чужой пот, и думать – это моя вина. Это моя вина – ах, если бы я был хоть капельку добрее. Детские ручки Исака сцепились в крепкий замок, ему казалось, что между ними ползают мураши. Если я разниму руки, мы все умрем, – думал он. – Если я отпущу их, мы погибнем.
И был день, воскресный день, спустя годы, когда Исак, высокий, крепкий и возмужавший, пришел на вечерню. Все шло прахом, скорлупа треснула. Ему исполнилось тринадцать, и он ощутил, как в его утробе растет Нечистый, и такой страх обуял Исака, сильнее, чем ожидание взбучки, сильнее, чем инстинкт самосохранения, что пришел Исак на собрание, сел на лавку и начал бить поклоны, а потом упал на лоно Иисусу. И легли кровоточащие ладони на темя и на грудь Исаку – было это второе крещение, так оно свершилось. Расцепил Исак кровавый замок и погряз в грехах своих.
Ни один из собравшихся не смог удержаться от слез. Великое явилось им. То был им знак сверху. Господь осенил своей дланью отрока и оставил его.
А потом, когда он учился ходить заново, когда он встал на шаткие ноги, они поддержали его. Толстуха-мать прижала его к груди во имя плоти и крови Христовой и оросила слезами его лицо.
Так был указан ему путь проповедника.
.
Как и большинство лестадианцев, Исак трудился в поте лица. Зимой валил лес, ранним летом сплавлял плоты, смотрел за коровами и огородом в скудном родительском хозяйстве. Работал много, требовал мало, чурался спиртного, карт и коммунистов. По этой причине в рабочей артели ему порой приходилось нелегко, но насмешки мужиков он принимал за испытание, молчал неделями и читал часослов.
В красные дни Исак очищался молитвами и баней, одевал чистую белую рубаху и темный костюм. Теперь и он мог на собраниях обличать пороки и Нечистого, выступать с двуострым мечем Господним, Законом и Писанием против всех закоренелых грешников, против клеветников и прелюбодеев, против маловеров и сквернословов, пьяниц, насильников и коммунистов, которые, как вши, расплодились в турнедальской юдоли.
Юное, бодрое, гладко выбритое лицо. Глубоко посаженные глаза. Исак умел приковать к себе внимание прихожан. Вскоре он женился на соратнице, застенчивой и ладно скроенной финке из Пелло, от которой пахло хозяйственным мылом.
Но когда пошли детишки, Господь покинул его. Взял и смолк одним днем. Никто не ответил Исаку.
Осталось только огромное, бездонное отчаяние. Тоска. Да исподволь растущая злоба. Исак начал грешить, больше – из любопытства. Мелкие издевательства над ближними. Ему понравилось, он продолжил. Когда обеспокоенные соратники попытались серьезно побеседовать с ним, он осквернил уста свои богохульством. Соратники отошли от него и не возвращались более.
Наперекор забвению, своей пустоте он, по-прежнему, называл себя верующим. Соблюдал обычаи, воспитывал своих детей согласно Писанию. Правда, на место Бога водрузился сам. И это была худшая форма лестадианства, самая холодная и беспощадная. Это было лестадианство без Бога.
.
В этой-то мерзлоте и воспитывался Ниила. Как большинство детей, выросших во враждебной среде, он спасался тем, что был неприметен. Еще во время нашей первой встречи на детской площадке меня поразило его искусство бесшумно перемещаться. Искусство менять цвет в зависимости от окружения, становясь совершенно невидимым. Главное, не высовываться – в этом Ниила был типичным турнедальцем. Ты сжимаешься в комок, чтобы сохранить тепло. У тебя сбитое тело, выносливые плечи, которые начинают болеть к старости. Шаги становятся короче, дыхание – мельче, от постоянного кислородного голода ты немного бледен с лица. Типичный турнедалец ни за что не побежит от врага – какой в том прок? Вместо этого он вбирает голову в плечи и надеется, что все как-нибудь рассосется. В общественным местах турнедалец садится на задние ряды; на турнедальских культурных сборищах часто можно видеть следующую картину: между рампой и публикой зияет десяток пустых рядов между тем, как на задних местах – аншлаг.
Руки у Ниилы были ссажены до локтей и никогда не заживали. Со временем я понял, что он расчесывает раны. Он делал это машинально, грязные ногти сами тянулись к руке, расцарапывали ее. Едва нарастала корка, как Ниила начинал колупать ее – расковыривал, отламывал и щелчком запускал, куда придется. Иной раз попадал коркой в меня, иной – с отсутствующим взглядом съедал ее. Еще неизвестно, что противней. Однажды, когда он был у меня в гостях, я сказал ему, чтоб он так не делал, но Ниила только невинно похлопал глазами. И через минуту снова взялся за свое.
Самое странное, что Ниила, по-прежнему, не умел говорить. Ему ведь целых пять лет. Иногда он открывал рот, словно собираясь сказать; было слышно, как в горле у него клокочет слизистый ком. Раздавалось харканье – казалось, вылетает пробка. Но на этом Ниила останавливался и пугливо замолкал. Он понимал мои слова, это было видно, – с головой у него было все в порядке. Но что-то в нем перемкнуло.
Наверное, сказалось то, что его мать была родом из Финляндии. Молчаливая сама по себе, она была к тому же представительницей многострадальной страны, которую терзали гражданские, белофинские и мировые войны, в то время, как ее жирная западная соседка продавала железную руду нацистам и тем разбогатела. Женщина, чувствующая свою неполноценность, она хотела, чтобы ее дети имели то, чего не было у нее самой – дети должны стать настоящими шведами, поэтому она больше старалась научить их шведскому, а не родному финскому. Но шведский она знала с грехом пополам, потому и молчала.
У меня дома мы частенько сидели на кухне: Ниила любил радио. В отличие от его матери моя всегда оставляла радио включенным, и оно целыми днями бубнило фоном. Не важно о чем – это могла быть любая передача от "Авторадио" и "Наших праздников" до колокольного звона в Стокгольме, курсов языка и богослужений. Сам я никогда не слушал – в одно ухо влетало, из другого вылетало. Ниила же, напротив, по-моему, обожал сам звук, который постоянно нарушал тишину.
Как-то после обеда я твердо решил, что научу Ниилу говорить. Поймав его взгляд, я ткнул себя пальцем и сказал:
– Матти.
Потом показал на него и стал ждать. Он тоже стал ждать. Я подался вперед и сунул свой палец ему в рот. Ниила разинул пасть, не издав не звука. Я стал мять ему горло. Ему стало щекотно, он стряхнул мою руку.
– Ниила! – сказал я и приказал ему повторить. – Ниила, скажи, Ниила!
Он уставился на меня как на дурачка. Я ткнул себя между ног и сказал:
– Писька!
Услыхав пошлость, он смущенно улыбнулся. Я показал на мою задницу:
– Жопка! Писька и жопка!
Ниила кивнул и снова прильнул к радио. Тогда я показал на его зад, изображая, как из него что-то вылезает. Вопросительно посмотрел на него. Ниила откашлялся. Я замер в ожидании. В ответ – молчание. Разозлившись, я повалил Ниилу наземь, принялся тормошить его.
– Какашка! Скажи "ка-ка-шка"!
Он молча вырвался из моих объятий. Кашлянул, поворочал языком, словно разминая его.
– Soifa , – вдруг вымолвил он.
Я остолбенел. Я впервые услышал его голос. Совсем не детский, густой, сиплый. Не особо приятный.
– Чего?
– Donualmiakvon.
Опять. С минуту я сидел огорошенный. Ниила говорит! Он начал разговаривать, вот только я его не могу понять.
Ниила с достоинством поднялся с пола, пошел к крану, выпил стакан воды. После чего ушел домой.
Произошла очень странная штука. В своем безмолвии, в своем одиноком страхе Ниила выдумал собственный язык. Не имея возможности разговаривать, беседовать, он начал придумывать слова, складывать их вместе, строить их них предложения. А может, это был не его язык. Может, он хранился где-то в глубине, в самых потайных уголках мозга. Древнее замороженное знание, которое оттаяло исподволь.
Раз, и мы поменялись ролями. Уже не я, а Ниила был моим наставником. Мы сели на кухне, мать ушла в сад, бубнило радио.
– ?itioestasse?o , – сказал Ниила и показал на стул.
– ?itioestasse?o , – повторил я.
– Vinomi?asMatti , – показал он на меня.
– Vinomi?asMatti , – послушно повторил я.
Ниила энергично затряс головой.
– Minomi?as!
– Minomi?asMatti , – поправился я, – Vinomi?asNiila.
Он довольно чмокнул губами. В его языке были правила, порядок. На нем нельзя было говорить как попало.
Мы стали общаться на нашем секретном языке, вокруг нас образовалась наша собственная аура, в которой мы чувствовали себя защищенными. Другие мальчишки завидовали и подозрительно косились на нас, но нас это только раззадоривало. Отец и мать испугались, что у меня дефект речи, и позвонили доктору, но тот сказал, что дети часто говорят на вымышленном языке и что это скоро пройдет.
А Ниилу, наконец-то, прорвало. Благодаря придуманному языку, он преодолел робость и вскоре начал говорить и по-шведски, и по-фински. Он ведь и до этого многое понимал и скопил богатый запас слов. Оставалось только озвучить их, натренировать мышцы рта. Хотя, как выяснилось, было это не так-то просто. Ниила еще долго издавал весьма странные звуки, нёбо с трудом привыкало к шведским гласным и финским дифтонгам, с губ брызгала слюна. Постепенно я научился кое-как понимать его, но Ниила, по-прежнему, охотнее говорил на нашем секретном языке. Так ему было спокойнее. Когда мы разговаривали на этом языке, он расслаблялся, движения становились легкими, плавными.
.
В один из воскресных дней произошло примечательное событие. Церковь была битком набита прихожанами. Шла обычная утреня, служил ее старый добрый пастор Вильгельм Таве, и в обычные дни места было бы предостаточно. Но сегодня царило столпотворение.
А все дело в том, что жители Паялы собрались впервые поглядеть на настоящего живого негра.
Любопытство было столь велико, что пришли даже мои родители, которых в церковь калачом не заманишь, разве что на Рождество. На скамье впереди нас сидел Ниила с родителями и со всей своей родней. Только раз он попытался обернуться в мою сторону, но тут же получил увесистый подзатыльник от Исака. Люди перешептывались и шушукались, здесь были все от чиновников до лесорубов, даже несколько коммунистов. Все пересуды, понятно, сводились к одному предмету. Правда ли, что этот негр черный, чернее ночи, как исполнители джаза на обложках пластинок? Или он бурый?
Пробил колокол, дверь ризницы отворилась. Оттуда вышел Вильгельм Таве в очках с черной оправой, видно было, что он немного скован. А за ним! В облачении вышел и он. В африканской, блестящей мантии, подумать только…
Чернее ночи! Школьные училки начали оживленно перешептываться. Никакой не бурый, скорее, иссиня-черный. Рядом с негром семенила дряхлая диаконисса, худая как жердь, с желтой пергаментной кожей, она много лет посвятила миссионерству. Мужчины склонились перед алтарем, женщина сделала реверанс. А потом отец Таве начал службу с того, что поприветствовал собравшихся и, конечно, прежде всего нашего гостя из далекого Конго, где сейчас идет война. Тамошние христиане остро нуждаются в материальной помощи, и сегодняшний сбор без остатка пойдет в пользу наших братьев и сестер.
Начали отправлять службу. А собрание, знай, глядело и не могло наглядеться. Когда запели псалмы, негр впервые подал голос. Он знал мелодии – должно быть, у них в Африке поют похожие псалмы. Негр пел на родном наречии глубоким и каким-то вдохновенным голосом, а собрание пело все тише и тише, прислушиваясь к нему. Но вот настало время проповеди, и отец Таве подал знак. Тут произошло невероятное – негр и диаконисса вместе взошли на кафедру.
Паства заволновалась: на дворе стояли шестидесятые, а в те годы женщине в церкви полагалось молчать. Отец Таве предупредительно успокоил собравшихся, сказав, что женщина будет только переводить. Места на кафедре было маловато, диаконисса бочком пристроилась около дородного чужестранца. Пот ручьем тек у нее из под шляпы, диаконисса вцепилась в микрофон, беспокойно поглядывая на собравшихся. Негр обвел церковь невозмутимым взглядом, в остроконечной небесно-золотой митре он казался еще выше. Лицо было таким черным, что на нем можно было различить только сверкающие белки.
Негр заговорил. На банту. Без микрофона. Он как бы выкрикивал слова, высоко и призывно, словно кого-то искал в джунглях.
– Слава тебе, Господи! Слава тебе! – перевела диаконисса.
Вдруг она выронила микрофон, со стоном стала падать вперед и, наверное, свалилась бы с кафедры, не подхвати ее негр.
Первым подоспел церковный сторож. Он взлетел на кафедру, обвил тощую руку диакониссы вкруг своей бычьей шеи и поволок женщину к выходу.
– Малярия, – жалобно простонала она. Кожа стала желто-бурого цвета, с диакониссой случился приступ, она была в полуобморочном состоянии. Еще два члена церковного собора вызвались помочь ей, вывели ее из церкви, посадили в машину и на всех парах умчались в лечебницу.
Собрание и негр остались с глазу на глаз. Все были сбиты с толку. Отец Таве хотел было сменить миссионера, но негр с кафедры уходить не хотел. Раз уж он проехал полмира, чтобы попасть сюда, надо вынести и это испытание. Во имя Господа.
Быстро смекнув, он переключился с банту на суахили. Увы, этот многомиллионный язык, столь широко распространенный на африканском континенте, был почему-то совершенно незнаком жителям Паялы. Ответом негру были непонимающие взгляды. Он снова поменял язык, в этот раз – на креольский диалект французского. Диалект оказался настолько причудливым, что даже учительница французского не разобрала ни слова. Все больше нервничая, негр сказал несколько предложений по-арабски. Отчаявшись, попробовал говорить на фламандском, который кое-как выучил за время экуменических путешествий в Бельгию.
Результат – ноль. Никто не понимал ни бельмеса. В этих глухих краях говорили только на шведском и финском.
Окончательно подавленный, негр решил сменить язык в последний раз. Рявкнул так, что задрожали хоры, разбудив задремавшую тетку и напугав младенца: тот запищал, но ему дали пошелестеть листками церковной библии и он успокоился.
Тут со скамьи передо мной поднялся Ниила и что-то крикнул в ответ.
В церкви воцарилась гробовая тишина. Вся паства обернулась и уставилась на нахального молокососа. Сверкающие белки негра обратились к мальчику, но тот уже был усажен на место мощным тычком Исака. Африканец поднял ладонь, приказывая Исаку остановиться, и ладонь у него была поразительно белого цвета. Исак почувствовал взгляд и отпустил сына.
– ?uvikomprenaskionmidiras? – спросил негр.
– Mikomprenas?ion, – ответил Ниила.
– Venu ?i tien, mia knabo. Venu ?i tien al mi.
Ниила нерешительно пробрался вдоль скамьи и остановился в проходе. Секунду казалось, что он хочет слинять. Африканец велел ему приблизиться, поманив белой ладонью. Чувствуя, что все смотрят на него, Ниила сделал несколько неуверенных шагов. Ссутулившись, прокрался и встал перед кафедрой, забитый мальчишка с уродливо ощипанной головой. Негр помог парнишке взойти по ступенькам. Ниила едва доставал до края, но негр крепко обнял его и взял на руки. Держа как агнца. Дрожащим голосом возобновил прерванную молитву.
– Dionia,kiua?skultasniajnpre?ojn…
– Отец наш, ты услышал наши молитвы, – бойко перевел Ниила. – Сегодня ты послал нам мальчика. Хвала тебе, Господи, хвала тебе…
Ниила понял все, до единого слова. Паяльцы внимали как громом пораженные, а Ниила перевел проповедь до конца. Родители Ниилы, его братья и сестры застыли как каменные истуканы с испуганными лицами. Они были поражены, они понимали, что на их глазах свершилось Божественное чудо. Многие в церкви рыдали от умиления, все были тронуты до глубины сердца. Ликующий шепот пробежал по рядам и вскоре охватил всю церковь. Знак милости! Чудо!
Я же никак не мог взять в толк. Как мог негр знать наш секретный язык? Ведь это был именно тот язык, на котором я общался с Ниилой.
Об этой новости много потом говорили, и не только среди верующих. Еще долго нам звонили из газет и с телевидения, хотели взять интервью, но Исак не разрешил.
Сам я встретился с Ниилой только пару дней спустя. После обеда он как всегда незаметно проскользнул к нам в кухню, все еще напуганный случившимся. Мать дала нам по бутерброду, мы стали жевать их. Ниила то и дело как-то напряженно прислушивался.
Как обычно, фоном бубнило радио. Тут меня осенило, и я добавил громкости.
– ?isrea?do!
Я аж подпрыгнул. Наш секретный язык! Проиграла короткая мелодия, и диктор сказал:
– Вы только что прослушали сегодняшний урок эсперанто.
Эсперанто. Так он выучил язык по радио.
Я медленно повернулся к Нииле. Тот сидел с отрешенным видом, глядя куда-то вдаль.








