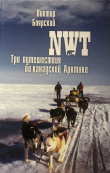Текст книги "Хождение по руинам. Портреты трех сельских районов на фоне новейшей истории"
Автор книги: Михаил Румер-Зараев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Двоевидение
Первый раз я попал в Ярославскую область в юности, в середине пятидесятых годов, будучи студентом землеустроительного института.
Городской мальчик, выросший на окраине Москвы и проникнутый гуманитарными интересами, я оказался в том институте не совсем по своей воле. Как сына «врага народа» меня ни в один порядочный вуз не брали. Этот же, хотя и старейший в стране, основанный при Екатерине и называвшийся некогда межевым, считался провинциальным, туда шли деревенские ребята, хуже, чем горожане, подготовленные школой. Я легко сдал вступительные экзамены, набрав максимальный балл, и был зачислен на геодезический факультет.
Учеба наполовину состояла из производственных практик, длившихся с весны до осени. Небольшими группами мы вели на селе топографические съемки, создавая картографическое обоснование для будущих землеустроительных работ.
Так летом 1956 года я оказался в Ярославской области. Наш студенческий отряд прокладывал геодезический ход от Рыбинска к реке Ухре. При таких геодезических работах требовался астрономический контроль. И вместе со студенткой Ниной – крепкой добродушной деревенской девушкой – мы составляли отдельно действующее звено астрономов.
Трудно себе представить другую работу, которая так воздействовала бы на воображение городского юноши, грешившего к тому же первыми литературными опытами. Увязав в телеге треногу, ящик с теодолитом и наши тощие рюкзаки, мы передвигались на лошади от деревни к деревне, я впереди с вожжами, моя напарница сзади, восседая на ящике.
На сельских околицах мы находили обоженные столбы, врытые в землю студенческой бригадой, прокладывавшей ход. Дождавшись ночи и ясного звездного неба, я ставил зажженный фонарик на одном столбе и возвращался по пыльной смутно белеющей в темноте дороге к другому. Там уже хлопотала у теодолита Нина, расставляя треногу, центрируя массивный прибор. Надо было найти в окуляре Полярную, сориентировавшись сперва по Марсу.
Небольшая неяркая звездочка входила в поле зрения трубы, проплывала через скрещение визирных нитей в миг, фиксируемый нами на большом медном секундомере. Затем труба направлялась на лампочку фонарика, зыбко мерцавшую в лесной тьме. Угол между двумя светящимися точками – небесной и земной – и позволял проверять точность измерений наших товарищей-студентов.
Все время, остававшееся от ночных наблюдений и переездов, я писал рассказы, читал, а в дождливую погоду отправлялся в Рыбинск, в библиотеку, хранившую массу старых книг, унаследованных, как говорили, от местных купцов. Эти купцы, судя по всему, были людьми довольно образованными, ибо нигде в провинциальных книжных собраниях я не видал столько исследований французской живописи, открывших мне барбизонцев, импрессионистов, постимпрессионистов и других более поздних представителей западного модерна.
Мои дневники того времени заполнены рассуждениями о музыке, поэзии, живописи. И все окружавшее виделось через призму книжного романтического мировосприятия – блеклое ярославское небо, холодные болотные ручьи, через которые мы переправлялись на лошади, расползавшиеся при первом дожде дороги, наконец, деревни, где мы останавливались на ночлег.
А село словно опоминалось от сталинского морока – выбитое войной, замученное поборами – чуть свободнее хозяйствовало на подворье, помаленьку строилось, получало кое-что на трудодни.
Помню, как старуха-хозяйка, впервые за свою колхозную жизнь получив на трудодни немного муки, угощала нас с Ниной теплыми лепешками и молоком. Угощала и плакала, глядя на нас – здоровых, веселых, молодых. О чем она плакала? О погибшем на войне сыне; о порушенном некогда в начале тридцатых справном семейном хозяйстве, следы которого были видны и в размерах просторного пятистенка, и в обширном полуразрушенном подворье; о своей уходящей скудной жизни, прошедшей в непосильном труде? О многом может плакать одинокая деревенская старуха.
Конечно же, я видел все это, сострадая и разделяя драму народной жизни, не отделяя ее от себя. Ведь и у меня было нищее послевоенное существование на городской окраине, репрессированный отец, замученная непосильным трудом мать, одна воспитывавшая трех детей… Город нес свой крест. Но все виденное, пережитое заслонялось, сглаживалось в юношеском сознании романтическим флером, книжной образованностью и тем пиром мировой культуры, который открывался моему поколению после запретов на все мало-мальски яркое, самобытное, выходящее за рамки идеологического догмата.
Я жил как бы в двух несоприкасающихся плоскостях – реальной, житейской, где было мое собственное скудное бытие, эти нищие деревни, и в мире книжном, полном молодых надежд и страстей.
Казалось, что подобная несоприкасаемость двух измерений, двух видений мира была свойственна и общественному сознанию. На страницах газет разворачивался совсем иной мир – яркий, красочный, нарядный. Летом 1956 года мы любовались портретами приехавших в Москву иранского шаха с супругой. Восточная красавица Сорейя и сухощавый, подтянутый в своей военной форме Мохаммед Реза Пехлеви. Их принимали Ворошилов и Булганин.
«Правда» была заполнена победными рапортами – то Молдавия сообщала, что за полгода выполнила план по животноводству, то целина радовала своим миллиардом пудов зерна. И Хрущев в вышитой косоворотке, подпоясанной ремешком, стоял, подняв в ораторском азарте руку, на трибуне в Алма-Ате. Прямо-таки ностальгические ветры обвевают меня, старика, под шелест газетных страниц.
Но пора выбираться в нашем повествовании из событий более чем полувековой давности во времена перестроечные.
Мясная электричка
К середине восьмидесятых годов Ярославль слыл одним из самых голодных городов России. Впрочем, зря я, наверное, так говорю. Могло возопить Поволжье, Урал. «Вы что… У ярославцев же Москва под боком, электричка, наверное, ходит». Верно, ходила электричка.
Была она не всегда. Помнится, в молодости ездил я на обычных паровых поездах. Забьешься на третью полку (сейчас и не пойму – как там помещался, чем дышал), лежишь, слушаешь обычные крестьянские разговоры – о погоде, о ценах, всякие деревенские истории – да и задремлешь.
Когда пустили электричку, уж и не упомню. В шестидесятые – семидесятые годы многие города центра России стали соединяться со столицей поездами с электрической тягой. Секретари обкомов изо всех сил, словно соревнуясь друг с другом, пробивали этот вид сообщения, усматривая в том свою первоочередную заботу о подопечных им жителях. Продовольственные программы сбудутся ли, нет ли, а Москву без харчей не оставят, стало быть, и окрестные города не пропадут.
Ярославский поезд был на особицу. Не жесткие деревянные лавки с катающимися под ними пустыми бутылками, да проплеванный узкий проход, а мягкие самолетного типа кресла, чистота, сдержанные, еле слышные разговоры хорошо одетых горожан. Только кровавые потеки на полу из чемоданов и рюкзаков говорили об истинном предназначении поезда, который так и называли в городе «мясным».
Невольно, бывало, вздохнешь: область, которая вошла в историю отечественного сельского хозяйства как родина знаменитой романовской овцы, ярославской породы крупного рогатого скота и брейтовской свиньи, область, всегда считавшаяся одним из заповедных краев российского животноводства, где на вольных лугах и щедрых сенокосах откармливались прекрасные стада, возит мясо и сыр из Москвы.
Дорога
В те годы мои ярославские заботы делил со мной собкор газеты «Сельская жизнь», где и я тогда работал, Борис Васильевич Свищев. За прожитые полвека его крепко помотало по стране, был ветеринарным врачом на Сахалине, партийным работником на Урале, представлял газету в Костроме, а потом перебрался в Ярославль. Некий ностальгический комплекс, а по моим наблюдениям такой комплекс часто свойственен наскитавшимся людям, он испытывал к Челябинску, где прошли его молодые годы. Там и люди интереснее, и хозяйства крепче, и жить здоровее. Поэтому во многие наши разговоры и споры часто вставлялся аргумент: «А у нас в Челябинске…». Эта идеализация малой родины трогательно дополняла его облик.
В один из дней командировки, а дело происходило, напомню, летом 1987 года, отправились мы со Свищевым на северо-восток области, в Любимский район, относящийся к числу «лежачих». Поехали мы туда, однако, не для того, чтобы лишний раз оплакивать вымирающую деревню. Хотелось потолковать о том, что же делать с такими нищими колхозами. Соответственно и вопросы подобные задавать мы решили в самом глухоманном углу района – в деревне Слобода, у которой находятся развалины монастыря, описанные в начале нашего повествования.
Надо сказать, что и в старину любимские земли кормили своих обитателей не густо, здесь издавна процветали ремесла и отходничество. В конце девятнадцатого века до половины мужского населения работали по найму в крупных городах, больше всего в Петербурге. Ну а теперь каждый год население района сокращается, примерно, на сотни человек. Старики – на тот свет, молодежь – в город. Так что же, выходит, лет через тридцать здесь пустыня? Неужели мы присутствуем при финале драматической и измеряемой многими столетиями истории крестьянского материка? Не может быть, чтоб не нашелся выход из тупика, в который загнала всех нас история.
– Ждет нас Кудряшов, первый секретарь райкома, завтра, – позвонил мне в гостиницу Свищев. – С ним и поедем.
– Резиновые сапоги-то у вас есть? – спросил Кудряшов, когда мы в девять утра вошли к нему в кабинет. – Ну не беда. У меня дома пар пять.
Съездили за сапогами, переобулись. Потом отправились за другой машиной, чтоб было кому дергать, когда застрянем. Собирались как в экспедицию. Впереди мы с худеньким кудряшовским Сережей за рулем, за нами уазик районной ветеринарной службы с шофером постарше. В нашем УАЗе сзади гремели пила, лопаты, топоры – полный шанцевый инструмент.
Тронулись наконец. До железнодорожного переезда – асфальт. Можно поговорить. Вот когда я разгляжу как следует нашего хозяина.
Ему под пятьдесят. Лысеющий, с крупным обветренным лицом, с грубовато громкоголосым костромским (он родился в костромской деревне) выговором – «Быва-ат», «Наревисси» (в смысле наревешься). Никакой раздобрелости, оплывшей чиновной стати – поджарый, крепкий мужик (дешевый коричневый плащ и сапоги – нормальная его одежда), в характере чувствуется азартность, в трудный момент садится за руль – штурмануть крутой пригорок.
По образованию инженер-механик. В районе – четверть века, то есть почти всю послеинститутскую жизнь. Был начальником сельхозтехники, председателем райисполкома. При всем том провинциализм в нем не ощутим. Со вниманием и доброжелательством вслушивается в наши со Свищевым диалоги о самодеятельном инициативном крестьянине, который на подряде или аренде (о собственности на землю тогда, в 1987 году, если и говорили, то вполголоса) растит скот, пашет землю и свободно кооперируется с другими такими же крестьянами в закупке техники, кредите, сбыте продукции. Вместе с нами размышляет о том, как перекинуть мостки к таким формам хозяйствования от нынешних колхозных с их зажатостью всякой инициативы и привычным для всех нас административным диктатом.
А уж ему-то, сельскому партийному секретарю, этот диктат ведом. Каких только указаний не приходилось выполнять за четверть века, каких хозяйственных кампаний не пережил район. То в этом краю великолепных трав велено расширять зерновой клин, да как – до шестидесяти пяти процентов пашни пускать под зерновые. Стране нужен хлеб! Но здесь он всегда родился неважно. Вот и приходилось распахивать знаменитые местные клевера…
Или кампания по сооружению крупных животноводческих комплексов. При бездорожье-то окрестном стягивать скот под одну крышу. Как корма подвозить, как людям при мелком расселении на работу ходить? Хочешь не хочешь – выполняй.
Мелиорация… В год двести – триста гектаров осушали, а пятьсот – кустарником зарастало. Улучшать бы живые поля, а тут на новые – мощную технику бросают, оно так выгоднее мелиораторам – больше средств можно освоить. И зарывали те средства в землю. На дороги бы их пустить, какая польза людям бы выходила.
Дороги это непрекращающаяся боль, вечная мука. Зимой – с декабря по март – еще жизнь. А потом начинается… По два гусеничных трактора тянут тележку с бидонами молока. Раньше вертолетами возили да уж больно дорого. И погода у них вечно нелетная. Отказались от вертолетов.
Но вот кончается асфальт, а вместе с ним и разговоры, ибо предельная физическая и нервная собранность требуется не только от водителя, но и от пассажиров – так швыряют нас из угла в угол эти огромные разбитые тракторами колеи, пласты размокшей глины, из которых, кажется, никакая машина не выберется, трактор не вывезет, а наш уазик вывозит – ревет, буксует, бьется, но вывозит. «Нива», говорят, на таких дорогах недели не выдерживает. Спасибо создателям УАЗа – экую безотказную машину построили.
Ныряем в огромные лужи – коричневая вода шумит, как морской прибой, расступаясь под колесами. Начались лесные объезды – мокрые еловые ветви хлещут по ветровому стеклу, заставляя инстинктивно пригибаться. Едем по узкой тропе, виляющей среди сосняка, переправляемся через ручьи, буксуем в болотах.
– Это еще ничего, – посмеивается Кудряшов. – Вот в «Заре коммунизма» – там действительно дорога. Только пешком… Вчера председатель райисполкома ушел туда собрание проводить. А кого пошлешь – девчонок-инструкторов? Я, когда управлял сельхозтехникой, к «Рассвету» был прикреплен. Так бывало до Никши доедешь, а там двенадцать километров идешь – собрание проводить.
Господи помилуй, такой путь пешком проделать, такие муки претерпеть, чтобы сказать людям все, что им и без него известно. Собрание проводить…
Застреваем. Ни надсадный рев двигателя, ни бешеное вращение руля – ничего не помогает. Коричневая грязь летит из-под колес и наш многострадальный уазик садится все глубже. Вылезаем, проваливаясь по колено, прицепляем трос к задней машине.
– Рывочком!
С третьего рывка выползаем.
– Это еще ничего. Никша впереди.
Я уж с тревогой жду эту Никшу. Оказывается, небольшая речушка. Перед мостом гигантские колеи подернуты желтой водой. Кудряшов идет вперед, осторожно промеряя ногами глубину.
– Сережа! Давай пилу.
Мы со Свищевым валим поодаль от обочины небольшие ветлы, рядом с дорогой все спилено – только пеньки торчат. Остальные обрубают ветки, кидают в воду стволы, прыгают на них, проверяя прочность, словом, гатят дорогу. Кудряшов сам садится за руль и осторожненько, ювелирно вращая баранку, переезжает. Похоже, что он в своей стихии – возбужденный, вспотевший, без плаща и пиджака – в одной рубашке.
Считаем, сколько ж надо денег, чтобы все центральные усадьбы соединить асфальтом с райцентром – двадцать два миллиона. А все капвложения района за пятилетку – миллионов пять.
Включили радио. Поплыли звуки Вивальди. Скрипки рвали душу сладкозвучным ладом, старинной гармонией с миром. А за окном машины все то же – чудовищная дорога да появившийся рядок заброшенных изб.
– Была деревня Рылово и нет ее, – вздохнул Кудряшов. – Восемь пустых домов стоят. Растаскиваем помаленьку.
А как в прежние времена здесь ездили? И напоминаешь себе: не было ж тяжелых машин, что рвут сейчас дорогу в клочья. Лошадь с повозкой проходила, не оставляя таких страшных следов. В свой срок земля подсыхала. Современная-то техника требует и путей современных – бетона, асфальта. А то трактор из двадцатого века, а дорога – из девятнадцатого.
Перед Ананьевым Починком – первой деревней, входящей в колхоз «Рассвет», послышался шум трактора. Из высокой кабины выпрыгнул крепкий веселый пожилой мужик, похлопал Кудряшова по плечу.
– Велено, Александрович, тебя встретить. А то застрянешь ты у нас.
Поехали вслед за трактором. Спокойнее стало.
Ананьев Починок. На высоких подклетях с небольшими окошками, бревенчатые, тусклые от дождей и старости дома. Кое-где наличники подкрашены – значит, живут. Иные заколочены, а то и крыша уж провалилась. Коровник с распахнутой дверью. Однако мы уже около четырех часов в пути. Двадцать два километра одолели. Ох, дорожка-дороженька!
Монастырскими руинами замаячила Слобода – центр «Рассвета».
– В тридцатые годы здесь хороший колхоз был, богатый, луга какие заливные. «Власть советов» назывался, – сказал Кудряшов. – Тут ведь через реку на лодке переправился, час по шоссе – и Кострома. А за рекой колхоз «Сандагорский» к Костромской области относится. Крепкий, развитой, на дороге стоит.
– Давно уж разорился «Сандагорский», – вмешался Свищев, в собкоровскую зону которого входили и костромские земли. – И народ оттуда бежит, даром что на шоссе стоит.
– Разве? – удивился Кудряшов. – А мы-то все думаем: за рекой – там жизнь.
Остановились на задах чьей-то усадьбы, помыли в луже сапоги. Из-за угла дома вышел ладный круглолицый лет сорока человек с хмурым лицом и озабоченными, какими-то тоскующими глазами. Молча пожал нам руки и также, слова не говоря, повел в новое кирпичное здание конторы. Это и был человек, на котором здесь все держалось, – председатель Николай Федорович Шаров.
Дальше ехать некуда
Колхозная контора. Две смежные комнаты, тесно уставленные столами. За одним щелкает счетами жена Шарова – Людмила Николаевна – и главный экономист, и секретарь парторганизации, и «жнец, и швец, и на дуде игрец». Так, во всяком случае, говорит Кудряшов, имея в виду, что Людмиле Николаевне приходится и заболевших доярок подменять, и в поле работать. Подтянулись в контору еще и два старика: бывший директор льнозавода, приехавший на тракторе теленка покупать, и некий любознательный местный пенсионер.
Вообще же никакого оживления и интереса у Шаровых приезд первого секретаря райкома с двумя корреспондентами центральной газеты не вызвал. Так бывает в самых лежачих колхозах, где всякая надежда на лучшее потеряна. Это у преуспевающего хозяина есть расчет на районного начальника – все что-нибудь выпросишь – и от газетной корреспонденции, если она не критикует, польза есть, бедному тоже многое в таких визитах небезразлично, а вот совсем уж лежачему – ему все равно.
Здесь же мы, похоже, находились на дне колхозной жизни, у последней точки реализации идеи, которую начали воплощать шестьдесят лет назад. Где-то там – животноводческие комплексы, дворцы культуры – вся казовая показушная сторона колхозной действительности, здесь – распахнутые ворота полуразвалившегося коровника, почерневшие от старости избы и у каждой второй заколочены окна. Дальше ехать некуда.
Все, о чем мы говорили с Шаровыми, подтверждало это ощущение дна, конца. В колхозе числится семь деревень, но, может быть, правильнее считать пять. Две практически вымерли. Число дворов – опять же как считать. По сельсоветовским спискам – 118. Но 39 из них – нежилые. Жителей – двести. Работников – четверть. Три четверти – старики, детей так мало, что школу уж лет пятнадцать как закрыли. Несколько ребятишек ходят зимой через реку – кто через Обнору в село Каргановодругого колхоза, а дочь Шаровых, перешедшая в десятый класс, – через Кострому в Сандагору, в другую область. Осенью девочка плывет на лодке, преодолевает метров двести водной глади, зимой – по льду. Весной же, в ледоход, приходится пропускать занятия. Припомнилось, как в фильме «Архангельский мужик» показали дочь героя этого фильма Сивкова, точно так же переправлявшуюся через реку в школу. Островная жизнь. Современные Робинзоны.
Эта робинзонада накладывает свой отпечаток и на производство. Главный его продукт – молоко – в сущности девать некуда. Был когда-то в незапамятные времена в Ананьевом Починке свой сырозавод – закрыли. Летом в самую молочную пору вези надои или в Любим на тракторах по тому пути, который мы только что преодолели, или опять же переправляй на лодке, когда высокая вода, через Обнору в колхоз имени Ленина, там есть приемный пункт. И в том, и в другом случае часто сдают, как говорят молочники, кисляк. А уж что мало его, – каждая из 180 коров дает в среднем 1760 килограммов за год (от хорошей козы можно получить больше тысячи литров) – про то уж и говорить нечего.
Колхоз, разумеется, по уши в долгах. Возврат шестисот тысяч рублей отсрочен до двухтысячного года. Никто всерьез этого срока не воспринимает. Какая отдача, из чего тут отдавать? За молоко государство доплачивает. Себестоимость литра – тридцать четыре копейки, а продажная цена – шестьдесят. От такой дотации хоть какие-то деньги в колхозной кассе заводятся. Но и это не вся помощь. Есть шефская. Ярославское объединение «Лакокраска» постоянно держит здесь своих людей. То корма заготавливать человек по тридцать наезжают, то сенной сарай строят. «Хотя и сами нищие, – заметил всезнающий Свищев. – Без жилья сидят».
Характерно, что при такой бедности и малой численности работников колхоз тем не менее копирует структуру управления крупных хозяйств. Из сорока восьми работающих – семь управленцев и конторщиков: агроном, зоотехник, экономист, председатель – все как у людей.
Постепенно мы начинаем подходить к цели нашего приезда.
– Ну вот снимут с тебя дотацию на молоко, как жить будешь? – спрашивает Кудряшов.
– Как жить? Да по миру пойдем, – отвечает Шаров. – Уже и сейчас на зарплату едва хватает. Мы, конечно, кое-что придумываем. Тут появились у меня люди с Кавказа, предлагают штакетник, черенки для лопат делать. Лесу-то много, пилорама есть. Пусть наладят дело, а потом мы и сами его переймем. Хоть что-то заработать – скотный двор в Ананьеве построить, он совсем развалился, дороги малость оканавить да щебню подбросить. И все же без дотации – труба.
– Ты смотри поосторожнее с ними, с кавказцами-то. Как там по закону-то? Не влипнуть бы.
– Смотрю.
– Ну, а все же, – вступаю я в разговор. – Если бы вам предоставили самостоятельность. Что хотите, производите, где хотите, сбывайте. Как бы вы действовали?
Он поворачивается ко мне, но не смотрит в лицо, а уставился в пол, хмурится, морщины набегают на лоб, видно, силится понять, что же такое мы привезли ему.
– Что ж кулаком, что ли, становиться?
– Почему кулаком? Кулак это тот, кто, по меньшей мере, наемный труд применял.
– А кого потрошили в тридцатом?
– Да думай ты смелее! – прикрикнул Кудряшов. – Вся страна думает. Что дальше делать? Вон люди из Москвы приехали.
– А план у меня будет? – начинает расспрашивать председатель, мало-помалу принимая условия игры. – А дорогу построят?
– С дорогой, брат, сложно, – отвечает Кудряшов. – Сто десять километров надо строить по району. Двадцать два миллиона рублей.
– Не построят, – померкнув лицом, говорит председатель, – уезжать придется.
– Брось, брось, Николай Федорович.
– Да что там говорить…
И снова приходится выводить его из состояния безнадежности, снова втолковывать: речь о кооперативе – никто ему не диктует ни площади посевные, ни объемы. Что хочешь – производи – лишь бы съестное, не одни же черенки для лопат. Дорога со временем будет. Пока хоть маленький сырзаводик построить в колхозе, ведь был же он лет тридцать назад, понимали тогда люди – нельзя по бездорожью цельное молоко возить, сыр – иное дело.
Он снова оттаивает, откликается на наши прожекты, сначала недоверчивым хмыканьем, репликами, потом включается в разговор. Его одергивает жена, не отрываясь от счетов, кидает: «В кооперативе день и ночь работать надо, а у нас народ разбалованный», а у него уже разыгрывается постепенно воображение, начинает разливаться хозяйственная мечта.
Да, сыр это правильно. Масло убыточно, а сыр – дело выгодное. Мастера хорошего найти да оборудование… А пока хоть сепараторный пункт свой завести – свою первичную переработку молока наладить. В производстве же – зерновой клин сократить да на тех площадях семена трав начать выращивать, особенно клеверов. Какие здесь клевера были! На клеверном сене да на обмененных на семена концентратах иные надои пойдут. Не тысяча семьсот, а по три и больше тысячи килограммов. Значит, и коров сократить на треть по числу доярок, чтоб не шефам доить. С людьми же так – собрать в кулак лучших, которые действительно хотят работать, пусть их меньше будет, но чтоб люди, а не лодыри, пьяницы. Сейчас вон до чего дошло – просим: переселенцев – зэков бывших, хоть их пришлите. Лен бы сеял, но не восемьдесят гектаров, а тридцать. Выбрал бы хорошие почвы, севооборот наладил, луга окультурил…